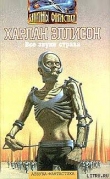Текст книги "Миры Харлана Эллисона. Том 2. На пути к забвению"
Автор книги: Харлан Эллисон
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 29 страниц)
Миры Харлана Эллисона
Том 2. На пути к забвению
Эта древняя новая религия
У меня нет рта, а я хочу кричать
Предисловие к российскому изданию
Для меня история написания «У меня нет рта…» и его последующего успеха есть классический пример самоисполнившегося пророчества.
Я никогда еще не излагал полностью свои чувства по поводу этого рассказа, хотя он стал одним из трех-четырех произведений, наиболее тесно связанных с «репутацией», которую я ухитрился приобрести, моим наиболее «знаменитым» рассказом. (Прошу прощения за кавычки; я воспринимаю слова, заключенные в них, более чем скептически. Кавычки призваны указывать, что эти слова используют «другие», подразумевая по меньшей мере «общеизвестное».)
Вероятно, за каждое из 6500 слов, из которых состоит этот рассказ, я получил больше, чем за любую другую из написанных мною вещей – возможно, за исключением «Покайся, Арлекин…», впервые опубликованного Фредериком Полом. И это не случайность, потому что этот рассказ не появился бы на свет, если бы Фред не купил и не опубликовал «Арлекина» в 1965 году. Но… об этом потом.
«У меня нет рта…» был переведен на польский, русский, немецкий, арабский, испанский, японский, эсперанто, французский, китайский, норвежский, датский, иврит, финский, шведский, банту, португальский… и на многие другие языки, которые у меня нет места или времени здесь перечислять. Несколько раз его адаптировали для сцены, а Роберт Сильверберг даже переделал его в трехактную пьесу для постановки (не на Бродвее). Британский кинопродюсер Макс Розенберг попытался назвать так же задуманный им фильм ужасов; но ему пришлось остановиться, когда Федеральный окружной суд Лос-Анджелеса постановил: хотя авторскими правами такое название защитить невозможно, оно все же может быть защищено, поэтому Розенбергу пришлось назвать свой фильм иначе. Кажется, он назывался «Ведро крови», но я могу и ошибаться. (Похоже, я становлюсь слишком умен. На самом деле он назывался «А теперь начинаются вопли», вышел в 1973 году.)
Рассказ включался в хрестоматии для университетов и колледжей, его перепечатывали журналы столь разные, как «Knave» и «Datamation». После публикации в последнем – ведущем журнале промышленности по производству оборудования для автоматической обработки информации – рассказ вызвал бурю разгневанных писем программистов и системных аналитиков, которые сочли уравнивание Бога со Злобной Машиной (как это изобразил я) неслыханной ересью. Они были не одиноки в ощущении, что в рассказе есть нечто подрывное и губительное: учительница старших классов из небольшого городка в Вайоминге потеряла работу, потому что включила его в программу для чтения для своих учеников; он был осужден существовавшим тогда на деньги католической церкви «Национальным бюро пристойной литературы»; Американская нацистская партия (или как там еще эти придурки себя называют) прислала мне разорванный экземпляр книги с этим рассказом и записку, в которой заверяла меня, что я безбожный, блин, язычник, который теперь внесен в самое начало их списка кандидатов на тот свет за распространение такой безбожной, блин, и языческой пропаганды.
Тем не менее за прошедшие более чем тридцать лет рассказ был перепечатан несколько тысяч раз по всему миру, появился в многочисленных антологиях «знаменитой литературы» (опять кавычки) для колледжей и был избран одним из четырех классических американских рассказов, вошедших в серию специальных художественных плакатов, выпущенных «Ассоциацией рекламных полиграфистов Америки». Он стал объектом нескольких ученых трактатов, представленных специалистами на престижных литературных семинарах. Весной 1976 года в «Журнале общего образования» джентльмен по фамилии Брэди препарировал его в монографии под названием «Компьютер как символ Бога: зловещий Исход Эллисона». Боюсь, я мало что в ней понял. Ах, но в журнале «Диоген» (1974, № 85) джентльмен по фамилии Оуэр обнажил подкожные слои философского восприятия этого рассказа в длинном эссе под названием «Скованные умы: два образа компьютера в научной фантастике». Ах! Это оказались еще те размышлизмы! Второй из упомянутых трудов я не понял даже больше, чем не понял первый.
Рассказ, вернее его название, породил и множество пародий: «У меня нет таланта, но я должен писать», «У меня нет птички, и я должен умереть», и даже настоящую жемчужину, озаглавленную «У меня нет носа, но я должен чихнуть», написанную неким мистером Орром в 1969 году… это лишь немногие примеры заблудших детей-клонов, бродивших следом за исходными 6500 словами по увитым плющом залам литературного совершенства.
Семь раз рассказ выбирался для сценического воплощения или как исходный материал для фильма. Однако до сих пор никто, кажется, так и не смог понять, как его следует снимать или играть. Если мне удастся отыскать доверчивого, но богатого ангела, то я, может быть, сделаю это сам.
Ссылки на рассказ появлялись в кроссвордах как в «Журнале фэнтези и научной фантастики» (что логично), так и в «Спутнике телезрителя» (что поразительно). Лондонская «Таймс» однажды сослалась на него как на «едкое обличение мультинациональных корпораций, которые правят нашими жизнями как обезумевшие боги». Оцените-ка такое.
И еще я однажды побывал на конклаве «Ассоциации современного языка», где блестящий ученый-иезуит представлял весомое исследование этой скромной фабулы и в ходе своего доклада упоминал катарсис, метафизическое самомнение, преднамеренное введение читателя в заблуждение, нарастающую повторяемость, chanson de geste, гонгоризм, Новый Гуманизм, юнговские архетипы, символизм распятия и воскрешения и вечного всеобщего любимца – основной конфликт между Аполлоном и Дионисом.
Когда ученый муж завершил доклад, меня попросили его прокомментировать. Если бы в зале присутствовали Мэри Шелли или Лев Толстой, то их, полагаю, тоже попросили бы оценить анализ своих произведений. К сожалению, они, по веским причинам, отсутствовали.
Я встал, отлично сознавая, что сейчас полетят пух и перья. Но я прерву пересказ этого анекдота, чтобы пояснить мотивы Автора.
Серьезное критическое внимание со стороны академиков имеет как свои преимущества, так и недостатки. По поводу такой ситуации более подробно и глубоко уже высказывались другие. И хотя я весьма приветствую подобное внимание на уровне возвышения авторского эго, его негативные аспекты я нахожу столь же неприятными и вредными, как, скажем, устаревшая и предвзятая убежденность покойного Лестера Дель Рея в том, что эрудиция, внимание к стилю и высшее образование навсегда калечат писателя и он уже никогда не сможет написать нечто, вызывающее «ощущение чуда». Подобная зашоренная убежденность – а Лестер упорствовал в своих заблуждениях и пропагандировал их во всю мощь своего голоса добрых лет шестьдесят, и в результате его позицию стали разделять многие другие писатели его поколения – является не меньшей одержимостью, чем трепетная ловля блох, характерная для младших профессоров, решивших прославиться (опубликоваться или умереть!) на манипуляциях с текстами современных фантастов. На равнинах творчества Фицджеральда, Вулфа, Форда Мэдокса Форда и Фолкнера почва уже вспахана, но еще можно сделать себе имя, если человек способен наполнить достаточным смыслом работы Диша, Барри Молзберга, Ле Гуин, Хайнлайна и Филипа Дика.
Однако проклятие, сопровождающее подобные попытки, принадлежит к числу тех, что чаще обрушиваются не на исследователя, а на объект исследования. Критик зачастую превращается в бациллоносителя, а болезнь, которой он заражает писателя, есть калечащая и иногда смертельная зараза, известная под названием «принимать себя всерьез».
Я никогда не соглашусь с лицемерным чванством утверждения, будто пишу, зарабатывая себе «на пиво». Для этого я отношусь к своей работе слишком серьезно (хотя мне трудно воспринимать слишком серьезно себя) и работаю слишком упорно. Нет, то, что я делаю, я делаю чистыми руками и со спокойствием, о котором говорил Бальзак. Но мне кажется, что чувствительность, характерная для моих вещей, в значительной части подпитывается чем-то вроде невинности: твердой решимостью игнорировать любые голоса, звучащие в коридорах Потомков. Я уверен, что, придерживаясь подобной позиции, смогу избежать судьбы тех писателей, которые настолько уверовали в свою значительность, что стали частью литературного аппарата, утратили желание попадать в неприятные ситуации, гневить своих читателей, шокировать даже себя и вторгаться на опасные территории.
Роберт Кувер сказал: «…роль автора, творца прозы и мифологизатора, заключается в том, чтобы быть творческой искрой в этом процессе обновления: именно он рвет прежнее повествование на части, произносит непроизносимое, заставляет почву под ногами сотрясаться, а затем перетасовывает все разрозненные кусочки и вновь создает из них текст».
Еще короче сказал Артур Миллер: «Общество и человек есть враги, зависящие друг от друга, и труд писателя сводится к вечному определению и защите этого парадокса – не позволяя, упаси Боже, ему разрешиться».
Потеря невинности не дает писателю – некогда опасному – производить те действия и добиваться тех результатов, о которых говорили Кувер и Миллер. А груз тщеславия, отягощающий работу автора, если он обращает внимание на комментарии критиков, неизбежно оказывает разрушающий эффект на его невинность; он блокирует его способность дать пинка в зад.
И поэтому я, не просто ради самозащиты, но и следуя своему хорошо развитому чувству выживания, сопротивляюсь любым попыткам литературных философов приписать моим мотивам академическое благородство. (Хотя я и сознаю тяжкую реальность того факта, что если и получу хоть какой-то шанс остаться в памяти Потомков, то лишь благодаря вниманию литературных критиков.)
Вот почему, когда я поднялся, чтобы ответить тому достойному, благожелательному и льстивому ученому иезуиту, в сердце у меня царил хаос.
Я сказал:
– Я выслушал все это бахвальство, все это увешивание сюжета с незамысловатой моралью никчемными побрякушками глупого символизма и напыщенного обскурантизма, и если честно, святой отец, то я считаю, что вы по уши напичканы всякой чушью.
Те, кто со мной знаком, знают, что в моменты большого эмоционального напряжения я склонен выражаться в манере, весьма напоминающей покойного У. Ч. Филдса. Слова «трус, жонглер и фигляр» я уже держал наготове.
Добрейший иезуит надулся и запыхтел. Оскорбился.
Тогда я стал разбирать по косточкам все его предположения и инсинуации (все они должны были представить меня как «серьезного писателя»). Буквально все, что он выдавал за подтекст моего рассказа, все его закрученные и тарабарские интерпретации мне удалось представить в качестве вымыслов его обширной эрудиции (и витания в облаках), к которым Автор никакого отношения не имеет.
Послышались смешки. Обида нарастала. Возмущение достигло новых высот. Пятна на репутации расплывались все шире. И наконец, отступив на обычно неприступную позицию, которую академические языковеды используют в качестве последней баррикады, святой отец поставил меня на место таким доводом:
– Подсознание глубоко и таинственно. Даже сам автор может не сознавать все уровни смысла, заложенные в том, что он пишет.
Менее склонный к выживанию и, возможно, более добрый человек мог бы проглотить эти слова и отступить; но я не такой… и не отступил.
– Святой отец, если вы столь безупречно разбираетесь в тончайших нюансах моего рассказа, если вы заметили в нем то, о чем я даже не подозревал… то как вышло, что вы не заметили того, что женщина в рассказе чернокожая?
Иезуит снова надулся и запыхтел. Изумился:
– Чернокожая? Чернокожая? Где это написано?
– Да вот же. Открытым текстом: «Черты ее лица, словно вырезанного из черного дерева, резко выделялись на фоне ослепительно белого снега». Никакого подтекста, никакого символизма, просто черное на белом фоне. В двух местах.
Он секунду подумал.
– Гм-м, да, конечно, я это увидел! Но подумал, что вы имели в виду…
И я победно развел руками. Что и требовалось доказать. Больше меня на конференции «АСЯ» не приглашали.
Во многом именно из-за этого рассказа все мною написанное назвали «жестоким». Кровавым. Полным ненависти. Негативным. Когда я говорю на лекции, что «У меня нет рта…» рассказ позитивный, гуманистический и оптимистический, то неизменно наталкиваюсь на смущенные и недоверчивые взгляды. Долгие годы для множества читателей этот рассказ был примером тщетности и отвратительного унижения человеческого духа. Впечатление от завязки и несколько романтизированный ужас развязки скрыли от них заложенную в рассказ суть, его главное послание к читателю… которое я намеревался сделать позитивным и оптимистическим. То, что большая часть читателей не смогла ощутить этот аспект произведения, вынуждает меня разрываться между самобичеванием за неспособность растолковать собственную мысль… и ненавистью к читателям за то, что они читают слишком быстро и поверхностно. (Последнее, присущее подавляющей части вымирающего вида под названием «читатели», есть симптом пониженной способности к усвоению прочитанного, приобретенной за годы на диете из книжонок серии «Нежная ярость любви», Барбары Картленд и Джеки Коллинз, раздутых рассказов, называемых романами (например, Кен Фоллетт и Сидни Шелдон), и неряшливых трах-бах приключений в мягких обложках, состряпанных полуграмотными авторами ужастиков и фантастики. Чтобы быть справедливым, отмечу – создается впечатление, будто я возвышаю себя в собственных глазах, обвиняя читателей; но даже когда я пригвождаю себя к позорному столбу за упорное несовершенство подобного рода со стороны части моей аудитории, возлагая отчасти вину за это на далеко не безупречного автора, я обнаруживаю, что браню себя за попытку быть мягким. И это вовсе не кажется мне уголовным преступлением. Если описать некоторое количество обезглавливаний и автокатастроф, обязательно появится страстное желание доказать что-либо непрямыми средствами. Головоломка какая-то.)
Пытаясь объяснить все упомянутое выше – то, что предшествовало замечаниям в скобках, – прошу вас задуматься над двумя элементами «У меня нет рта…», которые, к моему изумлению, ускользнули от внимания большинства читателей.
Во-первых, рассмотрим такой персонаж, как Эллен.
Время от времени мне приходится отбиваться от обвинений в том, что мои рассказы отражают ненависть автора к женщинам. Мне хотелось бы, чтобы мои руки были абсолютно чисты в смысле сексизма, проявляющегося в моих произведениях, но я, увы, родился в 1934 году. Я вырос в Америке в сороковые годы, и, хотя не могу заявить, что ненавижу женщин, ряд моих ранних произведений содержит шовинистические взгляды, которые разделялись мужчинами-американцами, родившимися и выросшими в те времена и в той стране. Я не могу выбросить эти элементы из моих ранних рассказов. И не буду. Они отражают то, как я думал в те годы. «Люди наиболее интересны именно тогда, когда ведут себя наиболее гадко». А меня всегда притягивали интересные характеры. Иногда это вынуждало меня писать о неприятных женщинах, равно как и о неприятных мужчинах. Я и сейчас предпочитаю и считаю захватывающими персонажи, которые бредут, спотыкаясь, сквозь «потемки души», как сказал Скотт Фицджеральд, и полагаю, что так будет всегда. Поэтому мне пришлось смириться с пониманием того, что читающие нерегулярно – те, кто модно либерален, или те, чья склонность занимать крайние позиции мешает им понять, как опасно они калечат творческий интеллект, настаивая на рабской уравниловке для всех меньшинств даже в том случае, когда автор пишет об индивидууме, а не демографической группе – включая тех читателей, кто только-только освободился, а сознание у них всего пятнадцать минут как пробудилось, и кто интерпретирует мои рассказы, пребывая в тускло освещенном туннеле собственного мировоззрения.
Но, возвращаясь к рассказам, написанным, скажем, после 1967 года, я обнаруживаю, что Автор кое-чему научился. Для этого потребовался лишь человек, указавший на кое-какие огрехи. (Для историков сообщу, что моего учителя звали Мэри Рейнгольц.) Женщины в моих рассказах стали лучше выписанными, более разнообразными и, как мне хочется думать, столь же отражающими реальность, как и мужчины. Однако, поздравляя себя с этим, не могу не отметить и один существенный недостаток. Он следующий: быть может, мне и удастся убедить беспристрастных присяжных в том, что я не женоненавистник… но избавиться от ярлыка мизантропа мне не удастся никогда.
Да, во мне живет, черт бы ее побрал, смешанная с ненавистью любовь к человечеству. В романе Венса Буржали «Игра, в которую играют мужчины» я прочел фразу, которая подходит ко мне идеально: «…он был… полон ярости и любви, а еще отвращения к человечеству, которое периодически накатывало и отступало подобно приступам малярии…»
Как и Питерс, персонаж Буржали, я должен признаться в этом двойственном отношении к человечеству. Наш биологический вид, обладая способностью к теплоте, храбрости, дружбе, достоинству и творчеству, слишком часто выбирает вместо них аморальность, трусость, безответственность, снисходительность к собственным поступкам и отвратительную заурядность.
Ну как можно писать о людях, не становясь жертвой подобной мизантропии?
Тем не менее, вспомнив свои произведения трех последних десятилетий, я обнаружил, что женщины мне удавались не хуже мужчин. В качестве примера, над которым я попросил бы вас поразмыслить, возьмем единственную женщину из «У меня нет рта…» – Эллен.
Если читать рассказ, пользуясь приемами скоростного чтения, то легко может создаться впечатление, что Эллен самолюбивая, склонная пофлиртовать и чрезвычайно жестокая сука. Почему бы и нет, разве автор не говорит, что она именно такая? Да, говорит. И поэтому я должен здесь объяснить то, что должен объяснить – причем все это имеется в тексте рассказа, и я не занимаюсь никакими интерпретациями или реинтерпретациями ради успокоения собственной совести, – женщинам, воспринимающим Эллен как классический пример моей «ненависти к женщинам». Но, как я уже упоминал выше, все как раз наоборот.
Подумайте сами: повествование ведется от первого лица – Теда, одного из группы людей, которых компьютер АМ поместил в центр Земли для пыток. Но, как я ясно указал в рассказе, и опять-таки устами Теда, компьютер так или иначе изменил каждого из этой группы. Машина их согнула, скрутила, искалечила тела или умы. Тед сам говорит, что превратился в параноика. Он был гуманистом, любил людей, но АМ так все переключил у него в голове, что теперь он воспринимает всех и все негативно. Это Тед, а не Автор оскорбляет Эллен и подвергает сомнению ее поступки и мотивации. Но если вы посмотрите на ее реальные поступки, то станет очевидно, что единственная личность в рассказе, сохранившая хоть какую-то доброту к другим, есть именно Эллен. Она плачет из-за них, пытается утешить и подбодрить, приносит им единственное тепло и облегчение в мире страданий, где они очутились. (Вспомнив свои ремарки отцу-иезуиту в рассказанном выше анекдоте, хочу отметить – немногие читатели осознали, что Эллен женщина чернокожая, хотя это сказано в рассказе открытым текстом. Теперь, уже задним числом, я вижу плюсы и минусы того, что сделал Эллен чернокожей. Сделав это, я проявил рефлекторный либерализм – вспомните, что рассказ я писал в 1965 году, когда и у меня, и у всей нации начала остро пробуждаться социальная совесть, – но я был уже достаточно опытным писателем, чтобы не выпячивать это. И фактически я, хотя и наделил эту представительницу многострадальной расы благородством, которым не обладают ее светлокожие товарищи по несчастью, сам проявил его до такой степени, что оно… оно, по сути, осталось незамеченным.)
Далее, именно Эллен присоединяется к Теду в освобождении-через-смерть, которое для них единственный способ бегства от пыток АМ. А когда наступает ее время умирать, она вновь демонстрирует не только свою героическую природу, но и осознание того, что это величайший акт доброты, который человек может совершить, чтобы избавить другого от вины за причиненную смерть. Я написал так:
«Эллен посмотрела на меня, черты ее лица, словно вырезанного из черного дерева, резко выделялись на фоне ослепительно белого снега. Весь ее вид, поза выдавали страх и одновременно мольбу. Я знал, что у нас есть еще одна минута.
И нанес ей удар. Эллен наклонилась ко мне, изо рта брызнула кровь. Я не понимал, что означает выражение ее лица, видимо, боль была слишком сильной и страдания исказили черты; но это могло быть благодарностью. Вполне возможно. Пожалуйста».
Ее мужество в тот момент лишь едва уступает мужеству Теда. Она знает, что АМ станет мстить и месть его окажется еще страшнее всего, что происходило до сих пор, и обрушится она на тех из еще оставшихся в живых, кто украл его живые игрушки; и все равно она освобождает Нимдека, рискуя собственной душой. Итак, можно увидеть, что все отрицательное, высказанное в адрес Эллен – и столь часто приписываемое Авторской «ненависти к женщинам», – есть лишь словесное проявление паранойи Теда, пробужденной в нем компьютером.
Наконец, когда дело доходит до последних оставшихся в живых, Тед демонстрирует свое незаурядное мужество и необыкновенное человеческое чувство самопожертвования, преодолевая при этом свое глубокое психическое расстройство, и доводит до конца финальный акт любви и самоотрицания. Он убивает Эллен. А она прощает его взглядом. Даже в последний, преисполненный боли момент своей жизни она показывает себя настолько высокой личностью, что освобождает его от ответственности за акт убийства.
Теперь настало время поговорить о втором элементе, который большинство читателей поняло неправильно; том аспекте этого произведения, в который я постарался вложить смысловой подтекст: о морали, если хотите.
Какой удручающий и тяжелый конец. Наоборот – бесконечно положительный и полный надежд.
Как я могу делать такие заявления, если рассказ кончается несколькими убийствами и неслыханным ужасом? Могу и делаю, потому что «У меня нет рта…» утверждает, что даже когда последняя надежда утеряна, когда наградой может стать лишь пытка и физическая боль, то все равно даже в самом униженном человеческом существе отыщется негасимая искра внутреннего достоинства, самопожертвования и олимпийского мужества, способная возвысить каждого из нас до высот благородства в его предельном выражении. Из всех качеств, приписываемых человечеству как общепризнанному этноцентрическому raison d’etre за тот предмет спора, которым мы обладаем, summatus, право переступать пределы во Вселенной… это, в моем понимании, есть единственно стоящий аргумент. Не обладание чувством юмора или способностью мечтать, не противостоящий большой палец, не маленькие серые клеточки, позволяющие нам создавать законы для управления самими собой. А именно искра потенциальной трансцендентности, приписываемой наиболее благожелательным богам. Этот замечательный аспект человеческого характера придает вес нашему утверждению о том, что мы заслуживаем высокого места в космическом пантеоне.
Даже полностью сознавая, что приговаривает себя к вечной пытке, Тед тем не менее лишает себя единственного, что могло бы снабдить его хотя бы ничтожно малым количеством товарищества, любви и сочувствия к подобной судьбе… единственного другого человеческого существа, оставшегося в живых на планете. Он освобождает Эллен… и приговаривает себя не только к вечным мукам, но и к одиночеству, никогда не прекращающемуся одиночеству. Теперь ему не с кем поговорить, не с кем разделить свою боль. Кто может сказать, что ужаснее: одиночество в масштабе, которого никогда не познают даже самые закоренелые мизантропы, или жуткая месть, которую обрушит на него безумный компьютер за то, что он лишил его игрушек-людей?
Это, в моем понимании, есть акт высшего героизма и демонстрация наиболее выдающегося качества, присущего человечеству. Да, компьютер уготовил для Теда воистину чудовищную, гнетущую и жуткую судьбу. Но подтекст ясно показывает, что Тед перехитрил компьютер; он оказался сильнее аморальных и нечеловеческих аспектов человеческой расы, которые были запрограммированы в машине и погубили мир. Тед, выступая парадигмой всего человечества, одолел то зло в нашей природе, которое и породило безумный образ компьютера. И оптимистическое послание, заложенное в концовку рассказа, откровенно утверждает: мы часто терпим неудачи и склонны к показухе… но мы безупречны в нашем мужестве и непобедимы в нашем благородстве: оба аспекта существуют внутри нас, и мы обладаем свободой воли, чтобы выбрать, что именно будет доминировать в наших действиях и тем самым сформирует нашу судьбу.
В основе всего этого лежит настойчивый мотив, очевидный во всех моих произведениях – о том, что мы можем уподобиться богам только в том случае, если станем стремиться к этой цели, карабкаться из тьмы к свету. Компьютер АМ воплощает не Бога – как это столь часто утверждают академические интерпретации этого рассказа, – а двойственную природу человеческой расы, созданной по образу Бога; а это включает и наличие демона внутри нас. Тед и его героический поступок в финальный пылающий момент решения также воплощает Бога; или по меньшей мере он есть идеализированное воплощение того, что есть потенциально богоподобного внутри нас.
(В качестве сноски: хотя меня вряд ли можно назвать теологическим авторитетом, которым мне пришлось бы быть, чтобы сознательно вставить в рассказ все те мистические нюансы, что мне приписывают академики, я отыскал блистательные параллели с моей философией в гностических текстах «Nag Hammadi» – пятидесяти двух проповедях, найденных в 1945 году и опубликованных лет через десять или пятнадцать. Эти коптские копии четвертого века с греческих оригиналов первого века утверждают, что Бог был всего лишь образом Истинного Бога – демиургом Платона; гностики верили в то, что имеются две традиции – одна открытая, а другая тайная. Это радикальный отход от базовой монотеистической доктрины Бога как Всемогущего Отца. И хотя подобные представления были отвергнуты ортодоксальными христианами в середине второго века, они каким-то образом кажутся более подходящими для сложного современного мира, чем окаменелый монотеизм, с которым имеют дело почти все теологи (за исключением Пола Тиллиха) в нашем столетии.)
Поэтому, когда – как заметил один критик – создается впечатление, будто Тед и подобные ему персонажи других рассказов «ради выживания преступают грань правильных или достойных поступков» и что «он лишается всего человеческого, что в нем имелось», я начинаю склоняться к мнению, что эти буквоеды слишком долго сдирали кору с деревьев, пытаясь прочитать на голых стволах послание природы, содержащееся в совокупности всего леса. Они увидели лишь насилие, и я предполагаю, что это их проблема, а не та, что присуща самому рассказу. Просто они из тех людей, кто полагает, будто вестерны Серджио Леоне – это фильмы о насилии.
Неправильно.
Когда в аудиториях колледжей, которые я часто обременяю своим присутствием, меня заваливают вопросами, то один из наиболее часто встречающихся звучит так:
– Откуда вы взяли идею рассказа «У меня нет рта, а я хочу кричать»?
И когда я абсолютно откровенно отвечаю, что понятия не имел, каким получится рассказ, когда сел его писать, то всегда вижу на лицах выражения в диапазоне от изумления до изумления. Изумление от того, что такой «шедевр» смог появиться на свет, когда Автор даже понятия не имел, за каким дьяволом сел стучать по клавишам. И изумление от того, что я говорю правду.
Но это самая что ни на есть правда.
Имелись две точки отсчета. На первую из них мне дал опереться мой друг Билл Ростлер, всемирно известный карикатурист, кинорежиссер, серьезный художник, путешественник по всему свету, писатель, любитель женщин, бонвиван и бывший скульптор. Те, кого небеса благословили хотя бы недолгим пребыванием в обществе Уильяма, смогут подтвердить, что он не только бесшабашная личность, с кем можно всласть повалять дурака и побеситься, но, кроме того, не может прожить и дня, не нарисовав хотя бы одну замечательную карикатуру.
И не только пудингообразных человечков, предающихся сексуальным и псевдосексуальным развлечениям, что сделало его по праву знаменитым в узком кругу самых разных поклонников… но и быстрые наброски, полные философской, а зачастую и сжимающей сердце серьезности. Один из таких набросков, изображающий сидящего куклообразного человечка без рта и строчкой-подписью «У меня нет рта, а я хочу кричать», Билл подарил мне в 1965 году. Я сохранил его и спросил Билла, не возражает ли он, если я использую подпись в качестве названия для рассказа, который могу когда-нибудь написать. Он дал добро.
Я куда-то отложил картинку. Затем через некоторое время прикрепил ее к квадратику черного картона, каким пользуются художники, и повесил на стенку неподалеку от машинки. Жил я тогда в «скворечнике» на Бушрод-лейн в Лос-Анджелесе.
В том же году, немного позже, ко мне заехал живший тогда в Сан-Диего художник по имени Деннис Смит. По его рисункам я написал несколько рассказов – мне с ходу вспомнились два: «Ясные глаза» и «Иллюзия для охотника на драконов». Деннис периодически приезжал ко мне из Сан-Диего, прихватывая папку с рисунками. Я довольно быстро их проглядывал и отбирал парочку таких, которые, как мне казалось, могли подтолкнуть меня написать рассказ. (Мне нравилось писать таким способом, имея уже готовую иллюстрацию, еще с тех дней, когда я работал для дешевых журнальчиков и должен был писать рассказы, соответствующие вычурному рисунку на обложке.)
Деннису, как мне кажется, тоже было немного лестно, что писатель использует его рисунки в качестве импульса для новых рассказов – в те дни он был еще многообещающим любителем, – к тому же у него оставалась надежда на то, что если мне удастся продать рассказ, то я уговорю журнал купить и его рисунок. (Я так поступал всегда, поэтому у него имелись все причины полагать, что так будет и дальше. Он был прав; так и было.)
В тот день летом 1965 года я вынул из его папки рисунок тушью. Он и оказался второй стартовой точкой для «У меня нет рта…» (Очевидно, судя по предисловию, написанному для первой публикации этого рассказа в сборнике в мягкой обложке, имелся и второй рисунок Смита, похожий на этот. Но он уже давно куда-то затерялся.)
Когда я увидел этот рисунок, то мгновенно связал его с подписью Ростлера и лишенным рта существом.