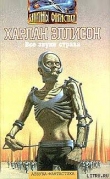Текст книги "Миры Харлана Эллисона. Том 2. На пути к забвению"
Автор книги: Харлан Эллисон
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 29 страниц)
Кордвайнер Берд открыл дверь. Обернувшись, с трудом разглядел фигуру старика, одиноко и беспомощно сидящего в темноте.
– Однако они погубили последнего писателя, дядя Кент. Опубликовали свою последнюю не-книгу. Теперь им предстоит почувствовать на себе когти… Берда!
И он ушел. В молчании белой комнаты шелестел лишь печальный шепот старика, горюющего о далеком, ушедшем навсегда времени.
«За один вечер было уничтожено все Нью-йоркское Литературное общество. Неизвестный мститель оставил лишь черное воронье перо на телах своих жертв и свершил над каждым, как сказали бы иные, некое правосудие. Издатель Майкл Корда найден в Центральном парке, затоптанный собственной лошадью. Том Конгдон, редактор „Даблдей“, который участвовал в создании „Челюстей“, обнаружен возле пруда метеорологической станции Центрального парка, где его загрызла до смерти стая пескарей. Джейсона и Барбару Эпштейнз из „Нью-Йоркского книжного обозрения“ нашли прикованными к стене в их роскошной квартире, они окончательно и бесповоротно лишились рассудка вследствие того, что были вынуждены слушать лекцию Уайта Макдональда, которую раз за разом проигрывал для них магнитофон. Эллейн Кауффман из „Салона Эллейн“ найдена растянутой на доске для разрезания хлеба в ресторане Ника Спаньола, ее закормили до смерти цыпленком табака. Джон Леонард и Харви Шапиро, бывший и нынешний редакторы „Книжного обозрения Нью-Йорк Таймc“, были раздеты догола, после чего их заперли на складе, где хранятся гранки – и под угрозой ужасной смерти, суть которой нам не дано узнать, были вынуждены пробиваться к выходу при помощи полиграфического шпона. Ни одному из них не удалось спастись. Но самое ужасное зверство произошло на Острове Свободы, в тайном помещении под Статуей».
Выдержки из репортажа Пита Хэмилла с радиостанции «Виллидж Войс»; 10 февраля 1976 года
Маленький человечек с глазами цвета голубого ласточкиного яйца и прямыми черными волосами стоял на палубе нью-йоркского парома, наблюдая за приближающейся Статуей Свободы. Через несколько минут он нырнет за борт и поплывет навстречу будущему, которое уготовила ему судьба.
Он вдруг подумал о прошлом. О днях, проведенных в Голливуде, об ужасном опыте общения с безграмотными продюсерами, трусливыми функционерами, лишенными вкуса цензорами, ненасытными студийными адвокатами. И о том дне, когда он свершил свое черное дело и оказался навеки оглучсяным от Побережья и работы сценариста.
Наивный глупец, он поверил в то, что писать научную фантастику – это достойный выход из создавшегося положения. Что теперь-то он наконец сможет обрести свободу. Он испытал глубочайшее разочарование. Попытался примкнуть к так называемой серьезной американской литературе. Как они унижали его, выплачивали издевательские авансы, хоронили книги под ужасающими обложками, продавали крошечные тиражи в библиотеках… Пришли воспоминания: издатель, который теперь лежал в морге… несчастная женщина, висящая на статуе Родена… редактор, выброшенный из окна четвертого этажа…
Время поражений и унижений кончилось. Кордвайнер Берд принял решение. Да, он вынужден пролить чужую кровь… но этого уже нельзя избежать. Они зашли слишком далеко, их оборонительные редуты построены слишком надежно. Если они сумели сломить Привидение, значит, требуется более молодой, сильный, менее разборчивый в средствах, новый ангел-мститель, чтобы исправить причиненное ими зло. Список оказался длинным, а под Статуей он обнаружит лишь некоторых из них. Предстоят другие встречи, ему еще не раз придется вступить в бой.
Но все это в будущем. Первый шаг он должен сделать сейчас! Когда паром приблизился к острову, маленький человечек встал в темноте на поручни, постоял немного, вытянувшись в струнку, а потом беззвучно нырнул в грязные воды нью-йоркского порта, в главное течение своей судьбы, которая будет описана другими писателями, возможно, более талантливыми, чем он, но знающими, что Кордвайнер Берд был их ангеломхранителем.
Говорящие гримасы и грани
Неистощимый Теодор Старджон (под псевдонимом Фредерик Р. Юинг) написал как-то трагикомическую шутку «Я, распутник» и наделил главного персонажа занятной чертой. Повесть – с погонями и драками, герой – прославленный бретер. Одна беда – в минуту опасности он цепенел от страха. У него пересыхало во рту и верхняя губа прилипала к зубам – приходилось растягивать рот, чтобы ее отклеить. Это был нервный тик, однако на окружающих он производил впечатление улыбки, и герой приобрел славу «человека, который ухмыляется в лицо опасности». Мелкий недостаток воспринимался как доблесть, герой слыл бесстрашным и нередко избегал смерти из-за ложной репутации отчаянного рубаки и головореза – нападающие попросту дрейфили от его «улыбки».
Скотт Фицджеральд обозначил главную тему «Великого Гэтсби», описав Тома и Дэзи Бьюкенен «существами, которые ломали вещи и людей, а потом убегали и прятались за свою всепоглощающую беспечность… предоставляя другим убираться за ними». Понятие «беспечные существа» как нельзя подходит к целым сообществам нынешней молодежи. Например, жена моего приятеля ухитрилась только в Беверли-хиллз и только в один год скопить сто тринадцать квитанций за неправильную парковку. Были среди них даже повестки в суд. В отличие от Нью-Йорка, где со злостными нарушителями разбираются в конце года (или от штатов, где до погашения задолженности не возобновляют водительские права), в Калифорнии тебя просто берут за задницу и волокут в тюрягу – сиди, пока не заплатишь. И вот на прошлой неделе приятеля останавливают за мелкое нарушение, фараон вводит номер машины в компьютер, обнаруживает просроченные повестки и тащит в кутузку его – дожидаться, пока будут внесены несколько сот долларов. После ночи в камере его начинают таскать из участка в участок – по районам, где наследила она. Из-за ее беспечности мы, его друзья, в полном составе, теряем день и кучу денег, чтобы вызволить нашего товарища из когтей закона.
А что она? Посмеялась и забыла. И в этом – весь ее характер. Характер женщины, которая боится вырасти, стать взрослой и принять долю ответственности не только за себя, но и за тех, с кем она общается.
У Пиноккио, когда он лжет, удлиняется нос.
Таракан арчи уверен, что в него вселилась душа поэта-верлибриста и пишет на машинке без больших букв, потому что не может прыгнуть на две клавиши сразу.
Урия Гип заламывает руки и лицемерно упрекает себя, когда подличает.
Скарлетт О'Хара выражает свой характер в микрокосме, во фразе, когда говорит:»Я подумаю об этом завтра».
У каждого из чосеровских паломников есть своя отличительная особенность, своя внешняя характеристика, которая выражает его внутреннее существо. Скажем, Батская ткачиха щербата, значит – похотлива. У нее было пять мужей.
В серии романов про актера-воришку Грофилда Дональд Уэстлейк (под псевдонимом Ричард Старк) заставляет своего неожиданного мелодраматического героя в рискованных похождениях слышать мелодии из кинофильмов. Грофилд отправляется на опасное «дело», а в голове у него крутится пластинка, к примеру, из «Морского ястреба» Эррола Флина. Этим мягко показано, что Грофилд умеет смеяться над собой даже в минуту величейшего риска, и сполна выражен его характер.
Внутренняя фонограмма у Грофилда, движение, которым Урия Гип моет руки невидимой водой, фаллический рубильник Пиноккио, преступное легкомыслие Бьюкененов (и жены моего приятеля), ухмылка бретера – все это примеры писательского мастерства, которое обязательно должно присутствовать в книге, если автор намерен создать живых персонажей. Именно эти маленькие черточки и странности пробуждают в читателе мгновенную вспышку узнавания. Они – сердцевина создаваемого характера; писатель, который считает, что ему довольно трюков, социологии, концепций и прибамбасов, и не старается вдохнуть жизнь в актеров, к которым прилагает трюки, социологию, концепции и прибамбасы, обречен на провал… хуже – на бесцветность.
Я не раз цитировал прежде и без сомнения еще не раз процитирую лучшее определение предмета литературы. Уильям Фолкнер в своей Нобелевской речи сказал, что это «проблемы раздираемого внутренними конфликтами человеческого сердца, которые одни могут составить хорошее произведение, поскольку одни достойны описания, достойны пота и мук».
Все сказанное столь очевидно любому профессионалу, что может показаться нелепым излишеством. Однако опыт моего общения с молодыми писателями показывает, что на удивление много талантливых людей подходит к созданию книги как к головоломкеесть задачка, что-то вроде тайны запертой комнаты, и ее надо распутать. Они относятся к работе, как программисты к «эвристической ситуации».
Они попросту не понимают, как, я уверен, понимает любой из вас, почти на клеточном уровне, и с каждой начинаемой вами книгой это все глубже въедается в плоть и кровь: единственное, о чем стоит писать, – это люди. Повторю. Единственное, о чем стоит писать, – это люди. Люди. Человеческие существа. Мужчины и женщины, чью индивидуальность надо создать, строчка за строчкой, озарение за озарением. Если вы этого не сделали, книга не удалась. Пусть в ней пропагандируется наисовременнейшая научная идея, она не удалась. Можно повторять бесконечно. Нет во Вселенной черной работы благороднее, чем держать зеркало реальности и слегка его поворачивать, дабы по-новому, иначе отразить заурядное, обыденное, «нормальное» и само собой разумеющееся. В этом зеркале отражаются люди – люди, и никто иной. Зеркало выдуманные ситуации, в которые вы их помещаете. Увиденное должно просветить и преобразить наше восприятие окружающего мира. Если вам это не удалось, значит, не удалось ничего.
Мелвилл выразил это так:.»Невозможно написать великое и вечное сочинение о блохе, хотя много есть таких, кто пытался это сделать».
Я не собирался в этом очерке углубляться в психологию писательского ремесла. Оставляю это педантам и академикам, которые теребят подобные идеи, как щенок – мехового мишку, пока совсем не распотрошат. Однако деваться некуда: в наше время, когда фантастика раскололась на множество группировок и немало писателей проповедует обскурантизм и пресный, сложно закрученный сюжет ради банальной сути… или погрязли в стерильном высокомерии, которое играет с умопомрачительными идеями, но не в силах явить и одного живого, узнаваемого человеческого существа… я считаю своим долгом посвятить защите человеческого в литературе еще несколько минут.
Один из самых уязвимых доводов в защиту «ценности» научной фантастики как полноправного литературного жанра был выдвинут в 1920-х: она-де «ставит и разрешает задачи». Эта липовая отговорка, служанка более расхожего (но столь же ложного) клятвенного заверения, что фантастика якобы предсказывает будущее – пережиток паранойи, оставленной нам временами, когда писать или читать фантастику значило расписаться в умственной неполноценности.
Но это было давно. С тех пор такие писатели, как Силверберг, Диш, Вильгельм, Гаррисон, Муркок, Типтри и ле Гуин подняли фантастику на такие высоты, что презирать ее могут лишь самые близорукие и реакционные критики. (Что не спасает нас от идиотских излияний Питера Прескотта из «Времени» или от придурков, которые пишут для сельских газетенок и почитают шиком именоваться «фантастами». Как, впрочем, не делает светлее мрачные катакомбы, где обитают последыши «Золотого века», которые считаются нынче великими историками и критиками жанра и продолжают обсасывать каждый жалкий фильмец, каждый знак внимания со стороны газет главным образом потому, что не находят в себе моральной смелости признать: фантастика давным-давно состоялась. Приходится терпеть этих старых вонючек, но незачем их приколы делать своими приколами.) Подведем итог: в фантастике преобладает устаревший подход. Плохие писатели оправдывают свою пачкотню и колоссальные авансы, которые им платят издатели, тем, что пишут якобы «настоящую фантастику». Флаг им в руки, пусть пишут, если считают, что достоинства книги определяются сногсшибательной идеей, провозглашаемой на безграничных космических просторах, без чувств, без людей, без остроумия, на одном «железе». Такое сочинительство ближе к редактированию научных журналов, чем к наследию Мелвилла, Твена, Шелли и Борхеса.
Убеждаю всех, кто хочет стать писателем: избегайте подобного тупика. Оставьте это инженерам, которые на досуге балуются литературой, где, как правило, попросту мифологизируют собственную «эвристическую ситуацию». Через десять лет их книги забудутся – станут нечитабельными, как нечитабельны сегодня кэмбелловские «Аналоги» за 50-60-е годы.
Лишь те книги будут жить, лишь те стоят писательских «пота и мук», которые властно взывают к человеку. «Звездные войны», конечно, занятны, но, пожалуйста, не путайте их с «Гражданином Кейном», «Таксистом» или «Разговором».
Ваша миссия – писать о людях.
Что возвращает нас к теме очерка, после отступления, вызванного скорее злобой и раздражением, чем чувством меры. Приношу свои извинения.
Если вы принимаете мой мессианский пыл в отношении императивов писательства (не откладывая, посмотрите в словаре, что значит «императив»), то согласитесь, что создание (не реальных, но) правдоподобных людей – безусловная норма. Оно же требует куда больше умения, чем остальные аспекты сочинительства. Оно подразумевает пристальное изучение людей, внимание к мелочам, знание психологической и социологической подоплеки иначе необъяснимых или примелькавшихся привычек, культурных тенденций, знакомство с одеждой, речью, внешними чертами, чудачествами и тем, как люди говорят вовсе не то, что хотят выразить.
Это значит быть достаточно зрелым, достаточно выразительным и жестким, чтоб вместить созданное вами человеческое существо в строчку или по большей мере в абзац. Идеален простой жест или привычка. Сухость! Сухость, ни капли жира и минимум слов! Как можно меньше слов, затемняющих момент узнавания! Литература должна быть сухой и суровой.
Прочтите это:
«Человек обладает формой; толпа бесформенна и бесцветна. Скопление сотен тысяч лиц расплывается в невыразительную блеклость; их одежда добавляет тени; у них нет слов. Этот человек мог быть одной стотысячной безликой бледности, скучной серости, ровного гудения покорного стада. Он был меньше чем незаметен, он был размыт, неопознаваем, словно смазанный отпечаток пальца. Он носил костюм неопределенного серовато-коричневатого цвета, рубашку в сероголубую полоску, галстук в горошек, похожий на втоптанное в пыль конфетти, щеточка его рыжеватых усов походила на расползающийся в чайном блюдце сигаретный бычок».
Так покойный Джеральд Керш описывает неописуемое: человека без лица, заурядность, человека-невидимку, маленького человека, на котором никто не задерживает взгляда. Конечно, весь фокус в словах, но оцените образность. Никакого цинизма, одна голая целесообразность. Конфетти в пыли, смазанный отпечаток пальца, расползающийся в блюдце сигаретный бычок. А итог образности и выбора слов – самоограничение в наиболее творческом, разумном и продуктивном смысле – изображение неизобразимого. Единственное, что я могу поставить рядом, – кинематографическое описание специалиста по установке подслушек, Гарри Кола, в «Разговоре» Копполы. Критик Паулина Кэл определяет его так: он – «человек, задвинувшийся на одиночестве, ас электронной разведки, который так боится разоблачения, что опустошает собственную жизнь; он – ноль, страдающий ноль. О нем нечего узнавать, и все же он до смерти боится быть подслушанным». Мастерство Копполы, помноженное на актерское мастерство Джина Хэкмена, воспроизводит невоспроизводимое: человека-тень. И Керш, и Коппола достигают этого с помощью минимума средств. Сухо, жестко, точно!
Словом, писателю, который хочет создавать сильные и стремительные вещи, я настоятельно советую сурово и беспощадно очерчивать персонажей несколькими словами, наделять их особыми, говорящими чертами. Ухмылка бретера, руки Урии Гипа, воля Скарлетт выжить даже перед лицом полного поражения.
Приведу еще несколько примеров.
В заслуженно известной повести Эдмунда Уилсона «Человек, который стрелял каймановых черепах» героя по имени Аза М. Страйкер одолевают хищные панцирные – они живут в его пруду и таскают его любимых утят. Ненависть перерастает в манию, и наконец Страйкер берется за промышленный отстрел черепах. Он все больше походит на каймановую черепаху, пока его движения и повадки не становятся типическими для тех самых животных, истреблению которых он посвятил жизнь. Приведу отрывок:
«…Страйкер, расположившись стоймя за письменным столом в привычно затемненной комнате, вытянул длинную подвижную шею и уставился на него маленькими блестящими глазками, расположенными позади буроватого выступа с отчетливо выраженными ноздрями…» Уилсон пользуется прямой аналогией, чтобы выразить подтекст рассказа: Страйкер стал тем, на что он смотрит. Это оДин из способов охарактеризовать персонажа, разновидность диснеевской манеры очеловечивать зверей и вещи, вроде карандаша или мусорного ящика, делая их антропоморфными. Использованный Уилсоном прием (по-научному антропоскопия – показ характера через внешние черты) может быть использован в лоб или замаскированно – когда внутренняя сущность героя прямо противоположна его внешности. Вспомните Квазимодо, горбуна из «Собора Парижской Богоматери» Виктора Гюго.
Чехов как-то наставлял молодых писателей: «Если в первом акте на стене висит ружье, оно должно выстрелить не позднее второго акта». Смысл очевиден. Избегайте несущественного. Уж если что-то включили, пущай работает.
То же и с характерными чертами. Возьмем, к примеру, «Билли Бада». Мелвилл сообщает нам, что Билли заикается. Но не всегда. Только когда сталкивается с ложью, двуличием, подлостью. Символически мы можем истолковать так: Билли – живое воплощение Добра в Мире Несправедливости – остался не затронут Злом. Это был бы академический взгляд. Но я, как писатель, вижу в его заикании сюжетный ход. Невозможность оправдаться перед лицом ложного обвинения становится в повести тем механизмом, который обрекает Билли на смерть. Герман Мелвилл был великий писатель, но он в первую очередь именно писатель. Он знал, как построить сюжет. Он знал: ружье должно выстрелить.
Исторически писатели вроде Готорна использовали телесные недостатки для выражения душевных пороков. В «Алой букве» у пастора Димсдейла жгучая рана на груди. Он согрешил с чужой женой. Рана – внешнее проявление мук его совести. Когда он обнажает грудь перед всеми своими прихожанами, это потрясает. Ружье выстрелило.
Шекспир пошел дальше, может быть, потому что он гениальнее всех. Он использует не просто внешнюю красоту или уродство, он призывает самые силы Природы в их безудержной страсти выразить душевное состояние персонажа. В акте втором, сцена четвертая «Короля Лира», когда несчастный старик уходит в лес, отказавшись от власти, но пытаясь сохранить королевское достоинство, доведенный почти до умопомешательства неблагодарными дочерьми, мы читаем:
И тут вдали раздаются гром и шум бури. Шекспир отражает умственное помрачение Лира в буйстве расходившихся стихий. Он говорит нам, что ощущает Лир в эту минуту последней ясности перед наступлением безумия. В этой жизни власть и достоинство неразделимы. Чтобы жить в почете, нужно иметь власть. Он отдал власть, и Природа ее узурпировала. Он одинок, раздавлен, беззащитен перед Человеком и Природой.
Это – мифологическая характеристика с космическим размахом.
Не столь масштабен, но так же выразителен в плане изображения человека в контексте общества маленький прием, которым Тургенев пользуется в «Отцах и детях», чтобы показать неуверенность Павла Петровича. Роман был написан в переломный для России исторический момент, во время мучительной раздвоенности между аристократической традицией и тягой к народовластию. Чтобы показать внутренние колебания Павла Петровича, Тургенев включает в сцену его встречи с племянником-студентом такую подробность: «Совершив предварительно европейское «shake hands», он три раза, по-русски, поцеловался с ним, то есть три раза прикоснулся своими душистыми усами до его щек, и проговорил: «Добро пожаловать»».
«Тигр! Тигр!» Альфреда Бестера – классический роман, который можно читать и перечитывать ради таких блестящих находок. К примеру, превращение героя, Гулли Фойла, из полудикого хама в культурного мстителя отражается в его языке и манере говорить. Поначалу он владеет лишь грязным жаргоном будущего, который Бестер выдумал, чтобы сжато обрисовать эпоху, но, по мере того как Гулли растет и покупает себе образование, его речь меняется, становится более выстроенной. Одновременно преображается и скрывающая его лицо «тигриная маска». Пока он зверь, она проступает то и дело, затем становится почти невидимой, проявляясь лишь в минуты животной ярости. «Двойник» Хайнлайна – еще один неисчерпаемый источник таких приемов. Вот почему обе книги будут оставаться «классикой» долго после того, как канут в Лету иные бестселлеры-однодневки.
Бадрис как-то написал рассказ (не припомню названия), где толстяк – служащий непомерно раздутой межзвездной военно-промышленной организации – во все время разговора с героем набивает рот карамелью. Так, отображая большое в малом, Бадрис помогает нам увидеть в обжоре парадигму ненасытной организации.
На язык просится куча примеров из моих собственных произведений, но скромность мешает рассмотреть их в подробностях. Как-то я наградил персонажа заячьей губой, чтобы показать прирожденного страдальца; люди, излишне педантичные, в одежде и прическе, обычно оказываются у меня ничтожествами или получают по мозгам.
В «Красотке Мэгги Деньгоочи» оба героя, на мой взгляд, отлично обрисованы с помощью описанных выше приемов; будет время – прочтите. В сценарий по повести «Парень с собакой» я ввел героиню, сильную женщину по имени Спайк, которая противостоит негодяю Вику. По ходу сюжета она подружилась с псом, Бладом. Вик, бросивший Блада, хочет восстановить отношения. Но друг Блада теперь Спайк. Чтобы выказать свое презрение к Вику, она обращается к нему через пса. «Скажи ему, пусть заткнется, пока цел», – говорит она собаке. Блад повторяет Вику то, что тот, разумеется, слышал. Это продолжается, пока Вик не выходит из себя. Заставляя Спайк говорить с собакой о человеке и отзываться о человеке как о неодушевленном предмете, я надеялся создать параллель к мужскому обращению с женщинами, словно с вещами. Сделанное исподволь (киношники никогда бы не позволили, знай они, что я замышляю – подтекст какой-то, не дай Бог, символизм), это помогает углубить зрительный сюжетный ряд.
Я предложил эти примеры тонких характеристик – гримас и граней – ради того, чтобы показать, как при крайней экономии средств создать полнокровное действующее лицо, пусть даже без слов. А в книге такие штрихи помогут читателю преодолеть многие концептуальные страницы, встать на точку зрения автора. Это музыка, которая наполнит все произведение.
И в заключение позвольте еще раз напомнить. О чем бы вы ни думали написать, пусть о самом лучшем и важном предмете, пишете-то вы всегда об одном – о людях!
Создание похожих, правдоподобных людей – не реальных, но правдоподобных – достигается средствами, которые я перечислил.
Или, как сказал Джон Ле Карре, автор «Шпиона, который вернулся с холода»: «Хороший писатель видит ищущую по улице кошку и понимает, каково это, когда на тебя прыгает бенгальский тигр».
Когда на вас прыгает тигр, когда вы объясняете, как улыбка труса обращает врагов в бегство, как беззаботная женщина губит окружающих или почему лицемерие выражается в бессмысленном мытье сухих рук, как заикание губит доброго и красивого юношу – если вы хотите писать хорошо, писать для вечности или хотя бы для развлечения, не забудьте…
Выстрелить из ружья.