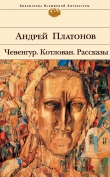Текст книги "По обе стороны утопии. Контексты творчества А.Платонова"
Автор книги: Ханс (Ганс) Гюнтер
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
5. Н. Федоров и русская традиция платонизма
Сравнивая философию Аристотеля и Платона, Иван Киреевский утверждает, «что самый способ мышления Платона представляет более цельности в умственных движениях, более теплоты и гармонии в умозрительной деятельности разума. Оттого почти то же отношение, какое мы замечаем между двумя философами древности, существовало и между философией латинского мира, как она вырабатывалась в схоластике, и тою духовною философией, которую находим в писателях Церкви Восточной, особенно ясно выраженную в святых отцах, живших после римского отпадения» [101]101
Киреевский И.Избранные статьи. М., 1989. С. 220.
[Закрыть]. Именно с этой точки зрения и формулируется критика отвлеченной красоты западного романтического искусства: «Вместо того, чтобы смысл красоты и правды хранить в той неразрывной связи, которая, конечно, может мешать быстроте их отдельного развития, но которая бережет общую цельность человеческого духа и сохраняет истину его проявлений, западный мир, напротив того, основал красоту свою на обмане воображения, на заведомо ложной мечте или на крайнем напряжении одностороннего чувства, рождающегося из умышленного раздвоения ума» [102]102
Там же. С. 233.
[Закрыть].
Пафос «цельности», который считается одним из основных качеств философии Платона, противопоставляется Киреевским «раздвоению» и «раздроблению» как главным принципам развития западного общества. В этом настаивании на «цельности» мы видим реакцию на процессы дифференциации общественных субсистем, которые неизбежно связаны с зарождением модерна [103]103
О сопротивлении русской культуры функциональной дифференциации в свете системной теории Н. Луманна см.: Kretschmar D.Kunst in der entdifferenzierten Gesellschaft // Im Zeichen-Raum. Festschrift für Karl Eimermacher. Dortmund, 1998. S. 251–296.
[Закрыть]. Поскольку в России к тому времени уже наблюдалась подобная функциональная дифференциация общественных сфер, призыв к «цельности» должен был служить цели восстановления поставленного под угрозу идеала.
Традиция платоновской «цельности» лежала в основе мысли не только славянофилов или Федорова, но в измененном виде также в основе воззрений их идеологических противников, т. н. «революционных демократов», или народников [104]104
О «холизме» или «интегрализме» в экономических концепциях XIX века представителей разных идейных течений см.: Zweynert J.Eine Geschichte des ökonomischen Denkens in Russland. 1805–1905. Marburg, 2002.
[Закрыть]. Это обстоятельство наводит на мысль о том, что в среде русской интеллигенции XIX века, несмотря на расхождение идейных позиций, идеал «цельности» был распространен на основе до сих пор мало изученной подспудной традиции платонизма. Лишний тому пример мы находим в неожиданных перекличках между эстетическими взглядами Н. Чернышевского и Н. Федорова.
В своей рецензии на русский перевод «Поэтики» Аристотеля в 1854 году Чернышевский обстоятельно ссылается на Платона. Он считает, что платоновская эстетика содержит больше истинных и глубоких идей, чем аристотелевская. Сурово критикуя несостоятельность художественного подхода к действительности, Платон с полным правом восстает против понимания искусства как бесполезной забавы и игры. Чернышевский одобрительно повторяет мысль Платона: прекрасное как содержание искусства – только призрак, а живописец или поэт, в отличие от изготавливающего предметы ремесленника, не знает истинной природы предметов, которым он подражает, а имеет дело только с поверхностью, оболочкою предмета. Но это не значит, что искусство не может исполнять полезные функции. Из-за своей способности привлекать людей оно «этим самым, вовсе о том не думая, содействует распространению образованности, ясных понятий о вещах – всего, что приносит умственную, а потом и материальную пользу людям» [105]105
Чернышевский H.Об искусстве. M., 1950. С. 169–170.
[Закрыть].
Диссертация Чернышевского «Об эстетических отношениях искусства к действительности», несмотря на «материалистическую» терминологию, построена на тех же платоновских принципах, причем имя греческого философа уже не упоминается. В своей работе автор хочет доказать, «что произведения искусства решительно не могут выдержать сравнения с живою действительностью» и что назначение искусства в том, чтобы «в случае отсутствия действительности быть некоторою заменою ее и быть для человека учебником жизни» [106]106
Там же. С. 79.
[Закрыть]. Тезис об искусстве как суррогате действительности иллюстрируется очень показательным сравнением. Чернышевский пишет: «Явления действительности – золотой слиток без клейма: очень многие откажутся уже по этому одному взять его[, не умея отличить] от куска меди; произведение искусства – банковый билет, в котором очень мало внутренней ценности, но за условную ценность ручается все общество, которым поэтому дорожит всякий и относительно которого немногие даже сознают ясно, что вся его ценность заимствована только от того, что он представитель золотого куска» [107]107
Чернышевский Н.Об искусстве. М., 1950. С. 67.
[Закрыть]. Художественный знак интересен лишь как условный представитель предмета, у которого он заимствует свою ценность.
У Платона Чернышевский перенимает ход аргументации, характерный для всех представителей платоновской линии, включая и Федорова. Первый шаг – принципиальная критика искусства, которое предстает в отрицательном освещении как суррогат или подобие действительности, как «призрак» и «оболочка» вещи. За обвинением искусства в «бедности, слабости, бесполезности, ничтожестве» [108]108
Там же. С. 166.
[Закрыть]следует, впрочем, второй шаг – его частичная реабилитация. Искусство оправдано в том случае, если оно служит определенным целям. У Чернышевского произведение искусства призвано быть «учебником жизни», способствуя распространению образованности и знания. Вообще говоря, суть платонизма в эстетике состоит в убеждении, что прекрасное таит в себе опасность обмана и пустой игры и по этой причине нуждается в оправдании извне. Этим оправданием могут служить его религиозные, просветительские, нравственные или другие функции. Ценность искусства носит производный, вторичный характер.
Платоновская критика прекрасной видимости, на которую ссылается Чернышевский, дополняется у греческого философа критикой письма. По мнению искусствоведа Э. Гомбриха [109]109
Gombrich Е.Art and Illusion. London, 1959. P. 99.
[Закрыть], скептическое отношение Платона к изобразительным искусствам объясняется тем, что возникновение миметической греческой скульптуры и живописи приходится на VI – конец V века до н. э. Приблизительно то же можно сказать и о письменности – в эпоху Платона это было относительно свежее явление. Сократ, философ яркой устной, диалогической ориентации, подозревал в обманчивости письменные и визуальные знаки как таковые. Схожее отношение к условному знаку характерно и для русских последователей Платона. Напомним лишь о сопоставлении произведения искусства с банковским билетом без внутренней ценности у Чернышевского. В федоровском проекте постоянно присутствует упрек конвенциональной знаковости в слабости и обманчивости, в то время как частицы материи у него функционируют как носители информации о прошедших поколениях.
Можно задаться вопросом: почему платоновская константа скептической оценки знаковости пользовалась таким успехом в русской культуре? Некоторые теоретики медиа исходят из того, что в России культура письменности укоренена слабее, чем на Западе, и в русском обществе сохранились мощные остаточные слои устной культуры [110]110
См.: McLuhan M.Die magischen Kanäle. Dresden, 1994. S. 63, 137. W. Ong (Oralität und Literalität. Opladen, 1987. S. 159) говорит о формах остаточной оральности.
[Закрыть]. Несмотря на то, что в России уже давно существует традиция письменности, к ней относятся с известной оговоркой. Это придает русской культуре особую «устную» окраску. К примеру, такие основные категории, как целостность или соборность, скорее соответствуют закрытому аудитивно-оральному, чем открытому визуально-письменному типу общества модерна.
Критическое отношение Платона к письму выясняется из диалога «Федр». Когда бог Тевт излагает египетскому царю Тамусу преимущества письма, тот отвечает: «Искуснейший Тевт, один способен порождать предметы искусства, а другой – судить, какая в них доля вреда или выгоды для тех, кто будет ими пользоваться. Вот и сейчас ты, отец письмен, из любви к ним придал им прямо противоположное значение. В души научившихся им они вселят забывчивость, так как будет лишена упражнения память: припоминать станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою. Стало быть, ты нашел средство не для памяти, а для припоминания. Ты даешь ученикам мнимую, а не истинную мудрость» [111]111
Платон.Собр. соч.: В 4 т. М., 1993. Т. 2. С. 186.
[Закрыть]. Согласно Платону, письменность способствует разрушению памяти. Человек, обладающий настоящей мудростью, «не станет всерьез писать по воде чернилами, сея при помощи тростниковой палочки сочинения, не способные помочь себе словом и должным образом научить истине» [112]112
Там же. С. 188.
[Закрыть], а прямо сеет оплодотворяющие устные речи в душе слушателя.
Поскольку и для Федорова вопрос потери памяти ввиду агрессивности наступающего прогресса также крайне актуален, критика Платоном недостатков письма должна была ему быть особенно близка. Культ предков, за который заступается мыслитель, существует в «живом» пространстве памяти, в то время как письмо создает «мертвый» архив сохранения данных, выполняющий лишь вспомогательную функцию. Не должно удивлять, что памяти отводится место первичного принципа, так как есть культуры без письма, но нет культур без памяти [113]113
Assmann A.Schrift und Gedächtnis. München, 1983. S. 267.
[Закрыть]. Цель федоровского проекта – восстановление идеала архаического орального общества в условиях новой технической цивилизации. В силу этой установки письмо оказывается несовершенным средством, нуждающимся в дополнении. Поэтому все текстуальные упоминания предков рассматриваются лишь как подготовительный материал для общего дела воскрешения. Согласно этому взгляду синодик, например, – «воскрешение лишь номинальное» (1, 355), а исторические, научные, художественные и другие тексты представляют собой лишь «словесное» или «мнимое» воскрешение. По сравнению с этим письменным архивом такие локусы памяти, как памятники, кладбища, храмы, музеи или собранные материальные частицы и следы прежних поколений, играют гораздо более существенную роль.
Не случайно в центре федоровской мысли находится литургия, которая, без сомнения, представляет собой событие оральной культуры, поскольку построена на звучащей живой речи. Для верующих литургия, как замечает Федоров, – «Божественное служение», для оглашенных и неверующих – «художественное воспитание» (1, 264) или «воспоминание в драматической форме» (1, 171). Объединение всего человечества предстает у Федорова в виде литургии как всеобщей молитвы, переходящей в действие.
Может удивлять, что человек, работавший четверть века библиотекарем, подозревается в недооценке печатного слова. Но при более тесном рассмотрении мы будем постоянно сталкиваться с намеками на сильную устную установку, присущую Федорову. Так, по свидетельству С. Булгакова, он слыл «московским Сократом» [114]114
Булгаков С.Два Града. СПб., 1999. С. 323; см. также Федоров Н.Указ. соч. Т. 1. С. 7–12.
[Закрыть], ученики в лице Кожевникова, Петерсона и др. записывали его мысли после совместной беседы. Как известно, Федоров писал спонтанно, зачастую на клочках бумаги или полях газет, любил читать знакомым из своих записок. Стиль изложения мыслей у него скорее устный, чем письменный: философ постоянно кружит вокруг своих тем, приближаясь к ним все новыми и новыми витками. Для этого типа дискурса характерна редундантность и несистематичность [115]115
См.: Ong W.Op. cit. S. 40–45.
[Закрыть].
Библиотека должна быть «культом не книг, а сочинителей этих книг», поэтому мы «отдаем должное автору, не останавливаемся на вещи, или книге, но восходим к лицу ее сочинителя, делая его предметом общего поминовения» (1, 444. – Курсив автора. – Х. Г.). Закрытые, т. е. погребенные в пыли книги Федоров предлагал «открывать», располагая их для публики в календарном порядке по дням смерти авторов, чтобы вызвать их «живой образ» (3, 232). Одним словом, мертвая буква «книжного кладбища» нуждается в оживлении.
Очень интересны в этой связи мысли Федорова о палеографии. Размышляя о «способности письма быть графическим изображением духа времени» (1, 54), он считает, что уставные буквы выводились с тем же глубоким благоговением, с которым строили храмы или писали иконы. Новое время видело в уставе только медлительность и препятствие прогрессу, поэтому перешло к разным формам скорописи вплоть до стенографии. Примечательно, что Федоров даже не упоминает печатные буквы, вызвавшие революцию в переходе от аудитивного метода обмена мыслей к визуальному [116]116
См.: McLuhan М.Die Gutenberg-Galaxis. Das Ende des Buchzeitalters. Düsseldorf; Wien, 1968. S. 124.
[Закрыть], поскольку только книгопечатание привело к той гомогенности и повторяемости письма, на которых построена современная культура. Сквозь федоровские мысли о палеографии просвечивает идеал сакрального письма рукописи, который еще ближе к оральной культуре [117]117
См.: Ibid. S. 119–127.
[Закрыть].
Устами Сократа в «Федре» Платон говорит о том, что записанную речь нельзя ставить выше, «чем напоминание со стороны человека, сведущего в том, что написано» [118]118
Платон.Указ. соч. Т. 2. С. 187.
[Закрыть], и относит это и к живописи: «Ее порождения стоят, как живые, а спроси их – они величаво и гордо молчат» [119]119
Там же.
[Закрыть]. Критике живописи посвящена значительная часть десятой книги «Государства».
Как и в случае с письменностью, Федоров следует аргументации Платона, утверждавшего, что художнику как подражателю подобает лишь третье место – после истинного творца идейной сути предмета и практического мастера, строящего этот предмет: «О том предмете, который он изображает, подражатель не знает ничего стоящего; его творчество – просто забава, а не серьезное занятие» [120]120
Там же. Т. 3. С. 398.
[Закрыть]. Как Чернышевский, так и Федоров согласны с Платоном в том, что живопись занимается лишь воспроизведением призраков (φαντάσματα), поскольку она опирается на обман зрения и соответствующие «фокусы».
В «Софисте» мы читаем следующий диалог об искусстве: на вопрос «Следовательно то, что мы называем образом, не существуя действительно, все же действительно есть образ?» следует ответ: «Кажется, небытие с бытием образовали подобного рода сплетение, очень причудливое» [121]121
Там же. Т. 2. С. 306.
[Закрыть]. Федоров подхватывает платоновское определение образа как «причудливое сплетение» бытия и небытия. Разница, однако, в том, что для него иллюзорность живописи вытекает из чисто пассивного воспроизведения внешних форм действительности: художественное произведение в данной форме – лишь «мертвое творение» и подобие «тени отцов» (1, 97).
Отсюда становится понятным, почему Федоров с сочувствием относится к позиции иконоборцев, которые отвергали «иллюзию (фабрикацию идолов)» как «мнимое или художественное воскресение» (1, 162). Он подчеркивает, что церковь приняла «во внимание возражения иконоборцев и, не желая производить изображения иллюзий, она не только не заботилась о живости изображений, а даже запрещала такое стремление, ввела подлинник, который должен был служить неизменным образцом для изображений» (1, 163). Надо, однако, иметь в виду, что у Федорова осуждение иллюзии в искусстве имеет другой смысл, чем в православной традиции. Если для церкви иллюзорность является «натуралистическим» уклоном от святого прообраза, его искажением, то у Федорова это результат недействительности, нереальности изображаемого.
Федоров исходит как из платоновского скептицизма по отношению к «мертвой» букве за счет живой речи, так и из его критики обманчивых «призраков» изобразительных искусств. Но он из этого делает другие выводы. Письмо и мимесис подвергаются критике, потому что они оказываются слишком слабыми, беспомощными, недейственными и недействительными ввиду вторжения «прогресса», угрожающего культу предков и устоям традиционного общества. Из-за этого существенного недостатка текстуальных и изобразительных средств русский мыслитель прибегает к своеобразной сверхкомпенсации – к идее воскрешения памяти не в знаковой форме слова и образа, а в прямом материальном виде. Платон видит неполноценность искусства в том, что оно не в состоянии передать сущности изображаемого. Федоров же критикует пассивное искусство подобия, потому что настоящее искусство для него – « проект новой жизни» (2, 399. – Курсив автора. – Х. Г.).
Русский вариант целостного мышления продолжает платоновскую линию и дополняет ее существенным компонентом – представлением становящейся целостности. Ввиду утраченной гармонии общественной жизни и культуры осуществление целостности проецируется на будущее. Это стремление оказывается столь сильным, что его представители нередко прибегают к самым парадоксальным решениям. В случае Федорова средства для осуществления космического проекта заимствуются именно у враждебного «прогресса», т. е. у продвинутых науки и техники, взятых в утопическом ракурсе. На основе столкновения русской идеи грядущей целостности и модерна с его стремлением к функциональной дифференциации («раздроблением») возникает противоречивая конструкция.
Платоновская линия критики иллюзорности искусства и бессилия художественного знака занимает значимое место в русской эстетике конца XIX – начала XX века, где она сочетается с мощным импульсом активного преображения действительности. Подобные соображения, кстати, также не были совсем чужды Платону – идея преобразования действительности принадлежит, как заметил Вл. Соловьев, периоду практического идеализма Платона, т. е. периоду «Государства» [122]122
См.: Платон: Pro et contra. СПб., 2001. С. 383.
[Закрыть]. У Чернышевского это представление интерпретируется в духе просветительского утилитаризма, а Федоров определяет роль искусства на фоне проективного космизма. Эта линия находит свое продолжение в мысли Вл. Соловьева о том, что искусство – лишь частное и отрывочное предварение красоты, а также в жизнетворчестве символистов, в жизнестроении авангарда и в эстетических взглядах Пролеткульта, к которым оказался близок ранний Платонов. В статье 1921 года он пишет: «Отныне наша жалость и кипение души будут остывать не в форме искусства, а в форме работы, преобразующей материю» [123]123
Платонов А.Сочинения. Т. 1. Кн. 2. С. 180.
[Закрыть].
Часть вторая
УТОПИЯ В ИСТОРИИ
6. Жертва у А. Платонова
Жертвы на «алтаре истории»
Если сама идея жертвы первоначально была связана с религией, то политические и идеологические представления о жертве XIX–XX веков сложились в другом контексте, который можно определить как сакрализацию прогресса. Показательны в этом отношении высказывания Гегеля, для которого мировая история является местом реализации свободы и духа. В лекциях по философии истории он говорит: «Эта конечная цель есть то, к чему направлялась работа, совершавшаяся во всемирной истории; ради нее приносились в течение долгого времени всевозможные жертвы на обширном алтаре земли» [124]124
Гегель Г. В. Ф.Лекции по философии истории. СПб., 2003. С. 72.
[Закрыть], а плацдарм истории становился «бойней, на которой приносятся в жертву счастье народов, государственная мудрость и индивидуальные добродетели» [125]125
Там же. С. 74.
[Закрыть]. В марксизме эта оценка подкрепляется призывом к пониманию научной необходимости, которой должны быть подчинены все поступки [126]126
Экстремальной иллюстрацией жертвы, ориентированной на «категории пользы или вредности» для дела революции, является дидактическая пьеса Б. Брехта «Мероприятие», в которой неопытный революционер руководствуется не необходимостью революционной борьбы, а состраданием и за это ликвидируется своими товарищами. Герой признается в своей ошибке и соглашается на расстрел (см.: Grübel R.Die Ästhetik des Opfers bei Brecht und in der russischen Literatur der 20er und 30er Jahre // Rot=Braun? Brecht-Dialog 2000. Berlin, 2000. S. 164). С полным извращением аргумента о понимании исторической необходимости мы сталкиваемся в поведении участников московских показательных процессов, которые чувствовали себя обязанными служить делу коммунизма своими ложными признаниями в собственной вине.
[Закрыть].
С утверждением марксистской идеи в России на рубеже XX столетия возникает дискуссия о том, необходимо ли пойти на жертвы ради прогресса и будущего социального счастья. Решающий вопрос об оправдании жертв во имя истории поднимал еще Ницше: «Скажем, в нас есть стремление к самопожертвованию: что запретит нам тогда жертвовать вместе с собою и ближним? Ведь до сих пор именно так делали государство и монархи, принося одних граждан в жертву другим, как было принято говорить, „в общих интересах“. Но и у нас есть общие и, может быть, еще более общие интересы: почему же не принести в жертву грядущим поколениям некоторых индивидов из нынешнего?» [127]127
Ницше Ф.Утренняя заря: мысли о моральных предрассудках / Пер. с нем. В. Бакусева. М., 2008. С. 144.
[Закрыть]
Начало дискуссии о необходимости жертв во имя прогресса совпадает с концом революции 1905 года. Принципиальными противниками постницшеанской концепции жертвы выступали бывшие марксисты Сергей Булгаков и Николай Бердяев, противоположную позицию заняли Анатолий Луначарский, Максим Горький и Алексей Гастев. В своей книге «Религия и социализм» Луначарский, один из главных представителей богостроительства – течения, в котором смешались ницшеанские, христианские, мифологические и марксистские компоненты, – пропагандировал настоящий культ жертвоприношения. Так, в главе «Мифология труда» автор объединяет трех подвижников труда – Прометея, Геркулеса и Христа, причем закованный и измученный Прометей олицетворяет принцип разума, страдающий Геркулес репрезентирует угнетаемый труд, а Христос – грядущего мессию труда. Вот как описывается мученичество античного героя: «Страдает от унижений, вражды, хитрости. Его опутывают отравленной одеждой, которая связывает его крепче цепей, цепей, которые он порвал бы, ядовитая рубашка ест его тело, сушит его кровь. Он не выносит этой рубашки рабства на своем теле: он предпочитает смерть в пламени – рабству и медленной муке, но вот, как Феникс, из пламени смертельного борения он выходит для новой жизни, выходит победителем» [128]128
Луначарский А.Религия и социализм. Т. 1. СПб., 1908. С. 100.
[Закрыть].
Воскресший Геркулес вместе с освобожденным Прометеем, по мысли Луначарского, будут стоять у входа в храм нового человечества. В этом храме отводится место и Христу, мессии труда: «И на гору Голгофу всходит новый Мессия, кровь его лилась, его пригвождали к кресту. И глумясь говорили ему: „Ты, освободитель мира, освободись-ка сам из каторг тюрем и могил, куда уложили тебя за твои порывы“. Но нельзя убить Труд, он воскреснет и продолжит свою проповедь, свою тяжкую борьбу, он понесет снова свой крест, от Голгофы к Голгофе, по пути, уставленному крестами, ибо воистину не один раз умирает Спаситель Мира» [129]129
Там же. С. 101–102.
[Закрыть].
Мотив Голгофы как метафоры «страстей» пролетариата восходит к движению голгофского христианства, в свое время влиятельного в среде пролетарской культуры. Это направление, зародившееся около 1905 года в петербургских рабочих кругах, требовало революционной социальной перестройки общества на основе Нового Завета [130]130
См.: Hagemeister М.Nikolaj Fedorov. Studien zu Leben, Werk und Wirkung. S. 222–230.
[Закрыть]. Тем самым мотив Голгофы символизирует не только страдание, но и победоносное воскресение пролетариата.
В отличие от подобных христианских представлений, Максим Горький, примкнувший к богостроительству Луначарского в начале века, создал в повести «Старуха Изергиль» (1894) жертвенного героя Данко, представляющего собой нечто среднее между Прометеем и ницшеанским сверхчеловеком [131]131
См.: Günther H.Der sozialistische Übermensch. Maksim Gor’kij und der sowjetische Heldenmythos. Stuttgart; Wfeimar, 1993. S. 31–44.
[Закрыть]. Данко ведет свой отчаявшийся, подобный стаду овец народ из темноты леса в свет. Вырывая сердце из груди, он освещает этим факелом людям дорогу. В конце легенды патетическими словами рассказывается о смерти красивого и сильного героя: «Был вечер, и от лучей заката река казалась красной, как та кровь, что била горячей струей из разорванной груди Данко. Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый смельчак Данко, кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо. А потом упал и – умер» [132]132
Горький M.Полн. собр. соч.: В 25 т. Т. 1. М., 1968. С. 96.
[Закрыть].
Такая же фигура, подобная Прометею, находится и в центре напыщенной поэмы Горького «Человек» (1904). Одинокий путник и потомок Заратустры поднимается все «выше и выше» в неизвестность для того, чтобы каждый стал Человеком с большой буквы. Для носителей трагического сознания победителями являются не те, кто пожинает плоды победы, но оставшиеся на поле битвы: «Иду, чтобы сгореть как можно ярче и глубже осветить тьму жизни. И гибель для меня – моя награда» [133]133
Там же. Т. 6. С. 41.
[Закрыть].
Если здесь мы имеем дело с самопожертвованием, совершающимся, строго по Ницше, из избытка жизненной силы, то в романе «Мать» прометеевское сверхчеловечество уступает место ярко выраженной христианской доминанте с преобладанием темы жертвенной смерти и воскресения [134]134
См.: Есаулов И.Жертва и жертвенность в повести М. Горького «Мать» // Соцреалистический канон / Под ред. X. Гюнтера и Е. Добренко. СПб., 2000. С. 797–802; Uffelmann D.Opferzeugnis und Wiederholungszwang, anhand von Gor’kijs «Mutter» // Gabe und Opfer in der russischen Literatur und Kultur der Moderne. Hrsg. von R. Grübel und Gun-Britt Köhler. Oldenburg, 2006. S. 159–185.
[Закрыть]. Один из персонажей романа, крестьянин Рыбин, упоминает притчу о пшеничном зерне, которое принесет плоды, только если умрет. Словами пасхальной литургии он говорит о том, что добиться воскресения народа можно, лишь смертью смерть поправ. И революционер Находка в своем выступлении на первомайском митинге говорит о неизбежности терновых венцов и призывает отойти в сторону тех, кто не верит в себя и боится страданий. В центре событий стоит молодой рабочий Павел, он хочет нести красное знамя во главе шествия и готовится к этому жертвенному пути.
В ином виде жертвенная мысль в дореволюционную эпоху проявляется у пролетарского поэта Алексея Гастева, у которого катастрофизм смешивается с историческим оптимизмом. В центре поэмы «Башня» (1913), являющейся, как мы уже показали, одним из предтекстов «Котлована», стоит представление о неизбежных жертвах, которых технический прогресс требует от рабочих. Текст кончается словами:
Пусть будут еще катастрофы…
Впереди еще много могил, еще много падений…
Пусть же!
Все могилы под башней еще раз тяжелым бетоном зальются, подземные склепы сплетутся железом, и на городе смерти подземном ты бесстрашно несись
В то время как Гастев считает строительную жертву необходимой для достижения общества будущего, знаменитый вопрос Ивана Карамазова наталкивает на противоположный ответ. Для Достоевского неприемлема мысль, что можно основать «здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей» [136]136
Достоевский Ф. М.Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 14. С. 224.
[Закрыть]на неотмщенных слезах одного невинного ребенка. Известный фольклорный мотив, согласно которому строение дома или города обязательно требует жертв, проецируется Гастевым на возникновение современной технической цивилизации. В его «Башне» без труда распознается и пафос горьковского «Человека», и полемика Луначарского с пророчеством Достоевского о гибельном высокомерии строителей Вавилонской башни.
Резкой критике подвергает самозабвенную веру в прогресс Сергей Булгаков, который видит в марксизме секуляризованное хилиастическое стремление к земному раю: «Во имя этой веры, во имя спасения человечества путем прогресса приносятся жертвы, отдается жизнь, покой, свобода» [137]137
Булгаков С.Два Града. Исследования о природе общественных идеалов. М., 1997. С. 270.
[Закрыть]. Не без иронии говорит он о сомнительном счастье «наслаждаться социалистическим блаженством Zukunftsstaat’a на костях своих исторических предков, впрочем, тоже с перспективой присоединить к ним и свои собственные кости» [138]138
Там же. С. 242.
[Закрыть]. Ссылаясь на Достоевского, Булгаков подчеркивает безнравственные последствия теории прогресса: «Страдания одних поколений представляются мостом к счастью для других; одни поколения должны почему-то страдать, чтобы другие были счастливы, должны своими страданиями „унавозить будущую гармонию“, по выражению Ивана Карамазова. Но почему же Иван должен жертвовать собою будущему счастью Петра и не имеет ли Иван, как человеческий индивид, с этой точки зрения, таких же прав на счастие, как будущий Петр?» Если будущее счастье реализуется посредством страдания других, то «наши потомки представляются вампирами, питающимися нашей кровью» [139]139
Булгаков С.Основные проблемы теории прогресса // Булгаков С. От марксизма к идеализму. Сб. статей (1896–1903). СПб., 1903. С. 136.
[Закрыть]. И для Бердяева подобным же образом «совершенное и благое состояние, к которому ведет прогресс, это какое-то чудовище, пьющее кровь поколений былых и современных, истязающее каждую живую личность во имя свое, во имя своей отвлеченности» [140]140
Бердяев Н.Социализм как религия // Бердяев Н. Новое религиозное сознание и общественность. М., 1999. С. 134.
[Закрыть].
Безоглядная готовность русской интеллигенции пойти на жертвы ради прогресса вызывает критику со стороны авторов сборника «Вехи» (1909). Александр Изгоев видит у современных радикалов стремление к смерти, которое он комментирует так: «Твои убеждения приводят тебя к крестной жертве – они святы, они прогрессивны, ты прав» [141]141
Вехи. М., 1991. С. 202.
[Закрыть]. Однако, согласно Изгоеву, жажду современных революционеров принести себя в жертву не следует отождествлять с древними христианскими мучениками, для которых стремление к смерти не являлось сознательной самоцелью. Другой автор «Вех», философ Семен Франк, критикует этический нигилизм воинствующего народника-социалиста, который любит не конкретного человека, а идею всечеловеческого счастья: «Жертвуя ради этой идеи самим собой, он не колеблется приносить ей в жертву и других людей» [142]142
Там же. С. 168.
[Закрыть].
Риторика жертвы ради прогресса служит цели противопоставить господствующей власти что-то вроде «антимира угнетенных» [143]143
Janowski В./ Welker М.(Hrsg.): Opfer. Theologische und kulturelle Kontexte. Frankfurt a. M., 2000. S. 208.
[Закрыть]. В этом понимании жертва приносится во имя супериорной власти будущего, по отношению к которой данная власть является инфериорной. Поскольку в православной культуре доминирует архетип пасхальности [144]144
См.: Есаулов И.Пасхальность русской словесности. M., 2004. С. 7–43.
[Закрыть], не удивительно, что и жертвы, принесенные пролетариатом ради будущего лучшего мира, часто окрашены мотивами воскресения. Критики подобных взглядов, напротив, предполагают, что за квазирелигиозной риторикой радикалов скрывается нигилистическая, утилитарная этика, стремящаяся к прогрессу любой ценой.
Самоотверженные инженеры – мученики любви к дальнему
Свидетельством тому, что раннее творчество Платонова носит отмеченный выше отпечаток пролетарской культуры, служит в первую очередь публицистика воронежских лет и рассказы в стиле научной фантастики 1920-х годов об изобретателях и инженерах. Смерть борцов за революцию рассматривается Платоновым как жертва ради нового общества: «Привет же всем погибающим и погибшим, привет смерти, рождающей новую высшую жизнь» [145]145
Платонов А.Сочинения. Т. 1. Кн. 2. С. 38.
[Закрыть]. Или: «Бессмертье заработали мы смертью и могилой. <…> Живут в нас все – погибшие от смерти, кто ночью падал в городах» [146]146
Платонов А.Сочинения. Т. 1. Кн. 1. С. 397.
[Закрыть].
Труд, в особенности труд дореволюционной эпохи, считается героической жертвой: «От рабочих требовался не просто труд, а труд героический, труд-жертва, может быть – труд-смерть» [147]147
Платонов А.Сочинения. Т. 1. Кн. 2. С. 65.
[Закрыть]. В одной из статей 1920 года, в которой автор повествует о биографиях трех рабочих – среди них отца писателя, Платона Фирсовича Климентова, – жизнь рабочего до революции описывается как служебное мученичество и «жертвоприношение во имя врага своего» [148]148
Там же. С. 101.
[Закрыть].
Для инженеров и конструкторов научно-фантастической прозы Платонова мотив любви к дальнему, заимствованный у Ницше [149]149
См. главу «Любовь к дальнему и любовь к ближнему: постутопические рассказы второй половины 1930-х годов».
[Закрыть], имеет основополагающее значение. Он уже звучит в рассказе об отце, который живет «как чужой»: «Никому до него нет дела, только ему есть до всех» [150]150
Платонов А.Сочинения. Т. 1. Кн. 2. С. 104.
[Закрыть]. Ницшеанская идея любви к дальнему, в противоположность христианской любви к ближнему, окрашена у Платонова в специфические тона. Она сочетается с мотивом восторженного, самоотверженного, одержимого труда над проектами овладения природой и космосом для блага общества. Здесь следует отметить героев таких рассказов, как «Сатана мысли» (или «Потомки солнца»), «Лунные изыскания» (или «Лунная бомба») или повести «Эфирный тракт». Любовь к дальнему сопровождается мотивом одиночества и крайней человеческой изоляции. У инженера Вогулова из «Сатаны мысли» глубокая скорбь о потере возлюбленной и энергия любви преобразуются в техническое творчество. Крейцкопфа из «Лунных изысканий», живущего только мыслями о своих конструкциях, покидает жена Эрна. А Егор Кирпичников из повести «Эфирный тракт», который по образцу отца выбирает путь странника-скитальца, оставляет возлюбленную ради достижения своих целей на чужой земле: «Не ищи меня и не тоскуй, – сделаю задуманное, тогда вернусь. <…> Я тоскую о тебе, но меня гонят вперед мои беспокойные ноги и моя тревожная голова» [151]151
Платонов А.Собрание. Эфирный тракт. М., 2009. С. 93.
[Закрыть]. Любовь к ближнему и к дальнему исключают друг друга: «Что же делать – полюбить ли одного человека или любовную силу обратить в страсть познания мира?» [152]152
Там же. С. 84.
[Закрыть]В рассказе «Маркун» парадоксальная и трагическая логика героев Платонова формулируется наиболее отчетливо: «Отчего мы любим и жалеем далеких, умерших, спящих. Отчего живой и близкий нам – чужой?» [153]153
Платонов А.Собрание. Усомнившийся Макар. М., 2011. С. 247.
[Закрыть]
Последовательная любовь к дальнему приводит не только к разрушению личных связей, но в большинстве случаев и к смерти героя. Крейцкопф не возвращается из космоса на землю, а Кирпичников подвергается смертной казни в Южной Америке. В рассказе «Эфирный тракт» существует «Дом воспоминаний» с пустыми урнами, к которым прикреплены мемориальные доски со сведениями о научных подвигах погибших ученых. Но последнее слово остается все же не за смертью, так как над входом в дом значится: «Вспоминай с нежностью, но без страдания: наука воскресит мертвых и утешит твое сердце» [154]154
Платонов А.Собрание. Эфирный тракт. С. 77.
[Закрыть]. Здесь христианский мотив воскресения из пролетарской традиции начала века под влиянием философии Н. Федорова уступает место представлению о воскрешении отцов. Мученикам любви к дальнему, приносящим себя в жертву для реализации своих технических проектов, обещано воскрешение при помощи науки. Продолжением рассказов о жизни самоотверженных инженеров и изобретателей является повесть «Бессмертие» (1936) [155]155
См.: Платонов А.Собрание. Счастливая Москва. М., 2010. С. 359–378. Не случайно Платонова обвиняли в религиозном представлении о большевизме и показе его представителей по образцу аскетов и великомучеников. См.: Гурвич А.Андрей Платонов // Андрей Платонов. Воспоминания современников. Материалы к биографии. М., 1994. С. 379–388.
[Закрыть], герой которой, Эммануил Левин, отказывает себе в близости с другими людьми ради того, чтобы организовать на своей станции железнодорожный транспорт для далеких, незнакомых людей.