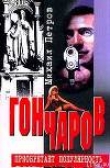Текст книги "Люба – Любовь… или нескончаемый «Норд-Ост»"
Автор книги: Григорий Свирский
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Как-то сразу прочувственный лепет Коли и Кабанова расплылся, стал миражом. Получил свое человеческое объяснения. Всех «причастных» обзвонили, оторвали от дел, собрали… на минутку ПОКАЯНИЯ…
Деловые люди! Ну, так и я вам по делу…– сказала я самой себе с ясностью в голове необыкновенной ….
– Здраствуйте, здравствуйте! – ответствовала я с напряженной улыбкой. Глубокоуважаемый Валентин Александрович. Дорогой наш академик!
Мне поручено передать вам лично большой привет от всего третьего курса, переселившегося, надеюсь, временно, из Московского Университета в СПЕЦОбух. В том числе, от Галины Лысенко-Птаха, нашей золотой головы, победительницы химических олимпиад, а так же от двух Оль и Златы из соседней палаты, все с одного с того же третьего курса, попавшие в ОБУХ, как кур в ощип. Вы помните выступление университетского ансамбля. Одна из Оль пела, другая танцевала и была, вовсе не за танцы, ленинским степендиатом. Они, а так же наша Тоня, Антонина Казакова из Ниопика, ученый-химик, исследователь, редкая умница, просили передать вам свое новое и странное ощущение действительности. Будто все они в Древнем Риме. Они рабы, проданные жестокими рабовладельцами на невольничьем рынке… Зла они в душе не держат: законы древнего Рима вечны. Рабы – гладиаторы возглашали перед каждым боем со зверьем: «Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!».
Поскольку на химфаке роль Юлия Цезаря многие годы единовластно исполняет академик Каргин, мои дорогие подруги из СПЕЦОбуха просят Цезаря, как и остальных цезарей-завлабов, продавших их в рабство, не забывать о тех, которым сейчас не до песен и плясок…
Зловещая тишина пала на только что лепетавших. Они не знали, как реагировать на неслыханную дерзость. То ли все превратить в шутку, то ли просто не заметить «выпада больного человека» и продолжить свое приветственное лепетание.
Выручил их академик Каргин, которого сбить с ног было нельзя, даже выстрелив в него из царь-пушки.
Он просил передать свои добрые пожелания и быстрого выздоровления всему третьему курсу, а так же исследователю Тоне из НИОПИКА, о которых он думает и днем и ночью.
Приветственный лепет продолжался как ни в чем не бывало…
Я чувствую, как кто-то затягивает веревку на моей шее, зеркало загорается миллионами огней, и я падаю в безвоздушное пространство. Я постоянно думаю о тех, кто остался там, в СПЕЦотделении. Казалось это были чужие люди, нас связывала неделя жизни.. Всего одна неделя.
Как-то я прочла маленькую бумажку на доске объявлений около учебной части: «Студентка Лысенко-Птаха отчислена с химического факультета МГУ по состоянию здоровья.» И вдруг будто камень с души свалился – я поняла, что Галя жива. Где она теперь? Пусть Сергей немедленно выяснит…
Однажды я зашла в общежитие и вроде бы невзначай опросила, что случилось с Галей Лысенко-Птаха. Мне наперебой рассказывали, что она то ли чем-то обожглась, то ли разлила какую-то жидкость и надышалась вредными парами. Потом, кажется, лежала в больнице и в результате запустила учебу … Говорят, просила академический отпуск, но почему-то ей отказали, и просто отчислили… Наверное, врачи нашли что-то серьезное.
Никто ничего не знает, и легко верят любому вранью, распускаемой титулованными убийцами и их равнодушными ко всему прихвостнями.. Так спокойнее…
Осенью 1969 какая-то женщина по имени Катя Морозова позвонила моей матери.
– Этот телефон мне дала ваша дочь в больнице, – сказала она и хотела что-то объяснить, но только при личной встрече. Когда мать спросила, не хочет ли она увидеться со мной, Катя, помолчав, ответила: «Быть этого не может!..»
Катя оказалась белозубой и румяной, лишь по выцветшим безжизненным волосам, все еще хранившим след неудачной шестимесячной завивки, и сухоньким рукам я узнала в ней маленькое слезливое существо. Выяснилось, что газ, которым она надышалась, вызывает кратковременное расстройство психики, главным образом, страх. Теперь все прошло, вот только бессоница замучила, да головные боли – это от нервов, никак не может забыть больницу. Поделиться, как назло, не с кем, был один мужичок на примете, и то после этой истории сбежал.
– Я-то теперь в стороне, а сказать, что тамувидела, никто не поверит
– А зачем говорить? – весело заметил Сергей, – Живи себе поживай, да добра наживай!
– Нельзя такое злодейство от людей таить! – с нервной убежденностью воскликнула Катя, – только вот сказать страшно: жить больно охота.
– Ну а перед смертью, сказала бы? – поддел ее Сергей Водянистые глаза Кати застыли в недоумении. – Ясное дело… только как доказать? Документы нужны, а они за семью замками.
Вот, скажем, пристают, почему работала без противогаза. Если я объясняю, что мне его не дали, сразу чувствую недоверие. Как-то со злости ответила: «противогаз – излишняя роскошь!» Приятель не уловил иронии, но зато был преисполнен сочувствия…
– Такова человеческая природа,– заметил Сергей, разливая по рюмкам коньяк, – надевать на себя защитный панцирь оптимизма или прятать голову под крыло. У кого какое крылышко – телевизор, рыбная ловля или моды… Власть выгодно использует наше естественное желание – верить в лучшее, а не в худшее. А ежели тебе, дорогая Катерина, так уж невмоготу молчать о преступлениях в ваших СПЕЦ, клади на стол доказательство. Есть у вас оно? Тут же и разберем….
– Да есть одно, – нехотя произнесла Катя, которая не верила красавцам-говорунам. – Вот мое доказательство! Или вам неинтересно? – И, не ожидая одобрения, заговорила быстро, взахлеб о том, что, видно, болела, как свежая рана – У нас на опытном военном химическом заводе под Калининым, в феврале это было, 1969-го, травили беременных женщин. Вам это, Сергей, интересно – нет?
– …Беременных… все же…– процедил Сергей. – Такого не слыхал…
– Так вот, моя последняя соседка по палате Нина Бакова. Около года назад она ждала ребенка, поэтому начальство предложило ей более легкую и безопасную работу в другом цехе. Оказалось, там скопилось более двадцати беременных женщин. Однажды кто-то из них почувствовал слабый запах, а может это только показалось. Кто-то потянул ее к выходу; дверь заперта. Крики не помогали – через некоторое время военизированная охрана выпустила только троих. Остальных выпускали маленькими группами через определенные промежутки времени, периодически запирая дверь снова. Всех женщин немедленно развезли по больницам. Нина попала в Перовскую. Опасаясь за здоровье будущего ребенка, требовала от врачей прервать беременность. – Аборт делать не стали, шесть месяцев ее держали в больнице и исследовали. Ребенок родился, как сказали врачи, «с некоторыми отклонениями от нормы». Его отправили в какую-то другую больницу, и Нина никогда больше не видела свою дочь. Когда я уходила, Нина попросила меня оставить адрес: в Москве у нее никого не было, а она думала, что именно здесь, в столице, она найдет справедливость. Нина обила все пороги, дошла до Министерства Здравоохранения, пытаясь хоть что-то узнать о дочке или хотя бы получть ее останки. Только когда встретилась с другими женщинами из этого цеха, поняла, что даже надежда на справедливость – потеря времени. Те, у кого дети родились живыми, больше их не видели. У некоторых – родились мертвыми. Часть женщин погибла –те, кто выходил в последних партиях. Никакого – объяснения или компенсации за несчастный случай никто не получил.
Когда на заводе поползли слухи, что это был не несчастный случай, а эксперимент на людях, оживился партком, предупредил, по заведенным ими правилам, что все это сплетни антисоветского характера за что суд и тюрьма.
– Пожалуй, девочки, про такие дела лучше не рассказывать… – пробурчал Сергей. – Доказать – ничего не докажешь, а наживешь себе холеру…
– А убийство Тони – и это для вас не доказательство?! – вырвалось у Кати.
Люба вскочила на ноги. – Как, убийство?!… Катя, когда?! Где?!
– Не выпустили ее из больницы. Не знаю, заставили ее расписаться или нет? Может, уступила насильникам… Да, видно, «хаки» галочку возле ее имени поставили. Дескать, опасна! Мыслит независимо, насмешлива, остра на язык. Иногда такое скажет… Умных в России не любят. Только покажется над забором умная голова, тут же палкой по ней: не высовывайся! Скончалась Тонечка в декабре шестьдесят восьмого, перед самым новом годом. Замечательная женщина была, душевная, заботливая… – Катя заплакала почти неслышно. Приложила платок к глазам, всхлипнула.
– Любочка, у меня от Тони для тебя привет. С собой принесла. Да только не знаю, оставила она еще какое доказательство? И признают ли его? – Возле Кати лежали, прикрытые накрахмаленной салфеткой несколько листочков, а поверх них самодельный конверт, подобный тем, в которых присылали солдаты-фронтовики свои письма. Осторожная Катя ждала минуты, чтоб незаметно передать листочки и конверт Любе («Кто знает, что в нем?»). На конверте выведено коряво «Катя! Если выйдешь, Любе, лично.»
Катя протянула конверт Любе, но его цепко схватил Сергей. Лишь разворачивая листок, спросил жену осторожно: Не возражаешь?»
И вдруг воскликнул с облегчением: – Да это просто стишки! Прочту вслух, с выражением, хотите?
Он чуть выставил вперед ногу, как это делал любимый им Евгений Евтушенко. И начал неожиданно тихо, вполголоса:
« Этой ночью за мной приходили, Я чутко, тревожно спал.
Вошедший взглянул на меня, постоял, Повернулся и вышел.
Я вздрогнул, почувствовав тень, Но ни звезд, ни луны, Ночь как темный в пещеру провал…
Ни серые кошки в нее не проникнут, ни мыши.
Приходивший ушел, но высокая тень от него Продолжала лежать на полу От двери поперек до подушки.
Я проснулся и первое чувство (как его назову?) Трепет?
Холод?
Гул в ушах и в груди, А-а, то сердце мое бьется в горле Как зоб у поющей лягушки.
Или может то комната бъется в истерике?
В ней никого.
Что ее испугало, так что стены заколыхались?
Так что на ноги встанешь и чувствуешь Все поплыло.
Вот все встало на место, И лишь ощущенье осталось – Этой ночью за мной приходили…» [1]1
Автор стихотворения «Этой ночью за мной приходили» поэт А. Казаков.
[Закрыть]
Все долго молчали.
Сергей схватился за голову.
– Страшные стихи!
– Гениальные стихи! – спокойно возразила Люба. Только гений может так точно выразить сущность наших «лепетунов», годами живших с морозящим и мысль и душу ощущением-памятью, которая парализовала их поколение на целый век : «Этой ночью за мной приходили…» В этом суть всех наших «тварей дрожащих – нашей интеллигенции в эпоху СПЕЦ лагерей и больниц
– Да-да, в этом что-то есть, – неохотно процедил Сергей.– И у нас страх еще не выветрился. А в отцовском поколении?! Отец о многом со мной говорил, он был на флотах – гром и молния, и не скрывал этого. Но я знаю о чем он молчал. Всегда молчал? «Не загребут ли вторично?»
То-то моя женка о Тоне по ночам бормочет: «Тоня – Тонечка!»; спросонок, думал. Или поразила чем-то… А ведь правильно наша дорогая гостья заметила. Гении на Руси долго не живут… Ну, раз так, милые наши страдалицы, выпьем за погибшего гениального поэта Антонину Казакову по русскому обычаю, не чокаясь… Если не чокаются – никакие доказательства не нужны…
– Увы, все доказательства появляются слишком поздно, – снова всплакнула Катя, осторожно ставя хрустальный бокал на стол. – Люба, вы снова на химфаке? Как вам там?
Люба улыбнулась горьковато.
– Все студенты, кроме ребят из моей группы и двух преподавателей, убеждены, понимаешь, у-беж-де-ны! что Рябова пыталась покончить с собой. Я никого не перубеждаю. Сил нет….. Деканат предлагал академический – отказалась, Чтобы потом восстановиться, нужно пройти медкомиссию, а я уже товар негодный. Пока были ожоги даже на лекции не пускали. Инспекторша наша Верка – серый медведь, торжественно меня выпроваживала, говорила «поликлиника запрещает вам учиться». Ребята выручили – все под копирку писали. Лето сидела в санатории, потом в горах занималась как проклятая. Осенью сдала экзамены за четвертый курс, с полимерами и псевдополимерами распрощалась. Диплом делаю по истории и философии науки…
Честно признаюсь, о прошлом молчу. Лишь однажды не сдержалась. Когда встретилась с Пшежецким. Мы столкнулись нос к носу у входа на химфак. Странно, я не почувствовала ни злобы, ни ненависти. Мне показалось будто меня облили клеем – нечто подобное я как-то испытала в Черном море, когда медузы облепили меня со всех сторон. Пшежецкий растянул в улыбке мягкие, как диванные подушки, губы и сказал: «Вы прекрасно выглядите: какой черт меня дернул – забыть, что на курсе две Рябовых». В глазах его не было ни смущения, ни раскаянья…
И тут меня действительно «черт дернул».
– Вы меня чуть не убили по ошибке. Но ведь другую Рябову, Таню с Урала, вы убивали насмерть. Осмысленно. В здравом уме и твердой памяти… Выстрелом в упор. Беззащитную Таню с Урала не спасал бы никто, и вы заранее знали об этом….Не слишком ли дорогая цена за звание «старшего научного» или даже за вашу докторскую диссертацию?! Ведь это не просто пустая фраза «Итти по трупам». Вы впрямую, без стыда и совести, шли по трупам… Шли-шли по трупам… к светлому будущему, и вот дошли…
– Люба, неужели вы не понимаете, что меня принудили. Что это система, наши кандалы, невидимые, без кандального звона, ручные и ножные кандалы, и я жертва, как и вы…
Тут выскочил из дверей близкий друг Пшежецкого, секретарь комсомольской организации химфака Эдик Караханов. Нашего разговора он не слышал, но по лицу Пшежецкого понял, что разговор был Пшежецкому неприятен. Он тут же похлопал меня по плечу, приговаривая:
– Она у нас молодец, все понимает, не обижается…
Я едва не бросила ему в лицо, что он превратил комсомол химфака в помощника смерти, но – не решилась…
Тут снова заглянул к нам Сергей, и, подвигав своими сросшимися бровями, дал понять, что время обеда, их ждут в столовой, и готов гостью деликатно проводить до дверей.
Люба резко ответила, что Катя ее лучшая гостья, она явно еще не обедала, и поесть ей совсем не плохо Катя, естественно, от обеда не отказалась. Ела молча, все время вытирая рот салфетой. Разговор не клеился.
Адмиральша прошествовала в столовую и отчитала домработницу за плохо вычищенный хрусталь. Катя сжалась в комочек, Сергей потащил нас в гостиную. Он достал коньяк, включил «Грюндик», медленная мелодия гавайской гитары наполняла комнату стереофоническим уютом.
– Ну, дорогие, хватит о кошмарах!
– Сергей уже превращался из инженера в ответственного работника райкома партии и, вкушая все прелести жизни, собирался в очередную заграничную командировку .
– Уверяю вас, – обратился он к Кате, – армянский коньяк лучше французского, но, если вам не нравится, я могу предложить «Карвуазье».
Катя выпила коньяк залпом – похоже, это был первый коньяк в ее жизни, – и поперхнулась.
– Дорогая Катя, – успокаивал ее Сергей – вам нужно быть поспокойней. Поверьте, что при советской власти можно очень прилично жить.
И снова пелена будничных дней. Огромные часы в столовой кажутся мне живыми. Циферблат осуждающе смотрит на меня сверху вниз: я в очередной раз иду лгать. Госэкзамен по философии начнется через час. Это последний экзамен в университете, впереди – диплом.
Вытягиваю билет: поток многолетних вузовских стереотипов – критика буржуазных теорий классиками марксизма, гармоническое развитие личности при коммунизме.
В СПЕЦпалате я развилась настолько гармонично, что теперь мне все это на один зубок.
Когда экзамен кончится, решения государственной комиссии, выкрикивают по алфавиту. – Потапов,– отлично, Рябова! – Отлично…
Кто-то еще отделяется от толпы. Это мой двойник – открытый лоб, доверчивые глаза, а главное – кожа… Я щупаю свое лицо – кажется все в порядке…
И вдруг Сокол – неудовлетворительно! У меня внутри будто что-то оборвалось. Двойка на госэкзамене означает отчисление, пересдавать нельзя. Из университета вылетает мой приятель за пять месяцев до получения диплома. Он вытирает взмокший лоб и натягивает в улыбке побелевшие губы: «Плевать»…
У Ильи Сокола год назад умер отец, в доме остались больная мать и дряхлая бабушка. Поэтому слово «диплом» там произносят с молитвенным благоговением, веруя, что именно в нем и заключено спасение.
Наш курс отправил письмо Ректору и Декану: «просим учесть хорошую успеваемость Сокола в течение ПЯТИ лет. И разрешить пересдачу».
Под прошением собрали, я всех обошла, больше двухсот подписей. Но партком Университета был против нашего «гнилого либерализма» Подумать только Сокола спросили, как он представляет себе слияние города с деревней при коммунизме, его ответ, по убеждению парткома, прозвучал издевательски. «Вначале, сказал он, нужно провести хорошие шоссейные дороги от города к деревне».. Больше говорить ему не дали….
В январе 1970 на доске объявлений появился приказ: «Студент И. Сокол с химического факультета отчислен… за неуспеваемость.»
Вскоре он зашел ко мне.
– Это был только предлог, – Илья усмехнулся краешками губ.– Пусть идут куда подальше вместе с их дипломом. После смерти отца мне пришлось подрабатывать. В лаборатории у нас занимались алкалоидами, по галлюциногенному действию Получили сильнее ЛСД и меньше изученное. Естественно, нашлись добровольцы, ну, и я в том числе. А потом, без предупреждения, стали увеличивать дозу.
Я возмутился. Тогда заманили на это дело сопляков со второго курса. Мы, говорили им, противоядие исследуем, гарантируем то да се, а я не выдержал и ляпнул: «нет еще противоядия, никак не изобретут».
Люба, я просто мешал этой «академической», насквозь криминальной хунте чувствовать себя в безопасности. От меня нужно было избавиться любыми путями… Вот они и вспомнили мне слияние города с деревней…– Он молча выкурил полпачки сигарет.
«Да ведь и Галю выкинули по той же причине, что Илью Сокола, – мелькнуло у меня.– Убийцы боятся свидетелей своих преступлений… Избавляются от них действительно любыми путями».
– О тебе тоже распускали сплетни! – добавил Сокол, уходя.– Я им и врезал, что никакое это не самоубийство, ты не могла забыть о противогазе. И что нашего Пшежевского надо судить… Мне тут же приклеили бирку: поведение Сокола «не соответствует облику советского студента». И вот расправились за все. Скажи своему Славе Дашкову, чтобы поменьше трепался…
Но я, по правде говоря, не обратила внимания на его слова, как впрочем, и на многое другое: диплом на носу, свекровь скандалит с домработницей, требует, чтобы я вела хозяйство; у Сергея бесконечные гости. Моя обязанность – улыбаться – это нужно для связей. Когда кашляешь кровью, выплевывая куски легких, это нелегко.
Иногда мне хочется плюнуть всем его сиятельным гостям в лицо. Сергей говорит, у тебя характер испортился… Наверное, так и есть: не могу видеть военную форму.
К Славе Дашкову я так привыкла что почти перестала его замечать.
Заметила, когда было поздно. 9 апреля 1970 года он исчез. Живой человек из плоти крови испарился, как Привидение. На доске объявлений прикололи свежеотпечатанный лист: «Студент Дашков С. отчислен с химического факультета по собственному желанию».
Но я уже давно не верю объявлениям. Не верю,– что из университета уходят по собственному желанию за два месяца до получения диплома. Исчезают, не попрощавшись с друзьями, не взяв из дома даже портфеля… Просто проваливаются в неизвестность…
Глава 8. Мой пропавший друг Слава Дашков
Теперь я как бесприютный скиталец, странствующий без компаса по лабиринтам памяти. Может быть там, в прошлом, скрыт смысл того, что случилось со Славкой… И перед глазами снова всплывает все, что казалось неважным и незначительным за пять студенческих лет.
Первое сентября первого курса. Мне ничего не лезло в голову, потому что сразу после занятий мы с Сергеем собирались подавать заявление во Дворец Бракосочетаний – Но какой-то чудак – нас распределили по двое для лабораторных занятий – взял в руки колбу и тут же ее разбил. Осколок порвал мне чулок. В столь торжественный день это было весьма некстати, поэтому меня прямо трясло от злости. Мой чудаковатый напарник невозмутимо посмотрел на меня сквозь толстые стекла очков и строго спросил: «Ты теорию относительности знаешь?» Я решила, что он малость с приветом – откуда мне на первом курсе знать такие вещи? Тогда он просто утопил меня в презрении. Голубые глаза будто вылезли поверх оправы, осмотрев меня сверху вниз. «Я теоретик, а ты – практик»,– заявил он на полном серьезе. Я прямо обалдела и забыла про порванный чулок. Когда «теоретик» опрокинул бутыль с кислотой, стало ясно, что в практикуме мне придется вкалывать за двоих. Вскоре неуклюжему парню, Славке Дашкову, предложили перейти в теоретическую группу – туда отбирали лучших студентов. Почему-то он отказался, а я, эгоистка проклятая,– была рада –Славка был удобнее любого учебника, и если я чего-то не понимала, он тут же мог объяснить. Вообще Дашков оказался славным, добрым малым, правда немного чудаковатым, он даже на свадьбу ко мне не пришел, хотя за два месяца знакомства мы стали друзьями.
Было в нем что-то не от мира сего, уж больно много он знал всяких премудростей. А я подсмеивалась над его подслеповатостью и неповоротливостью, зная, что Славка на меня не обидится. Дашков стал для меня ребенком, подругой, братом, и… преданным псом. Родных у него не было, с людьми он сходился тяжело, а если сходился, то намертво.
К третьему курсу о Дашкове говорили, как о явлении необычайном, «таких способных студентов на химфаке много лет не было». Но и ленинской премии Славке не дали, потому что он спал на комсомольских собраниях, и вообще был «вне коллектива». Правда, взамен ему предложили полставки лаборанта в каком-то непонятном сочетании с научной работой. В переводе на рубли это было совсем неплохо – шестьдесят рублей. И заниматься надо было полимерами в лаборатории Кабанова, которого он тут же вывел из себя, бросив ему без всякой улыбки: «Я работаю у вас на полставки и потому прошу кричать на меня вполголоса…». Дело в том, что Славке навешивали допуск, а он отбивался от «напасти», как мой любимый Дартаньян от королевских гвардейцев.
– Что я думаю по поводу допуска? – спросил он меня.
А я, дура набитая, ничего не думала. У нас с Сергеем была уже своя полусветская жизнь, мы в театр опаздывали. Какой – то актерский бенефис, на который стремилась «Вся Москва».
Нахамила Славке: – Какой же из тебя лаборант? У тебя руки-крюки, из них все сыпется, я же за тебя половину синтезов сделала… А им не руки, им мозги мои нужны? Тогда валяй, шестьдесят ре на дороге не валяются.
Совет дала, как понимаю сейчас, безголовый, жутко опасный …
Вскоре заметила, Славка похудел и осунулся. Казалось, работа ему не по душе. Я так и не спросила: когда у человека допуск, незачем лезть с вопросами. Единственное, что Славка сказал: «У Кабанова весьма перспективная лаборатория». Физиономия у него была пасмурная: я подумала, что это от того, что он со своим характером с кем-то не поладил. У Дашкова был тяжелый юмор, порой его шутки до меня не доходили. Недаром на курсе его звали «комик мрачный».
В сущности, именно Славке я обязана жизнью – ведь это он объяснил моей матери, что такое хлорэтилмеркаптан. Оказалось, в его группе этим и занимались. В теории существовало еще полно белых пятен, и хорошие головы, вроде Славкиной были очень кстати.
Дашков сказал, что на кафедре не хватало экспериментальных данных; какой именно кафедре, я никак не могла понять, будто мозги расплавились…
– На военной, разумеется, – ответил он.
Да, но причем тут Кабанов с его полимерами?– приставала я.
– Любка, ты темна, как я во младенчестве… Это «вторая» тема. Непонятно? Первая – официальная, а это вторая… – Хитро придумали? И главное, очень удобно – никому и в голову не придет. Ученый считается, к примеру, полимерщиком, ходит в штатском, ездит на международные конференции, а сам занимается, к примеру, нервными газами. Да и кто из нас имеет дело с полимерами? Ты посмотри, лаборатории какие огромные, по полкорпуса занимают, можно слонов изучать. Народу тоже хватает. Аспиранты ишачат до ночи, статьи пишут. Над гражданской темой, что ли, целая группа спину гнет? Три ха-ха! Кандидатские и докторские по полимерам пекут, как блины. Вначале, какие властям надо, потом для себя. Первые несут, кому треба, например, тем, кто ипритами занимался.
– Наверное, это и есть гармоническое развитие при коммунизме, сказала я.
– Любка, ты не безнадежна. – Славка улыбнулся. – Во всяком случае для Кабанова коммунизм уже давно наступил. Обрати внимание, у нас не все академики так живут, как свежеиспеченный молоденький членкор Кабанов. Секрет проще выеденного яйца: не все ученые хотят этими вещами заниматься, да и не всем доверяют. Будущая химическая война – гостайна с грифом «совершенно секретно». А в нашем Кабанчике можно не сомневаться, у него не то бабушка, не то пробабушка вместе с Лениным работала, коммунизм строила. Надеялась старушка что он вскоре во всех странах будет.. Не дотянула.
Помре…
Вот теперь внучек тем же самым занимается… Бабушка в лучших снах не видела, какие сюрпризы готовит для капиталистов славный продолжатель рода и семейных традиций.
В американском вестнике есть ядовитая заметочка, что их родной разведспутник ни к черту не годится: проглядел рост советского подводного флота при тишайшем «бровастом» в три раза… да какого флота?! С баллистическими ракетами. А как ему, сироте, не проглядеть, коли ядерный подводный флот – это у нас «ВТОРАЯ ТЕМА». Новых заводских корпусов, в отличие от американцев, не строили, засовывали стапеля в старые конюшни или под земную твердь… Хи-итро.
– То, что Пшежецкий, Кабанов и академик Каргин занимались не только и не столько полимерами я и сама поняла. Только зачем этот маскарад?
Что б капиталисты поверили, что «мы за прекращение гонки вооружений?» Неужели они такие дурачки?
– Потому-то такие, как Пшежецкий, в большой цене, это тебе, Люба, не военный жук из почтового ящика или химической академии, а вполне мирное безобидное существо. Кабанов, между прочим, обожает животных. Сейчас вообще считается неприличным не любить собак или кошек. Людей не любить – это нормально! Люди – существа злые и завистливые, не то что звери. Кстати, с животными для второй темы у нас всегда дефицит, напрасно ты удивляешься – значит, не в курсе дела. Получая новую партию, Кабанов всегда расстраивается : «бедные зверюшки!».
Славка пытался уйти с работы, от злополучной ВТОРОЙ ТЕМЫ, но его не отпускали. Оказалось, что с допуском все не так просто, как мы считали раньше. Славка прогуливал неделями и без конца торчал у нас дома. Это было как раз в те полгода, когда я ничего не могла делать руками, а на лице еще были видны следы ожогов. Славка оказался прекрасной нянькой, он даже уколы научился делать. Но мне и в те дни было не до него. Я часто, задыхалась, тут уж не до него. И никак не могла привыкнуть к своему лицу. О своем лице я думала, сволочуга этакая, куда чаще, чем о Славке…
Что наша семейная жизнь и шрамы – неудачное сочетание, я давно поняла, но Сергей никак не мог примириться со столь простой истиной. Однажды он, снял со стены мой портрет, поставил его перед собой и сказал Славке: «Понимаешь, старина, я женился на этом,– он взглянул на портрет, а получил вот это». И посмотрел на меня.
Славка оделся и ушел. С тех пор он редко бывал у нас. Один раз, когда с легкими стало совсем плохо, я позвонила ему и попросила зайти. Славка притащил кислородные подушки и цветы, похожие на ободранных кур, теряющих разноцветные перья.
– Послушай, старуха, ты случайно не хочешь стать моей женой? – выпалил он. Я чуть не проглотила наконечник от кислородной подушки.
– Во-первых, я замужем, а во-вторых…
– Твое «во-первых» разваливается на глазах,– перебил меня Славка,– иначе бы я молчал, как все эти четыре года.
– Пусть все останется как было. Мы ведь друзья, ладно?
– Лады, все так и останется,– ответил Славка грустно.
Через несколько месяцев следы от ожогов исчезли,и Сергей снова стал обожающим мужем. Он говорил, что все по-старому, что ничего не изменилось, а я делала вид, будто и на самом деле ничего не изменилось. Я еще любила его сильные руки… А потом – пятый, курс… Стрелки всех часов мчались с бешеной скоростью. В тугом сплетении экзаменов, житейских невзгод и легочных кровотечений не нашла минуты потолковать со Славкой наедине и без спешки.
Казалось, у него все в порядке. Правда, вместо лаборатории он подрабатывал где-то на почте. Гром грянул только в марте: Дашков отказался подписать распределение. Я обрывала его телефон. Это безумие, кричала, ты останешся без диплома, но Славка молчал. Почти целую неделю я не понимала, в чем дело. Наконец он появился – худой, обросший, беспомощный.
– Знаешь, старуха, я подумал, что у господ капиталистов людям проще жить. Сдал экзамены, защитил диплом и иди ко всем чертям. Наше заботливое государство любезно дает работу, но если ты от нее отказываешься, это считается чуть ли не преступлением. При распределении члены комиссии заявили, что я не желаю приносить пользу родине. Мне предложили семь почтовых ящиков на выбор. Каждый из них изобретает новые способы превращения людей в трупы.
– За такую милую работенку платят в два раза больше, чем в любом гражданском институте. Я и сказал, что готов заниматься стиральными порошками или борьбой с блохами, получая обычную зарплату. Тогда мне ответили: «Дашков вы будете работать там, где мы сочтем нужным». Им, видите ли, нужны мои мозги.
И вот с этого момента, вспоминает Люба, у меня стало хуже со здоровьем. Понервничала, наверное. Все было больно. Смотреть в окно – тоже больно. Поэтому я уже не могла считать дни и не помню, когда это произошло – в понедельник или во вторник.
– Сколько миллионов в лагерях погибло? Сколько стран стали нашими придатками, как нас учили, в силу «исторической необходимости?» Молчат. Наверное, Люба, твой больничный опыт – тоже «историческая необходимость». Вернее, крошечная иллюстрация того, что может произойти с тысячами других. С той разницей, что им не будут делать реанимацию.
Славка скривился в мрачной усмешке: – Мы толком не представляем, что происходит на Западе, но даже по количеству открытых публикаций можно кое о чем судить.
Гораздо страшнее, что на Западе, не понимают того, что происходит у нас… Это смертельно опасно «для мира во всем мире». В самом деле, что знают империалисты о Сибири или даже о нашем университете? Только то, что мы им рассказывем.
– Мы с тобой, Славка, тоже имеем смутное понятие о том, что делается в Сибири, куда уж иностранцам! Впрочем необязательно забираться в такую глушь чтобы понять, чем дышит Россия; сегодня, им достаточно было бы увидеть то, что видела студентка Галя – полигоны в районах Саратова и Энгельса..