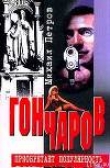Текст книги "Люба – Любовь… или нескончаемый «Норд-Ост»"
Автор книги: Григорий Свирский
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
Мне девчушка из Менделеевки сказала: когда их привезли, один из санитаров брякнул: «Все же вы, бабье живучее, чем мы! Мужики из этого цеха час назад все до одного уже гикнулись.» Так и сказал, «гикнулись»…
Галя берет в руки учебник, со злостью швыряет его в тумбочку.
– Знаешь, даже не верится. Сегодня четверг, наши все на лекциях, а кто-то может быть в кино смылся… Я киноманка! Все ленты про войну пересмотрела… И не то, чтобы завидно, а вот как подумаешь что уже никогда мы не будем такими, как раньше, если мы вообще будем…– Слезы бегут по ее заостренному детскому лицу, припухлые губы вздрагивают, и она кажется сейчас еще слабее и беспомощнее.
Когда Тоня вернулась в палату, Галя все еще всхлипывала.
– Галюха, не запугивай себя и других. Мне и без детских слез кюхельбекерно и тошно…
Принесла Гале два чистых платка и принялась выговаривать ей с материнскими интонациями:
– Ну угодили мы в подопытные кролики, но это так, за компанию. У нас ничего страшного быть не может. Подумай лучше об остальных – здесь большинство из почтовых ящиков. Сама понимаешь… Яды боевого применения – это же в тысячу раз опаснее любых наших вредностей… А ты уже умирать собралась.
– Много ты Тонечка знаешь! Да в моей лаборатории этих «вредностей» как ты говоришь, было не меньше, чем в любом почтовом ящике.
– Так зачем тебя туда понесло?
– Да надули меня, художественно надули!.. Была всесоюзная химическая олимпиада. Прокатилась по всем районам. На Украине я была победительницей. Первый приз и в любой Унивеситет без экзамена. Меня взяли на химфак МГУ, когда мне было пятнадцать. Как талант! «Менделеев и Моцарт в одной пробирке»… А я не гений! – Ее игольчатые брови сердито взлетают, русые вихры мальчишеской стрижки,измятые подушкой, торчат во все стороны, будто тоже выражают свое возмущение.
– Гений не ходил бы так, как я, неприкаянный, не зная, куда приткнутся на специализацию? К третьему курсу все уже выбрали, а я в разборчивые невесты попала. Куда нас только не зазывали…Все жутко интересно. Все манит. Помнишь эти ПЛАКАТЫ, красовавшиеся на стенах: «Студент! Тебя ждет химия плазмы!» Или «Искусственная пища накормит планету». Тоня, ты в точку попала. Я свято верила печатному слову». Клюнула на плакат: «Ферменты – это жизнь…» У шефа была отличная лаборатория в новом здании, я считала его будущим светилом и делала все на свете – от мытья посуды до инфракрасной спектроскопии. В общем, была девочкой на побегушках… И вдруг здесь, в этом треклятом СПЕЦОбухе, мне преподносят что на меня был оформлен допуск. Я чуть не двинулась без гудка.
Все,что я знаю – шеф занимался ферментативным катализом. Да у нас этого и в программе нет! – Спекурс читает только дипломникам, а я и ферменты знаю не больше, чем ты. Просила шефа объяснить поподробнее, а он, змей горыныч, говорит, потом разберетесь. Научитесь работать руками. «Вы перспективны, будете еще делать великие открытия»…
Вот я и сделала открытие… в больнице. Оказывается, я своими руками синтезировала сильнейший яд. Здесь военные называют его ксифаголом.
Тоня вздохнула сокрушенно:
– Галя, у тебя, что, тоже тяга «сломалась». Потому ты здесь?
– Да причем тут тяга? Это же микросинтез. – Я его сто раз делала без всякой вентиляции. У нас для этого отдельная комната есть.
– Так что же случилось?
– Ровным счетом ничего. Змей что-то намешал в пробирке, указал температуру плавления. Все остальное я делала, как робот: через двадцать минут извлечь продукт пипеткой, нанести на стекляную пластинку, дождатся пока высохнет, убрать в специальный ящик, пронумеровать. Нас за эти годы чему-то научили, да и шеф меня выдрессировал так, что я тут одна работала, а он у себя в кабинете сидел. Я закончила, пришла к нему, села считать хроматограммы. Потом, чувствую у меня что-то давит в груди, тошнота, перед глазами все плывет… Я слышала, как шеф вызывал «скорую помощь»… – Неужели ты считаешь что и он нарочно?.. Змей Горыныч воистину?!
– А ты что думаешь, у него полный склероз? Он забыл, что ксифагол яд?
– Значит, это у ребенка старческий маразм?! Я даже и подумать не могла, что имела допуск. Тоня, рядышком, в соседней палате, еще одна лежит – такая же пигалица, как я, с третьего курса. – Галя раскинула руки, будто взмывает с подушек ввысь от возмущения. – Та тоже понятия ни о чем не имела. Не ведала и то, что ей секретность прилепили. Да что же это они, хуже Гитлера, тот свой Гитлерюген, детей, погнал на убой обезумев от паники, когда наши к Берлину подошли. За три дня, можно сказать, до конца. А этих сволочей что напугало? Странно все это…
– Рябова, Лысенко-Птаха, приготовиться к осмотру, – заглядывает мятый халат. – Курсанты идут!
– Сейчас услышим местные лекции. Любка, только не реагируй. Плюнь и разотри, поняла?
Белизна халатов меркнет на зеленовато-серых кителях. Палата напоминает снежное поле, густо покрытое… саранчой. Она откормленная, мускулистая, сильная, как будто только что сожрала свежий урожай.
Воздух нашей палаты наполняется запахом «Шипра» и гуталина и, смешавшись с хлоркой, повисает над постелями.
– На кого смотреть, товарищ полковник? – спрашивают из толчеи.
– И так, товарищи курсанты! – Полковник, не ответив, начал без промедления:
– Как вам известно, действие, бэта-хлорэтил-меркаптана на живые организмы представляет интерес и на сегодняшний день. Динамика поражения агента известна для животных и в значительной степени для человека.
Судя потому, что указка в руках полковника нацелена на меня, этот человек – я…
Полковник говорит быстро и монотонно, до моего сознания доходят лишь отдельные фразы или незаконченные куски. Он сыпет какими-то цифрами и терминами, которые несутся мимо меня…
– …Содержание примесей… при времени экспозиции сорок минут полученная доза является пограничной между средней и смертельной…. А сейчас мы попросим пострадавшую встать, чтобы все могли видеть очаги поражения.
Я встаю и протягиваю к ним руки.
– Мы должны видеть состояние всего кожного покрова.
Пытаюсь что-то возразить, но руки сильнее слов. Как сказал вчера полковник, эти ребята – «будущие специалисты». Специалисты нашего будущего?
Каково же оно, это наше будущее, если сейчас на мне изучают «очаги поражения»?
– Вы видите химические ожоги второй степени на коже лица и рук, вызванные нарывным действием агента.
Указка полковника скользит по лицу и рукам, застывает у плеча. – Обратите внимание, на коже тела нет покраснения, хотя пострадавшая была без защитного костюма…
«Я не говорила об этом никому из врачей… Откуда им известно? Неужели Пшежецкий доложил такие детали? Для Обуха меня готовил?»
– … И так, на пострадавшей был плотный свитер, юбка и халат, что оказалось достаточной мерой для защиты кожи тела. Дегазация одежды не проводилась, нейтрализующий раствор для обработки кожи не применялся. Теперь обратите внимание на глаза. У этого объекта…
– Оденьте меня! – перебиваю я полковника.
– Во время осмотра не положено…
– Полковник Скалозуб, – вырывается у меня раздраженое.– Оденьте меня!..
– У меня простое русское имя, Иван Иванович Иванов!
– Извините, вырвалось непроизвольно!…
– Возможно, на первый раз прощаю. Думаю, ваша соседка по палате плохо на вас влияет… – И он снова загудел свое:
– Отечность век не следует относить к нарывному действию агента «Проклятый Скалозуб. Оказывается, я не женщина, а объект. К этому придется привыкнуть…»
– Объекту двадцать два года средней упитанности, без патологических изменений…
Краем глаза вижу Галю. Ее обычно беспомощное, совсем еще детское личико, гладкое, припухлое, кажется сильным и даже вызывающим. Что она задумала?
Галя неслышно плюет на пол, снимает с себя рубашку и встает в полный рост. – Товарищ полковник, я приготовилась к осмотру раньше…
От неожиданности полковник оборачивается, и роняет указку. Галя покачивается на своих тонких маленких ножках, кажется, вот-вот упадет. Но взъерошенная голова ее поднята гордо, худенькие плечи расправлены. Она покачивается – во всем своем женском величии. Четыре десятка глаз замирают.
– Лысенко-Птаха – Полковник ничем не выдает своего возмущения. Он лишь слегка растягивает слова. – Не за-будь-те приготовиться к завтрашнему дню. Сегодня у нас нет времени.
Товарищи, вернемся к нашему объекту. – Он резко поворачивается, и вслед за ним все четыре десятка глаз.
– Итак, покраснение глазного яблока умеренное, фотофобия выражена относительно слабо. Обратите внимание, что у Попова при времени в двадцать минут… Это еще раз напоминают о различии действия агента в зависимости от пола, возраста и индивидуальных защитных свойств организма….В отличие от Бынина и Мережко объект не жаловалась на тошноту. Все эти факты…– И загудел свое опять…
«Правда», кем-то из больных оброненная и забытая, так и осталась лежать на полу. Блеклая газетная бумага незаметно слилась с тусклым цветом свисающих простынь.
Тоня подняла измятые листы, взглянула на заголовки и – заметила с брезгливой усмешкой: – Мы опять требуем «немедленного прекращения Западом» всего того, что мы сами прекращать и не собираемся…
Мучительнее всякой боли было признать-осознать все происходящее и остаться самой собой. Видеть, что ты подопытное животное и не превратится в зверя. Не кричать от ярости, не плевать из своей клетки на дрессировщиков.
Надо было уцелеть. Любым способом.
Не у кого было спросить, как жить дальше. Нельзя отправить письмо, и, хотя на окнах нет решеток, от высоты, чернеющей за толстыми двойными стеклами, становилось не по себе.
Каждый из нас, конечно, думал, что ему, именно ему повезет… что он крепче и здоровее, и он выживет.
К вечеру одной из новых соседок стало совсем плохо. Тощие руки лежали поверх ее живота, плоского, как пустая наволочка. На теле, от плеч и ниже, не просматривалось никаких выпуклостей, только в самом низу торчали пальцы ног. Она скулила как-то по-собачьи, вытирая слезы казенным вафельным полотенцем, отталкивая от себя утешавшую ее Тоню.
– Помирать страшно, – безголосо тянула она. И все чувствовали, что это действительно страшно.
– Смерти нет! – Будто от сильного рывка качнулась стрелка прибора, рисовавшего на ленте неровную кривую. – Смерти нет!, – отдалось эхом в металлическом ящике, за которым не видно было Анны Лузгай. И почему-то мне хоть на секунду почудилось, что смерти действительно нет.
– Ну, а ты чего раскисла? – наклоняется ко мне Тоня. –Тоже помирать собралась?
Вечером струпья на ее лице почти сливаются с ее рыжеватыми волосами, отчего ее открытое, все чувства наружу, лицо будто в пламени. Горит женщина!
– Нагляделась солдатня на тебя… Ничего, Любочка. Лишь бы пороху у тебя хватило… Галя сказала, что на лекции ты чуть в обморок не упала.
Галя улыбнулась удовлетворенно: – Пришлось выручать…
– Чудачки вы мои! Мы для них не женщины. И уж точно не люди…
– Пойми, Тоня! Сегодня лекции, вчера расписку тянули, пугали, что без расписки лечить не будут, – жалуюсь я. А подпиши и виноватых нет. Поправишься, иди домой и доказывай потом, что черное – это белое. Да кто тебя слушать будет? … Тоничка, дорогая, что же делать? Глумятся, как хотят. Мне такой укол закатили, что сам себе смертный приговор подпишешь.
– Расписка – это серьезнее. – Ее спокойный голос стал сипловатым, будто дал трещину. – Если тебя предупреждали – пеняй на себя. Притащишься в свою любимую Альма Матер, и что заявишь? Что тебя эти вымогатели заставили расписаться под психотропными наркотиками? Твои академики вместе с генералами ничем не помогут. Бумажка есть и все. Виноватых нет!.
Власть у нас, как подвыпившая уличная, простите, девка, которая требует, чтоб мы немедленно признали, что она невинна.
Девственно чиста… И знаете, как называется у нее наше сомнение в ее невинности?…Клевета на советский государственный строй! Не более и не менееДесять лет строгих лагерей…
– В лучшем случае, психическое расстройство, – добавляет Галя. – Не дам я этим мужланам на себя сесть. Буду отбиваться от их вранья и ногами и руками…
– Молодец, – сияет Тоня. – Спасибо за поддержку. Здорово!
– А чего здорово?! – обрывает их тощенькая соседка. – Не сегодня, так завтра, а мужик-насильник своего добьется. К чему зря мучиться? Пусть подавятся они энтой своей поганой распиской. А нам … дай Бог живыми выбраться. Да вы поглядите на нее: ели-ели жив ребятенок – предупреждали – не предупреждали, да какая к Богу разница.
– Как, какая разница – взрывается Тоня. – А – справедливость?!
– Справедливость?! Ишь, праведная, чего захотела! Ты еще погромче о справедливости покричи, глядь, и у тебя психическое расстройство найдут.
Ее полуокрытые глаза тускнеют и лишь изредка вспыхивают неестественно ярким светом. – Как же, – видали мы эту их справедливость у нас в Воскресенске. В самом городе у нас удобрения делают, а отъедешь на окраину – взрывчатку. Порой целый цех в воздух взлетит, и все – от рабочих до главного инженера косточки сложат. Справедливость на всех одна.
А в нашем почтовом ящике завсегда помирали тихо, безо всяких взрывов. У начальства одна отговорка – несчастный случай. Ну, и иди, ищи ветра в поле. Как смертная авария, мастеров, да инженеров в цеху нет начисто. То на совещаниях, то в разъездах, а то у директора…Слух, правда, пошел, что дело тут нечистое….
Молодка, твое имя Тоня, кажись? Баба ты боевитая, с университетом. А мы что? Мы – темнота. Ящиков со стрелками в глаза не видели. Охрана – не чета здешним сестрам, сами темные. В барак снесут, где вчерашние уже поленницей сложены, и готово дело…
– У нас, выходит, проще, чем в ваших ниверситетах, – вступает соседка, кожа да кости, привезенная ночью. – Рабочие идут за копейку пара, несчастный случай, и на свалку. Газеты о том не пишут…
– Да что это вы, дорогие мои! Вы знаете, что вас, скорее всего, ждет, и сами же в гроб ложитесь. Добровольно?! – недоумевает Галя.– Вы розумеете – нет?
– Так, дивчина ты наша, в том-то и дело, не дорогие мы вовсе. Когда детишки от голода пухнут, а у меня их трое, к черту в зубы полезешь, а не то, что в ящик…
А ноне у нас никакой аварии не случилось. И в помине ее не было. Инженер и мастер ушли, а скоро всех по телефону вызвали, вроде бы на комиссию. Слова сказать друг другу не успели – солдаты всех в машины загнали, да не в район, а прямо в Москву повезли. Только в дороге что-то стало мне в груди жать, тогда только и смекнула, что дело дрянь…
Голова соседки вновь погружается в подушку, расплываясь в большое бледное пятно.
– Со студентами тоже не церемонятся… – Растопыренными пальцами Галя хватается за спинку кровати, потеет от слабости и взмокшая рубашка прилипает к упругой груди.– Мы государству огромные деньги экономим, наблюдая действие вещества, пока оно не очищено, прямо после синтеза. Ведь в бомбах происходят точно такие же синтезы, а мы, студенты, можем все в колбах сделать.
– Хватит вам, и без того тошно, – обрывает разговор соседка из Воскресенска. – Только и умеем, что болтать. Знаем, что никто не услышит. Жили дрожали, и помирать страшно. – Ее заострившееся, без кровинки, лицо, размытое светом грушевидной лампы, розовеет и она с жадностью выпивает осташийся после обеда компот из сухофруктов, дожевывая каждую ягоду.
Не верилось в тот момент, что она и вправду думает о своей смерти.
– Блаженны мертвые, умирающие в Господе, – сипло отдается за коробкой прибора, но никем не замеченные слова таят в свинцово– тяжелом воздухе.
Ночью палата похожа на затихший муравейник. Как бдительное насекомое поцокивает стрелка прибора, заглушая чье-то хрипловатое дыхание, легкое всхлипывание, глухой стон. Голова медсестры, изредка просовывается в дверную щель и напоминает лошадиную.
Тревожно, мучительно стучит в висках, будто кровь перекачивается со сбоями неисправным насосом. Но сильнее саднящей боли – тревожные мысли, устало перемалывавающиеся в сознании. «Динамика поражения агента хорошо известна для животных и в значительной степени для человека»… «Справедливость? Ишь чего захотела!» «Блаженны мертвые…»
Утром, за окном, громко орут галки, свисая черными гроздьями с мокрых веток. В тусклом свете слякотной осенней пелены чуть вырисовывается рука, беспомощно застывшая над самым полом.
«Соседка из гробового Воскресенска?!» – Что-то холодеет у меня внутри.
– Ночью… – задохнулась в жалобном шепоте Тоня. – Никто даже не заметил. Посмотри! Кажется, она хотела что-то сказать. Может быть, самое главное в жизни, кто знает…
И правда, на ее лице, рано состарившейся и несправедливо обделенной судьбой женщины, застыло едва заметное удивление, будто она так и не смирилась со всем тем, что довелось ей узнать, и даже перед смертью все еще пыталась понять какую-то скрытую от нее истину.
Заспанные санитары накрывают труп дырявой простыней, и через несколько минут тетя Даша, перекрестившись, стелит чистое белье на осиротевшую постель… – Царство ей небесное, – вздыхает она. – Глядишь, сегодня новенькую положат. А на завтрак-то у нас селедка с картошкой…
– В морг повезли-и-и… – протяжно кричит кто-то за дверью.
Галю этот возглас вдавливает в пролежанный матрас, как от ударов плетки. Острые плечики вздрагивают.
– В морг! – Ее захлебывающийся голос сливается со скрипом постели, – звук такой, будто железкой о железку скребут. – Вскрытие будут делать.
Что-то внутри меня леденеет и, покрывшись мурашками, я залезаю под свое жесткое колющее одеяло, как улитка в раковину.
«…Да приидет царство Твое; да будет воля твоя и на земле, как на небе», – надтреснутым колоколом звучит молитва Анны «Нет-нет, только не в морг!..» – пронзает меня, точно сильным током.
Четвертый день я в этом аду, а никто-никто! не приходит. – Боль пожирает силы. ПОЧТИ НЕДЕЛЯ ЗА СПИНОЙ … ЗАБЫЛИ МЕНЯ?!
Слабый луч солнца падает на тумбочку, загорается в стакане чая, перескакивая на мои жабьи лапки в жестяном лотке. «Хлорэтилмеркаптан – кожно-нарывной агент», сказал вчера этот Скалозуб. Наверное, все же от этого не умирают…
– Рябова здесь? В палату всовывается кудлатая мужская голова. Красные отечные глаза, пузыри на опухшем лице поменьше, чем у меня.
– Хлорэтилмеркаптан? – угадывает он меня взглядом. – Вчера на лекциях говорили. – Сорок минут и жива?!
– Не твое дело,– почему-то зло огрызаюсь я. – Тут никто умирать не собирается.
Он воровато оглядывается в коридор, и я замечаю его руки – тоже пузырчатые и распухшие. – А двое из нас уже ноги протянули, слышали? От того же яда. Теперь, значица, только мы двое остались. Давайте знакомиться. Я – Попов. Во мне отравы этой двадцать пять минут. Там кто-то идет… Потом поговорим. – И он исчезает, как привидение.
«…войдет в царство небесное… исполняющий волю Отца Моего Небесного,» –тянет Анна.
Жестяное небо в размытых пятнах сажи опрокинулось над палатой. Дождь бьет по оконному стеклу. Капли похожи на разбитые стеклянные бусинки.
Почему те двое протянули ноги?.. От такого же кожно-нарывного подарка человечеству… Но ведь кожно– это не страшно? Какие-то примеси добавляют в их «ящиках?» Забыла… Дихлордиэтилсульфид… Мы проходили это?
– Галка, открой учебник и посмотри! – кричу.
Но она не шевелится. Лень ей, наверное, лезть в учебник.
– Галя, давай я тебя покормлю, смотри, и у тебя картошка стынет. – Тоня подхватывает тарелку из рук тети Даши и делает какие-то непонятные жесты за моей спиной. – А селедка просто замечательная!
– Галка, найди по алфавитному указателю, – бормочу я в такт барабанной дроби дождя.
– Это ип-рит. – Галя с трудом складывает слова. – Но ведь это по-боч-ный продукт. Ни-чего о-пас-ного. По-боч-ный..
Ну да, от основного двое протянули ноги… – Формулу пиши!..
Пузыри стягивают нам рты, даже не крикнешь толком.– Пиши, надо разобраться… Це-аш-два, це-аш… – Буквы прыгают по бумаге. – Все просто, как апельсин. Если разорвать молекулу иприта пополам, то и получится то, от чего двое уже…
– «Хлеб наш насущный дай нам днесь..».– Анна заходится сухим кашлем.-… нам хлеба насущного… – долго слышится молитвенное бормотание Анны
– Да не хлеба надо просить, а лекарств! Лекарств! – кричу я изо всех своих слабых сил, и от этого усилия захожусь в кашле. На носовом платке расплываются красные пятна. Беда!
Анна поднимает глаза цвета болотного мха и протягивает ко мне жилистую руку, словно отделившуюся от потемневшей, старой иконы. Руку призывающую и смиряющую, просящую и дарующую. Стрелка прибора у ее изголовья начинает выделывать что-то невообразимое.
«… Царство Божие не в слове, а в силе», – двигаются пересохшие губы.
На тарелке сохнет селедочный скелет. Позвоночник,– хрящи, кости. Так и от тех двоих, что протянули ноги, осталось по скелету. Может быть они превратились в учебное пособие для будущих специалистов.
– Все зависит от времени и концентрации, – успокаивает меня Галя. – Увага! Увага! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Эскулапы движутся!!!
Во время обхода полковник внимательно считает – мой пульс, и я слышу тиканье его часов. Стрелка бежит по циферблату… точь в точь как на руке у Пшежецкого… «Все зависит от времени…» А пока наше тело нужно им, хаки-докторам…
Грачев, идущий за полковником что-то записывает. Может быть, диагноз прост: ушла в вечность… О, нет! Нет!
В морге – груда мяса и застывшей крови. Вскрытие расскажет эскулапам-убийцам, как продукция военного завода действует на законопослушного гражданина. Свой подох, так и чужой не увернется…
Это для них куда важнее самого человека, попавшего в проклятый Обух.
– …Каждый божий день… «В морг! В морги все для того же отпора! Неизвестно кому!» – снова заговорила в Тоне, видно, эта ее постоянная боль, не оставлявшая сердечную женщину. – В морг несут и несут… Постоянное злодейство «во имя». Убийство собственного народа… ради мира!
Никого им не жалко, ни студентов, ни тех, кто горбатится на заводах… Господи, чем же все это кончится?
И будто что-то екнуло внутри меня или сорвалось с высоты от тревожного, пронзающего провидения-предчувствия Тони. А может просто хлопнула дверь и оборвала неслышную никому мольбу.
– Бесполезно, немыслимо нам, хворым, с этой железной махиной бороться! – вскричала Галя, влетев в палату.
Галю куда-то увозили, а вернулась она всклокоченная и помятая, как воробей, случайно вырвавшийся из кошачьих лап.
На всю жизнь остался во мне этот галин вопль. И мысль о том, что наш изумительный мир состоит из хищников и таких беззащитных птиц, как Галя; ну, и вот этой нарывающей в сердце боли, воспоминаний о детстве, единственой моей радости, а так же бегущих в никуда часовых стрелок.
Галя тяжело опускается на скрипучую постель, беспомощно сложив руки на подоле застиранной рубахи
– Опять прижали меня, мучители, вымогатели в погонах: или я дам расписку, что меня предупреждали о токсичности ксифагола, или они меня отсюда живой не выпустят!. И брешут соблазнительно. Мол, одна поганая закорючка, и у меня есть шанс не попасть на вскрытие.
Может быть, она права? Вырваться и вернуться к цветущим белым садам и кострам из опавших листьев, млечному пути и дыханию теплого моря, к шопоту длинных горячих ночей, к восходам и закатам.
– Это предательство! – вскакивает Тоня, стройная и дрожащая, как стальная пружина. – Это предательство и живых и мертвых!
Долгая глухая тишина прерывается нервным вскриком Гали, вскочившей с постели.
– Тоня! Ты – страстная натура. Тебя умные мальчики любили! А я рохля! Меня умные мальчики не любили! И глупые тоже. Я не могу противостоять этой машине…
У Тони от неожданного выкрика Гали приоткрылся рот.
– Галюша, почему ты решила, что я страстная натура?!
– Так есть же верная примета. Ты – рыжуха. И все равно, у тебя над верхней губой черные усики!
Вся палата грохнула от хохота, хохотали-тряслись так долго, весело и все более нервно, кашляя и задыхаясь, что всполошились дежурные сестры. Влетели в палату – одна за другой.
Дружный и долгий хохот в СПЕЦобухе – это нечто неслыханное. ЧП. Бунт! Почти революция…
…У пустующей постели соседки, Царство ей небесное! старый врач на секунду останавливается в раздумье. Шествующий за ним Грачев промчал мимо, не задержавшись. Даже не посмотрел в нашу сторону, сторону еще живых…
Я почувствовала, как во мне что-то закипает. Перед старым врачем скотина Грач дугой гнулся, раболепствовал. А от дела рук своих морду отвернул. «Не обращайте внимания – вспомнилось: «Религиозный фанатик». Мы для него даже не животные… Не врач ты, а гробовщик, вот ты кто. А какое лицо у него? Только сейчас обратила внимание – лицо у него собачье… Вытянутое. Уши почти торчком. Урод!
И я вдруг вспомнила… Из всех собак, которых встречала в жизни, мне больше всех запомнилась бездомная псина, сочетание таксы и бульдога – коричневое туловище с белой грудью на тонких кривых ножках и непомерно длинные уши. Собаку звали «Урод». Она принимала пищу из рук любого прохожего и благодарно провожала его вдоль дачного поселка до самого леса.
В ту пору я еще не знала, что такое натрий и не могла понять, почему собака подпрыгнула, заскулила и заплакала как-то по человечески, слезами, а потом словно замерла. Мальчишки, которые кинули ей вместе с хлебом натрий, смеялись. А урод стоял неподвижно с прожженными до самой кожи внутренностями, боясь пошевелиться. Мальчишки уж не просто хохотали, а веселились и прыгали.
«Фашисткое отродье!» – вдруг вскричал мой отец по адресу убегавших «шутников», схватил со стены охотничье ружье и выстрелил «Уроду» в голову. Не знаю, чем было заряжено ружье, но «Урод» отлетел в канаву…
У собаки сожгли живот. А у Грача треклятый СПЕЦОбух начисто выжег душу. Потому он не только не остановился, но еще и бросил старику-врачу, что у них и без того много дел.
– У каждой кровати вздыхать, не дай Бог, проснешься Шухиным. «Каким Шухиным?» переспросил старый врач.
Я запомнила фамилию, чтобы потом расспросить о Шухине, которого, видно, не взлюбил Грач…
Но расспрашивать никого не пришлось. Галя хорошо знала эту историю, и как только «Эскулапы» исчезли, принялась скороговоркой, вполголоса, рассказывать:
– Девочки, моя бабушка жила в Поволжье. Примчалась к нам, в деревянный городишко Калач, на попутном грузовике, все ее имущество в одном узле. – Повыгоняли нас, ироды, – и заплакала.
Оказалось, какой-то генерал приказал провести испытание нового отравляющего газа в Поволжье. В экспериментальную зону включили несколько деревушек. Километров в ста от Саратова. Солдаты вывезли из деревень детей и стариков. А молодых оставили.
«Слава тоби Господи,– рыдала бабушка, – що скотыны на селе не було, а то бы всю потравылы.
Балакалы, що якись газы пустыли, люди вылы замисто собак. Мамина сестра Оксана криком кричала, что дома под газами солдаты оставили ее дочь, но уж было поздно. Оксана прорвалась в ихний штаб и проклинала иродов до тех пор, пока охрана не вытолкала ее на улицу.
Позже им объясняли, будто синоптики ошиблись, неправильно предсказав направление ветра…
Бабка Оксана не унялась – ее куда-то вызвали, обозвали антисоветчицей и пригрозили… Она и побежала от нового лиха к моим родителям, и по ночам и вечерам ревела.
В газетах конечно, не было ни слова, но от кого-то узнали, что полковник Шухин, главный на испытаниях, слег с тяжелейшим инфарктом. Хоть у одного нервы не выдержали…
– Для гробовщиков ОБУХА, естественно, Шухин не пример: слабак… Вот Грач, он – не слабак, он преступник! – с сердцем вырвалось у меня. Каждый Божий день кормится человечиной и цветет… По ленинградскому блокадному закону, его бы расстреляли безо всякого суда.
– Ох, боюсь, девочки, – тихо донеслось с тониной кровати. – суда над троглодитами от власти – этого народного на русской земле праздника, мы не дождемся… Галя, кстати, ты украинка или русская? Твоя Украйна может, к свободе прорвется, а вот наша Русь – не верю. Чернышевский не ошибся: в России «сверху до низу все рабы!»…
– Тоня, я помесь бобика с дворняжкой,– с усмешкой ответила Галя. – Боюсь, после Обуха от миролюбивого бобика уже ничего не останется… Буду на врачей в хаки набрасываться овчаркой.
– Тш-ш!– вдруг прошипела Тоня. Наша молчунья поплелась с доносом Галя растерянно обводит всех глазами, пытаясь найти поддержку или сочувствие своим сомнениям. Наступившая тишина обрушивается на палату, как неразорвашийся снаряд.Через минуту вся накопившаяся горечь боли, обреченности и бессилия Гали выливается наружу:
– Нет выхода, нет! Когда вы наконец поймете, что мы бессильны! Можно не дать расписку и сгнить тут заживо, но от этого ровным счетом ничего не изменится. Поверьте, что всем плевать…– И она заплакала.
– Галочка, милая, умоляю не реви! – Я подаю ей еще один платок. – Каждый поступает так, как считает нужным.