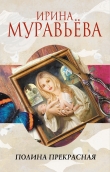Текст книги "Ветка Палестины"
Автор книги: Григорий Свирский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
– Смотри, как девчоночке голову задуряет! А она рот раскрыла, дура, и слухает.
Я так смутился, что Полинка засмеялась и взяла меня под руку.
На следующий вечер мне было разрешено посидеть на табурете в узком проходе между Полиной и Марией Васильевной, мешая и той и другой. Я мужественно скрывал, что меня воротит от адской вони химической лаборатории, до тех пор, пока Полина, взглянув на часы, не воскликнула:
– Боже, вы опоздали на метро!
– Теперь уж все равно! – радостно воскликнул я и посидел еще немножко, а потом шел пешком через весь город, от Манежа до "Шарикоподшипника", размахивая руками, как на строевой, и горланя во весь голос:
– ... И Москва улыбается нам! И окоченелые, в овчинных шубах, сторожа у дверей магазинов глядели вслед понимающе:
"Во наклюкался -то!"
...Как-то я привел Полинку на филологический факультет послушать очень талантливого и любимого нашим курсом доцента Пинского, которого прорабатывали на всех собраниях и о котором говорили, что его за дерзость мысли скоро посадят, что в точности и исполнилось.
Наш факультет в Те годы напоминал телегу, которая тряслась по камням. ПостановлениеЗощенко и Ахматовой.
О Шостаковиче и Мурадели*
Поэт позднее напишет об этом: "Товарищ Жданов, сидя у рояля, уроки Шостаковичу дает..."
Но мы еще не приблизились даже к такому пониманию происходящего. Мы искали мудрости. Вначале с восторгом, затем настороженно.
Насторожила нас сессия ВАСХНИЛ, которая только что пронеслась, как буран над крышей, прогрохотавший сорванными железными листами. Разногласия ученых-биологов были жутко темны. Однако никогда еще истина не оказалась столь быстро ясна: в печати и по радио объявили о свободной дискуссии, а в самом конце ее Трофим Лысенко поведал с иронической усмешкой, что его доклад, из-за которого разгорелся сыр-бор, заранее согласован. И не с кем-нибудь. С самим. Значит, это была не дискуссия, а ловушка...
Академик Николай Каллиникович Гудзий сказал брезгливо: "Трофим загодя нацепил на своих оппонентов дурацкий колпак с бубенчиком. Чтобы все знали, в кого плевать. Без промаха. Вот каналья! "
Лысенковская ловушка была первой ловушкой, в которую наше поколение не попалось.
"Облысенивание науки",– говорили в университете с отвращением. Полина спросила как-то:
– Неужели и у вас. гуманитариев, возможна такая низость?
О святая простота, Полинка!.. Мы бродили по зимней Москве, и наши объяснения напоминали научный диспут, из которого мы
выныривали на мгновение, как из водяной толщи, чтобы глотнуть воздуха, и ныряли обратно.
Как-то спросил Полинку о родителях, она вдруг болезненно круто оборвала разговор, и я больше не задевал этой темы.
Но нельзя было долго молчать о том, что само лезло в уши, в ноздри, словно мы и в самом деле не могли выбраться из водяной хляби.
...Мы вбежали на факультет по чугунной лестнице, остановились в коридоре, забитом студентами, возбужденными до крайней степени.
Большелобая, с русыми косичками, торчавшими в разные стороны, чешка Мирослава со славянского отделения объяснила мне, что они проводят "социальный эксперимент", как она выразилась. Чтоб разрешить сомнения. По ее наблюдениям, доцент Б. занижает отметки студентам-евреям.
– Этого не может быть! – запротестовал Гена Файбусович с отделения древних языков.– Это нонсенс! ..
– А ты пойди и сдай* – мрачно возразил кто-то. – Попробуй-ка! подзадорили несколько голосов.
Я стал проталкиваться сквозь толпу, мы опаздывали на лекцию Пинского, Полинка остано17"вила меня. Голос ее прозвучал глухо, сдавленно:
– Погодите!
– Мы опоздаем...
– Мы никуда не опоздаем!
Я остановился недовольно. Не хотелось бередить то, что болело и о чем Полинка, по моему мнению, не имела еще ни малейшего представления. Откуда-то сбоку прозвучал неуверенный возглас:
–Ребята, сдайте за меня. А?..
У стены сидел инвалид войны. Без ноги. Костыли стояли рядом.
– Я ничего не помню. . . Память дырявая. .
Воцарилось молчание.
–Файбусович, пойди сдай за него! – предложил незнакомый юноша в роговых очках.– Ты гений! Тебе это пустяк... Произведем, в самом деле, социальный эксперимент. Б.– антисемит или нет?
Файбусович неловко затоптался, поправил очки, которые у него всегда съезжали на кончик длинного носа; сухопарый, узкоплечий, одно плечо выше другого, он походил на еврея из антисемитского журнала времен Шульгина и Пуришкевича и конечно же был наилучшим кандидатом для проведения публичного опыта.
Файбусович начал медленно отступать к лестнице, подняв руку, за которую Мирослава хотела его схватить. Отчаянно затряс головой:
– Сдать за другого! Да ведь это обман...
Файбусович был человеком открытым и честным, да что там честным – он предположить не мог, что в стенах древнего университета возможны лжецы, невежды, антисемиты.
– Он святой!– сказала черноглазая девчушка с классического отделения.Он не может.
– Он не святой – он святоша!.. – резко возразили из студенческой толпы.
Файбусович затоптался у выхода в полной растерянности.
–Ребята,– наконец, выдавил из себя.– Он меня, наверное, знает... Кто этот Б.?
– Взгляни! – потребовали из толпы.
Файбусович чуть приоткрыл заскрипевшую дверь аудитории и, тяжко вздохнув, признал честно:
– Не знает!
– Гена! – восторженно вскричала Мирослава.-Другого такого случая не будет! Установим правду!
Гена медлил.
– Трусишь? – уличили его сразу несколько голосов.
– Да ну его к черту! ~ помедлив, выбранился юноша в роговых очках.– Что мы перед ним унижаемся!
И тут раздался тихий гортанный голос, почти шепот: – Геночка!
Наверное, именно такие девичьи возгласы заставляют юношей входить в пламя, нырять с обрыва в ледяную реку.
– Геночка, пожалуйста..,
– Ну, а зачетка... -дрогнувшим голосом сказал Гена.– Там же фотография.
Тут вышел вперед рябоватый плечистый юноша и сказал:
– Ну, это пустяки.
И в миг единый Генина фотография была переклеена с одной зачетки на другую.
Обычно к дверям могут прильнуть ухом трое, ну, от силы четверо. Сейчас прильнуло, наверное, человек десять. Представители общественности. Нижние сидели на корточках. Верхние встали на стулья. Но и этого оказалось недостаточно. Тогда дверь тихо приоткрыли. Чтобы общественность могла слышать непосредственно. Без представителей.
Это был не просто студенческий ответ на экзамене. Это была песня.
–Знаете ли вы письмо Белинского к Гоголю? – угрюмо спросил экзаменатор.
И Гена Файбусович начал наизусть, с ходу:
– "Вы ошибаетесь, думая, что мое письмо к вам ~ это слова рассерженного человека..."
Он декламировал вдохновенно, как стихотворение в прозе, до тех пор, пока экзаменатор не сказал резко: – Хватит!
Затем Гена объяснил, как полагалось, "своими словами".
Я никогда не слыхал таких блестящих ответов – видно, сказалось то, что Гена ощущал взмокшей спиной общественность, ждущую его за дверью. Юноша в роговых очках шепотом вел репортаж: – Берет зачетку. Разглядывает. Ставит отметку. Ура!
Все отпрянули от дверей.
Никто не спрашивал, какую отметку поставили Файбусовичу. В чем тут можно сомневаться!
Файбусович, красный как клюква, вышел, открыл зачетку и... приоткрыл рот в испуге.
– Ребята, мне поставили тройку.
Наступило молчание. И в этой все более сгущавшейся тишине прозвучал радостный вопль инвалида. Потянувшись за костылем, он запрыгал на одной ноге:
– Ребята! Ребята! Этого вполне достаточно. У меня тройка – проходная отметка.
На его лице появилось неподдельное ликование. Он ушел, весело погромыхивая костылем.
Остальные молчали. И расходились так же молча, опустив головы, как с гюхорон...
Прошло некоторое время, и Гена Файбусович пропал. В доносе студентки, его товарища по группе, было сказано, что Гена – "буржуазный националист".
Я встретил Геннадия Файбусовича через двадцать лет в коридоре Ленинской библиотеки: спросил фамилию оклеветавшей его студентки, из-за которой он угодил в тюрьму. Гена помялся, сказал, зардевшись:
– Да не надо. Она потом в психбольницу попала. Когда перед ней открылось все.
Гена торопился в свое больничное отделение. Оказывается, когда он вернулся, его не восстановили в университете, как других, и он начал все заново. Посмотрел, по его выражению, на филологические книги, как Олег на кости своего коня, и поступил в медицинский институт. Он не сказал мне, что стал кандидатом наук. Одним из лучших терапевтов Москвы.
Мы успели вспомнить с Геной, смеясь, лишь "социальный эксперимент" у дверей аудитории, Геннадий сказал вдруг, что, если говорить строго, это был "нечистый опыт".
– Понимаешь,– сказал Геннадий, поправляя знакомым жестом спадавшие на кончик носа очки.-Экзаменатора раздражало, возможно, не столько то, что я еврей. А то, что я еврей с русской фамилией. Так сказать, перекрасившийся. Зачетка-то была безногого. . . По лагерям знаю, – добавил он, посерьезнев,-что перекрасившихся не любят более всего. Меня били как еврея только один раз. Уголовники. Загнали в угол: "Жид, танцуй!" А вот перекрасившимся, которые выдают себя за белорусов или за кого еще, куда хуже. Их никто не любит. Ни хорошие люди, ни плохие. Знаешь, это не антисемитизм. Народу органически чужда ложь. И отвратительна.
И Гена застучал по ступенькам вниз, застенчивый до отчаяния, мудрый Гена Файбусович, который остался незапятнанно чистым даже тогда, когда его проволокли за волосы по всей грязи земли.
... Едва "социальный эксперимент" завершился и студенты молча разошлись,
– Полинка повернула обратно. Я догнал ее. – Вы куда? А лекция?
– Выйдем на воздух, а?
Мы вышли из университета и, перебежав Манежную площадь, свернули в Александровский сад, необъяснимо чистый в этом автомобильном чаду. Полинка присела на скамью и тут же поднялась.
– Холодно,– сказала она.– Жить холодно... – Она взглянула на меня пристально, ее серые глаза кричали от боли.– Что происходит? Я хочу знать. Я имею право узнать все. До конца. И у вас, оказывается, то же самое... Ведь они скоро разъедутся по всей земле – и эта чешка, и наш немец, и болгары, и венгры, что они скажут дома? Какой позор!
Здесь, на сырой скамье Александровского сада, под кремлевскими стенами, я с удивлением узнал, что Полинка – еврейка, и услышал о судьбе ее родных. Позднее мое внимание остановила строчка поэта об Анне Ахматовой: "...Тот, кто пронзен навеки смертельной твоей судьбой. . . " Я сидел недвижимо, цепенея, воистину пронзенный смертельной судьбой Полинки.
–Что же происходит? – повторяла она, задыхаясь.– Когда это началось? Как, еще в войну, когда немцы расстреливали евреев? Уму непостижимо! Я прошу вас, я умоляю вас рассказать мне, как это начало пробиваться? Пошло в рост? Почему?! У нас. По эту линию фронта. Вы сами видели? Или знаете по слухам? Расскажите. Если действительно видели. Своими глазами. Я хочу распутать этот клубок. Для самой себя. Это жизненно важно для меня. Вот вы лично чувствовали себя на этой антифашистской войне оскорбленным или уязвленным евреем? Может быть, не вы. Ваши друзья. Знакомые. Чувствовал себя хоть кто-либо из вас евреем, которого можно безнаказанно унизить?.. Вспомните! Прошу вас!
Глава пятая
4 июня 1942 года немцы потопили в Баренцевом море караван PQ-17, из английских и американских судов, которые шли на Мурманск, и приказ Ставки бросил нас в Ваенгу. В четыре утра на многих базовых аэродромах, на Балтике и Черноморье, сыграли тревогу, а в полдень бомбардировщики уже садились на самом краю земли, в горящей Ваенге.
Тот, кто был на заполярном аэродроме Ваенга, знает, какой это был ад. На любом фронте существуют запасные аэродромы, ложные аэродромы. Аэродромы подскока. Авиация маневрирует, прячется. В Белоруссии мы держались полтора месяца только потому, что прыгали с одного поля на другое, как кузнечики. В Заполярье прятаться некуда. В свое время заключенные срезали одну из гранитных сопок, взорвали ее, вывезли на тачках – и появилась площадка, зажатая невысокими сопками. Я взбежал на эти сопки полярной ночью, холодной и прозрачно– светлой. Огляделся и... на мгновение забыл , что где-то идет война.
Стихли моторы, и стало слышно, как вызванивают ручьи. Какой-то человек в морском кителе с серебряными нашивками инженера собирал ягоды. Протянул мне фуражку, полную ягод,– угощайся, друг.
Ягоды отдавали смолкой. Голубика? Скат горы был сизым от них. Кое-где виднелись огромные шляпки мухоморов. Поодаль чернела вероника. Колыхался на ветру иван-чай. Бледно-розовый, нежный и для заполярных цветов высокий, иван-чай густо поднимался у брошенных укрытий-капониров, во всех горелых местах, а в горелых местах, похоже, здесь недостатка не было.
Внизу рванулись на взлет истребители, взметая бураны пыли и колкой размолотой щебенки; чуть оторвавшись от земли, они тут же убирали шасси. И лишь затем послышался "колокольный звон" ~ дежурные, выскочив из землянок, били железными прутьями по рельсам и буферам, висящим на проволоке.
–Дело дрянь! – сказал инженер.– Бежим!
И, как бы подтверждая его слова, неподалеку, в Кольском заливе, дробно застучали корабельные зенитки.
Мы кинулись в сторону. Ноги утонули по щиколотку в коричнево-рыжеватой болотистой хляби.
Теперь, видно, били все зенитные установки. Огонь тяжелых батарей на вершинах сопок сотрясал землю.
Сверху нарастал резкий свист. Я бросился было за инженером, но чей-то сиплый голос властно крикнул: – Сюда!
Я свернул на голос, с разбегу приткнулся около большого гранитного валуна, съеживаясь от ошеломляющего сатанинского воя летящих бомб.
Первые разрывы грохнули посредине летного поля. Вздрогнули сопки. Казалось, земля загудела, как натянутая басовая струна.
– Пошла серия. Сюда идет! – сипло пробасил кто-то лежавший рядом.
Что есть силы я втискивался в болотистую жижу, прижимаясь плечом к гранитному камню. Вспарывая воздух, сотрясая землю, разбрызгивая тысячи осколков, взрывы подступали все ближе, ближе. Раскололась земля. Огромный гранитный валун, века лежавший без движения, пошатнулся. Что-то твердое ударило в бок.
"Хана! "
Разрывы удалялись. Бомбовая серия гигантскими шагами переступила через меня и ушла дальше. Я медленно согнул руку, не решаясь дотронуться до собственного бока. Боли нет... Наконец приложил ладонь. Пальцы нащупали ком мерзлой земли, отброшенной взрывной волной.
Я тут же вскочил на ноги и радостно закричал своим неизвестным товарищам: – Э-эй! Где вы?
Ответа не было. Тот, кто лежал рядом, уже спускался: внизу мелькала спина в солдатской шинели. "А где инженер?"
Обежал гранитный валун вокруг. По другую сторону его курилась в скалистом грунте неглубокая воронка.
–Э-эй! – в испуге позвал я инженера.
Тишина
Бросился в одну сторону, в другую, перескакивая через обломки гранита. И вот увидел у вершины сопки, среди голубики, оторванный рукав флотского кителя с серебряными нашивками инженера. И больше ничего...
С тоской внимательно оглядел летное поле, где тарахтели трактора, которые тянули к воронкам волокуши с камнями и гравием. За ними бежали солдаты с лопатами засыпать воронки.
– Ну, привет, Заполярье! – сказал я, сплевывая вязкую болотную землю. Места тут, вижу, тихие. . .
Когда я, кликнув санитаров, вернулся к своему самолету, в кабине кто-то был; из нижнего люка торчали ноги в зеленых солдатских обмотках.
Еще на Волховском фронте нам выдали брюки клеш, поскольку мы теперь назывались как-то устрашающе длинно: особой морской и, кажется, еще ударной авиагруппой; никто особенно не ликовал, знали уж, что мы стали затычкой в каждой дырке.
Но клеш носили с гордостью, и такой ширины, что комендант учредил одно время возле аэродрома пост с овечьими ножницами в руках: вырезать у идущих в увольнение вставные клинья. Оказывается, издавна существовал неписаный
закон: чем от моря дальше, тем клеш шире. А тут вдруг торчат из самолета зеленые обмотки. Видно, кто-то из солдат охраны влез поглазеть. Заденет какой-нибудь тумблер локтем. Потом авария... Болван!
Я подбежал к ногам в зеленых обмотках и что есть силы дернул за них. С грохотом стрельнула металлическая, на пружинах, ступенька, на которой стоял солдат, и он повалился на землю. Поднявшись, отряхнул свою измятую солдатскую шинель с обгорелой полой и сказал, как мне показалось, испуганно:
– Ты что?
– Я тебе сейчас ка-ак дам "что"! – И осекся. Солдату было за сорок, может, чуть меньше. В моих глазах, во всяком случае, он был дедом.
– Дед, да как тебе не стыдно?!
У деда было кирпично-красное и широкое, лопатой, скуластое лицо, величиною с амбарный замок подбородок. Грубая, открыто-простодушная, добрая физиономия стрелка из караульной роты, мужика, который всю жизнь в поле.
Только глаза какие-то... неподвижные, извиняющиеся; затравленные, что ли?Глаза человека, который ждет удара.
Но произнес он со спокойным достоинством:
– Я прислан штурманом!
Меня жаром обдало. Я встал по стойке "смирно". Понял, с кем имею дело. У нас уже бывали штрафники. И потом... да это тот, кто меня спас?!
– Скнарев, Александр Ильич,– представился он.– Рядовой.
Он стал штурманом нашего экипажа, Александр Ильич. А через неделю -флаг-штурманом полка. Еще бы! Он был у нас единственным настоящим морским волком. Остальные только клеш носили. А над морем ориентиров нет. "Привязаться", как привыкли, к железной дороге или к речке нельзя.
Только вчера у одного "клешника" девятнадцати лет от роду, забарахлил над морем компас; паренек вывел самолет вместо цели – на свой собственный аэродром и – отбомбился... Счастье, что не попал в нас и что командир нашей авиагруппы генерал Кидалинский был отходчив. Как что – кричал: "Застрелю!" да так за все годы никого не застрелил. Хороший человек!
Скнарев с кем только не летал. Никому не отказывал. Ни одному ведущему группы. Он выматывался так, что у него порой не было сил дойти до землянки, засыпал тут же, у самолета, на ватных чехлах.
Над головой не прекращалась "собачья свалка" истребителей. Из-за залива пикировали, оставляя белые следы инверсии, "мессершмитты". Ваенга вышвыривала, как катапульта, навстречу им "миги", английские "харрикейны" и "киттихауки" с крокодильими зубами, нарисованными на отвислых радиаторах.
Они возвращались на последней капле горючего, другие сменяли их.
19"Жиденько захлопали зенитки. "Юнкерсы" прорвались? Я смотрел на небо с белесыми, вытягивавшимися на ветру дымками разрывов и думал: "Будить Александра Ильича?" Решил, по обыкновению, не будить. "Пусть..."
После встречи на сопке с инженером, который угостил меня на прощание голубикой, я стал фаталистом. От своей бомбы не уйдешь, чужая не заденет. Как-то здорово меня встряхнула та бомбочка. И, как это ни странно, успокоила.
Впрочем, так или иначе, но в Ваенге "успокаивались" почти все, кому не хотелось в сумасшедший дом. Психологический барьер между бытием и в перспективе – небытием брали, как позднее звуковой, на большой скорости.
И немудрено. Аэродром бомбили по шесть-семь раз в сутки. Часто полутонными бомбами; а как-то даже и четырехтонными, предназначенными для английского линкора "Георг V", который, видно, не нашли.
Вот когда я вспомнил Библию: "И земля разверзнется..."
С этого начинался день. Сорок – шестьдесят "юнкерсов" прорывались к Ваенге, стремясь хотя бы расковырять позловреднее взлетную полосу, чтобы истребители не могли подняться. Когда это удавалось, вторая волна "юнкерсов" шла мимо нас на Мурманский порт и на транспорты союзников, которые ждали разгрузки, густо дымя в Кольском заливе.
Ягель на сопках горел все лето. Торфяники курились; казалось, воспламенились и земля, и залив. Не потушить. К аэродрому тянулись дымки, запахи гари.
– Что там? – сонно спрашивал Скнарев, когда зенитки начинали захлебываться, и поворачивался на другой бок.
Определив по крепчавшему свисту немецких пикировщиков – пора! я расталкивал штурмана, и мы сваливались в щель, которую выдолбили в каменном грунте прямо на стоянке.
Здесь, на моторных чехлах в узкой осыпающейся щели, Александр Ильич Скнарев и рассказал мне свою историю.
Он был майором, штурманом отряда на Дальнем Востоке. Этой зимой его самолет – гофрированная громадина – тихоход "ТБ-З" – совершил вынужденную посадку в тайге. Отказал мотор. Через неделю кончились продукты, и Скнарев вместе со стрелком-мотористом, парнишкой моего возраста, отправился на поиски. В одном из таежных сел ему встретились подвыпившие новобранцы, в распахнутых ватниках, с гармошкой. Узнав, что надо Скнареву, зашумели. "Дадим, однако! На заимке мука есть. Дерьма-то... Охотиться нынче некому. Все трын-трава.– И неожиданно трезво: – Реглан вот дай!.."
Александр Ильич скинул с себя кожаный летный реглан, принес к самолету в обмен на реглан мешок муки и ящик масла.
Через неделю "ТБ-З" кое-как взлетел, дотянули до своего аэродрома под Хабаровском. Александр Ильич собрал со всего гарнизона вдов, многодетных и разделил оставшиеся продукты. "Масло ниткой делили, муку "жменями",рассказывал мне в Североморске, в прошлом году, старый летчик, полковник Гонков, который на Дальнем Востоке служил вместе со Скнаревым.
...Только распределили продукты, пришла шифровка о том, что в таежном поселке разграблен военный склад. Немедля отыскать виновных. А где они, виноватые? Подвыпившие "друзьяки"из маршевой роты.. . Под Москвой? Под Сталинградом? Может, иные уже и погибли.
Виноватых искали остервенело. Целой группой. Перед войной вышел указ о хищении соцсобственности. Говорили, по личной инициативе Сталина. Что бы ни похитил человек – пучок колосков, сто граммов масла, булку – десять лет лагерей.
Арестовали Скнарева. Увели обесчещенного, недоумевающего. Судили военно-полевым судом...
"Виноватого кровь – вода,– тихо рассказывал Александр Ильич, поглядывая на белесое небо, где то и дело слышался треск пулеметных очередей, – приговорили меня к расстрелу. Посадили в камеру смертников".
До Москвы далеко. Пока бумага о помиловании шла туда – сюда, прошло пятьдесят шесть суток
Из камеры смертников, затхлой, без окна, вывели седого человека, прочитали новый приговор. Десять лет. Как за булку.
А потом, усилиями местных командиров, "десятку" заменили штрафбатом. И вот Скнарев в заполярной Ваенге, лежит на чехлах...
Сюда, к чехлам, принесли Александру Ильичу письмо. С Дальнего Востока. О жене. Что муж у нее теперь новый, капитан какой-то. А о старом она не позволяет и вспоминать.
Гораздо позднее выяснилось, что письмо ложное. Кому-то было жизненно важно Скнарева добить. Чтобы он не вернулся с войны... Но мы оба, и я, и Александр Ильич, приняли его за чистую монету. Я выругался яростно, с мальчишеской категоричностью проклял весь женский род. От Евы начиная. И того капитана, мародера проклятого, вытеснившего Скнарева. Нет, хуже, чем мародера!
Александр Ильич урезонил меня с какой-то грустной улыбкой, мудрой, отрешенной:
– Что ты, Гриша! Ведь что взял на себя человек. Двоих детишек взял. Семью расстрелянного...
Я поглядел сбоку на тихого человека с красным и грубым мужицким лицом, освещенным незаходящим заполярным солнцем. И замолчал, раскрыв свой птенячий клюв.
Видно, с этой минуты я к Скнареву, что называется, сердцем прикипел, Что бы ни делал, под рев зениток, треск очередей, пожары думал чаще всего о Скнареве. Как помочь ему? Что предпринять?
Что мог я на горящем аэродроме, рядовой "моторяга", сержант срочной службы, который даже во время массированных бомбардировок не имеет права отойти от своей машины? А вдруг она загорится?
Никто не скрывал, что бомбардировщик дороже моей жизни. И намного... Кто меня послушает? Никогда я не чувствовал себя таким червяком.
Но так я жить не мог. Я думал-думал и наконец придумал. Выпросил у Скнарева штурманский карандаш. И, таясь от него, исписал на обороте всю старую полетную карту. И отправил в газету "В бой за Родину". Чтобы все знали, какой человек Александр Ильич Скнарев.
Это была моя первая в жизни статья. Я отправил ее с оказией в штабной домик, где ютилась редакция. Туда же послал второе письмо – о Скнареве. Третье. Наконец шестое...
Они проваливались. Как в могилу. Ни ответа, ни привета.
Какое счастье, что Скнарев о моих письмах и не подозревал!..
Через месяц меня вызывают к какому-то старшему лейтенанту. "Бегом!"
Вымыл бензином руки, подтянул ремень на своей технической куртке из чертовой кожи, поблескивавшей масляной коростой, и отправился к начальству.
Старший лейтенант ^оказался газетчиком. Невысокий, в армейском кителе, на котором не хватало пуговиц. Из запаса, видать... Он обругал меня за то, что я пишу о штрафнике. "Ты что, не знаешь, что о штрафниках – ни-ни?* Ни слова... – И вздохнул печально: – "Ни слова, о, друг мой, ни вздоха". Из запаса, ясно".
Я усадил старшего лейтенанта на патронные ящики и рассказал ему о Скнареве. О том, чего не было в моих статьях, которые конечно же повествовали только о подвигах флаг-штурмана.
Плечи старшего лейтенанта, одно выше другого, как у Файбусовича, дернулись нервно. Он поправил очки с толстущими линзами, ссутулился и стал похож на бухгалтера, у которого не сходится баланс. Он не был рожден военным, этот низкорослый человек, это ясно. Я только не знал еще, что он был единственным мобилизованным газетчиком, которого командующий флотом, адмирал Головко, случайно встретив его на пирсе и взглянув на подвернутые брюки газетчика, приказал немедля переобмундировать в сухопутную форму.
– Таких моряков не бывает!..
Так он и ходил, единственный на аэродроме, в пехотном. В звании повышали, а брюки клеш не давали.
Какое счастье, что именно он приехал к нам. Подперев ладонью плохо выбритую щеку, он сказал, прощаясь, тихо и очень серьезно:
– Как тебя зовут?.. Ты, Гришуха, пиши, а я буду держать твои материалы под рукой. Начальство, увидя меня, почему-то всегда улыбается. Можно когда-то из этого извлечь пользу! А? Рискнем.
С газетой, где впервые появилась фамилия Скнарева, я бежал через всю стоянку. Я размахивал газетой, как флагом. Вид у меня был такой, что изо всех кабин высунулись головы в шлемофонах. Уж не кончилась ли война?
Конечно, моей статьи в газете не было. Но на самой первой странице, под названием газеты, вместо передовой была напечатана крупным шрифтом информация о том, что группа бомбардировщиков, которую вел флаг-штурман А. Скнарев, совершила то-то и то-то... Главное, появилась фамилия! Оттиснутая настоящими типографскими знаками. Законно. А. Скнарев!..
Вскоре на аэродром прикатили морские офицеры, о которых мне сказали испуганным шепотом: "Зачем-то трибунал явился..."
В штабной землянке на выездном заседании трибунала Северного флота со Скнарева была снята судимость. Он вышел из землянки, застенчиво улыбаясь, в своих голубых солдатских погонах. "Погоны чисты, как совесть",– невесело шутили летчики. Они обняли его, потискали. Я протянул ему букетик иван-чая, который собрал в овраге и на всякий случай держал за спиной.
Судимость со Скнарева сняли, но недаром ведь говорится: дурная слава бежит, добрая лежит.. Правда, он уже не значился в штрафниках, в отверженных. . . Однако Скнарев был, как непременно кто-либо добавлял, "из штрафников" или, того пуще,– "из этих"...
Он заслуживал,, наверное, трех орденов, когда ему вручили первый.
Я писал о Скнареве после каждой победы. Радовался каждой звездочке на его погонах. Вот он уже лейтенант, через месяц – старший лейтенант.
В нижней Ваенге, в порту, был ларек Военторга, я сбегал туда за звездочками для скнаревских погон. У меня теперь был запас. И капитанских звезд, и покрупнее – майорских. Купил бы, наверное, ему и маршальские, да не продавались в Ваенге. Не было спроса.
Когда Скнарев стал капитаном, я, дождавшись его у землянки (теперь он жил отдельно, с командованием полка), поздравил его. Был он, сказал, когда-то майором, и майорская звезда снова не за горами. Все возвращается на круги своя. Боевых орденов у него уже – шутка сказать! – два.
У Скнарева как-то опустились руки, державшие потертый планшет из кирзы.
–Что ты, Гриша,– устало сказал он.– Вернусь я домой. Думаешь, что-нибудь изменят мои майорские звезды? Спросят, какой это Скнарев? "Да тот, которого трибунал... к расстрелу... Помните?" На весь флот опозорили... От этого не уйти мне. За всю жизнь не уйти. Боюсь, и детям моим... -И вдруг произнес с какой-то сокровенной тоской: – Вот если бы Героя заработать!..
Так говорил мне старик крестьянин после войны:
– Хватило б хлеба до весны...
Я был по уши наполнен скнаревской тайной. Подобно воздушным стрелкам, надевавшим перед трудным боем броневые нагрудники, Скнзрев мечтал, и я, мальчишка, "моторяга", знал об этом, надеть нагрудник потолще. Чтоб ни одна пуля не взяла. Не то что плевок. Ведь если в этом случае спросят: "Какой Скнарев?" – ответ будет: "Герой Советского Союза. Наш земляк..."
Теперь я писал о Скнареве остервенело. Доставал у разведчиков фотографии транспортов, взорванных им. "Сухопутный" редактор газеты, верстая номер, говорил: "Сейчас при6ежит этот сумасшедший Гришуха. Оставим для него "петушок*? Строк двадцать".
Скнареву вручили еще один орден. Повысили в майоры. Перевели в соседний полк, на другой край аэродрома, с повышением. А Героя – не давали..
Когда установилась нелетная погода и о Скнареве ничего не печатали, я ходил злой от такого непорядка: наконец меня снова осенило. После отбоя мы садились со Скнаревым рядышком, и он рассказывал мне (писать он не любил) свои большие, на целые полосы, теоретические статьи, к которым я чертил схемы и давал неудобопроизносимые, но зато нестерпимо научные названия вроде: "Торпедо-метание по одиночному транспорту на траверзе мыса Кибергнес". Я также очень любил заголовки, где были слова: "...в узком гирле фиорда..." Это звучало поэзией.
А Героя все не давали. . .
Однажды к летной землянке подъехал командующий Северным флотом адмирал Головко. У землянки стояли несколько человек. Самым старшим по чину оказался капитан Шкаруба, Герой Советского Союза.
Шкаруба был песенным героем. Знаменосцем. Его портрет был помещен на первой странице газеты.
Шкаруба громко скомандовал, как в таких случаях полагается, всему окружающему: и людям, и водам, и небесам: "Сми-ир-рна!" И стал рапортовать.
Пока он рапортовал, адмирал Головко почему-то приглядывался к его морскому кителю. И вдруг все заметили: ордена у Шкарубы на месте, а там, где крепится Золотая Звезда Героя, дырочка.
– Почему не по форме? – строго спросил адмирал.
Капитан Шкаруба потоптался неловко на месте в своих собачьих унтах, собираясь, может быть, объяснить, что его Звезда на другом кителе. Он хочет, чтоб осталась семье, если что... Но доложил он громко совсем другое.
– Товарищ адмирал! Я потопил шесть транспортов противника. И – Герой Советского Союза, Майор Скнарев потопил двенадцать транспортов и военных кораблей противника. Вдвое больше. И– не Герой Советского Союза. Как же мне носить свою Звезду? Как смотреть своему товарищу в глаза?..





![Книга Поля, Полюшка, Полина... [СИ] автора Ольга Скоробогатова](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)