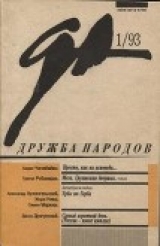
Текст книги "Меги. Грузинская девушка"
Автор книги: Григол Робакидзе
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
БОРЬБА СТИХИЙ
Слова няни не выходили у Меги из головы. Она часто выезжала верхом в поле. Что тянуло ее туда? Было ли это желание расквитаться с абхазом или же его лицо притягивало и звало ее? Меги вся отдалась своему новому чувству, ее сердце стало биться сильнее. Но лишь на пятый день она встретила абхаза. В первое мгновение она чуть было не потеряла рассудок от радости, но уже в следующую секунду – замкнулась в себе, как улитка в своей раковине. Астамур приветствовал девушку. Она ответила на приветствие едва заметным наклоном головы. Меги и Астамур поехали рядом. Вдруг конь абхаза шарахнулся при виде большого ежа и встал на дыбы. Взбешенный всадник ударил его плетью, и конь понес. Как раз это и нужно было Меги. Она отпустила поводья. Поле было широкое. Через две минуты она нагнала абхаза. Но тот как бы намеренно придержал своего коня, чтобы затем снова погнать его. Разгоряченная Меги мчалась вперед. На пути обоих всадников стояло большое дерево, ветви которого свисали почти до земли. Этой бешеной скачкой девушка бросила вызов самой судьбе. Астамур направил своего коня чуть в сторону от дерева. Меги же летела прямо, как стрела. Она пригнула голову, касаясь шеи лошади, и промчалась под деревом, ветви которого зацепились за прядь ее волос. В ее памяти всплыли волосы Авессалома – Меники рассказывала ей истории из Ветхого Завета. Меги вздрогнула, но уже в следующее мгновение была вне опасности. Джондо снова нагнала своего соперника. Перед косогором абхаз чуть замешкался, но Джондо влетела наверх, не сбавляя скорость. Теперь уже Меги была впереди. Астамур бешено гнал жеребца, но догнать Меги он уже не мог. У подножия горы всадница спешилась. Астамур прискакал через несколько секунд. Он проиграл поединок. Девушка сияла от счастья. Скованность ее прошла, и абхаз впервые услышал глубокое звучание ее голоса. Она произнесла несколько слов, которые вывели его из состояния оцепенения. Он улыбнулся и похвалил соперницу. В Абхазии, сказал он, никому еще не удавалось обскакать его. Он говорил о Джондо, о равнине, о дереве, о косогоре и еще о многом. Но Меги чувствовала, что говорил он о ней, лишь о ней. Меги ликовала. Все с большим упоением говорил абхаз. Но и на девушку нашло упоение. Цветок на ее груди, который Астамур преподнес ей при встрече, источал дурманящий аромат. А может быть, дурман этот исходил не от цветка, а от нового, еще неизведанного чувства? Она вдруг оступилась и, наверно, упала бы, если б абхаз не поддержал ее. Его руки коснулись плеч девушки. Меги была на грани обморока. Ее взор затуманился. Незнакомый доселе шум, напоминающий глухой гул в больших морских раковинах, становился сильнее и сильнее, словно все твердые тела растворялись в нем. Пасти разверзлись. Блеснули оскалы зубов. Огромный вепрь пробивался сквозь бездонную тьму. Земля извивалась, стеная и рыча. Реальная действительность исчезла из памяти Меги.
Разгорелась извечная борьба полов, первородная схватка между мужским и женским началами, смертельный поединок первозданных элементов. И одним из них являлась она сама. Это было содрогание перед утратой невозместимого. И все же на несколько мгновений ее охватило глубочайшее блаженство самоотдачи. Она потеряла сознание. Когда Меги пришла в себя, абхаза уже не было рядом. Девушка взглянула на Джондо и потупила взор перед красноватыми глазами лошади. Краска еще не испытанного доселе стыда залила щеки. Неукротимый гнев наполнил сердце. Она подошла к Джондо, но подняться в седло не было сил. Разбитая, потерянная, она побрела домой. Лошадь пошла за ней.
Словно сорванный с дерева плод, упала Меги на диван. Она и в самом деле чувствовала, что погибает, погибает, как плод, отделенный от растущего дерева. Цельность ее души была разбита. О, стать бы снова несорванным плодом! Потеряно все! Огонь гнева разгорелся в ее диком теле. Сокол сидел на своем колышке, удивленно глядя перед собой. Резко вскочив с дивана, Меги схватила птицу и… оторвала ей голову. Гнев ее чуть утих. Она снова легла на диван, но все еще никак не могла успокоиться.
В комнату Меги зашла мать и испытующе посмотрела на дочь. Меги молчала.
Цицино с ужасом заметила пятна крови на платье Меги. Она огляделась и увидела мертвого сокола. Наверное, это его кровь, подумала мать, немного успокоившись. Но кто же мог оторвать голову бедной птице? Неужели Меги? Невероятно! Предчувствуя недоброе, Цицино позвала няню. Меники не заставила себя ждать. Она ласково обратилась к девушке, но не получила ответа. Меги не спала, она лежала неподвижно, как камень. Если бы, однако, старая волшебница прикоснулась к этому «камню», то ощутила бы своими сухими пальцами конвульсивное биение пульса. Теперь и Меники заметила пятна крови. Цицино показала ей на мертвого сокола. Меники перевела взгляд с оторванной головы птицы на неподвижно лежавшую девушку. Молчание. Меники нагнулась и подняла смятый цветок, лежащий на краю дивана. «Неужели это его дурман?» – пробормотала она еле слышно. В ее зеленоватых глазах блеснула злая искорка. В голове многоопытной няни и волшебницы стала вдруг проясняться страшная истина, лицо ее помрачнело. Она медленно подняла голову и посмотрела серьезно и страшно в глаза той, кого она когда-то кормила грудью. И Цицино прочла все в ее взгляде. Внезапно вспыхнувшее бешенство ослепило мать, и лицо ее стало страшным, как топор амазонки.
ТОПОР АМАЗОНКИ
Словно бирюзовая пелена, опускался вечер на землю, делаясь все плотнее и темнее. Издалека доносился, то и дело замирая, шум деревни. С тихим шелестом проснулся лиственный лес. Не появляется ли там феникс на макушке дуба? Нет, полночь еще не наступила. Меники, Цицино и Меги ожидают мегрельскую ночь. Вато с ними. Меги лежит на диване. Она молчит, ни на кого не глядя: так глубоко погрузилась она в раздумье. Меники и Цицино полулежат на ковре, подложив под себя множество мутак. Вато сидит на треногом стульчике. Цицино и Меники уже знают тайну Меги, хотя они пока ни словом не обмолвились о ней. Обе женщина боятся, что художник узнает правду. Но еще больше они боятся того, что Меги может догадаться об их знании.
Лиственный лес шумит, и множество тысячелетних сказаний роится в нем. Меники рассказывает. На этот раз об амазонках, которые в незапамятные времена жили на этой земле. Они жили сами по себе, – Меники особо подчеркивает это, – и сами выполняли всю работу и в поле, и в саду, смотрели за скотом и лошадьми, к которым были очень привязаны: Самые сильные из них любили охоту и упражнялись в бранном искусстве. У всех амазонок, продолжает Меники, уже в юности выжигалась правая грудь (грудь Меги при этом содрогнулась от боли), чтобы она не мешала им прежде всего при метании дротика. Амазонки были вооружены стрелами, топорами, копьями и легкими щитами. Из звериных шкур они изготовляли себе панцири, шлемы и пояса. При слове «топор» Цицино вздрагивает, и ее профиль при этом напоминает узкий лунный серп изогнутого топора амазонок – такой топор хранится в ее доме. Меники ведет рассказ дальше. На два месяца амазонки прерывали обычный ход своей жизни. Они поднимались на соседнюю гору, куда приходили к этому времени и мужчины, жившие неподалеку отдельно. Свершив жертвоприношения, как и требовали того обычаи, мужчины и женщины сочетались браком, чтобы зачать детей. Это происходило в темноте, тайно и не по любви. Рожденных от такого брака сыновей амазонки приносили потом к границе своей страны, и мужчины забирали их. Каждый мужчина выбирал себе мальчика и воспитывал его, как родного, каковым он, возможно, и был. Меники делает паузу. Она любит делать паузы. Она с воодушевлением продолжает: дочерей своих амазонки любили, считая их родственными себе по крови и духу и воспитывали их с материнской любовью. Но они не кормили своих дочерей грудным молоком. Этого они избегали, сохраняя таким образом грудь сильной для предстоящих сражений. К тому же они делали все, чтобы не изнеживать дочерей. Поэтому они вскармливали их кобыльим молоком и росой, оседающей словно мед на речном тростнике. Меники продолжает рассказывать… Кого же она все-таки цитирует? Геродота или Страбона? Ни того, ни другого. Она цитирует самое себя. Эту легенду она когда-то подслушала и слышит до сих пор в шелесте лиственного леса, из которого она когда-то проникла в страну эллинов. В голосе Меники появляется новый, едва уловимый оттенок, когда она в конце своего рассказа сообщает, что среди амазонок были и убийцы мужчин.
Они иногда убивали тех из них, которыми завладевали, и душили сыновей, рожденных от них… При этих словах тело Меги содрогнулось, словно укушенное ядовитой змеей. Но профиль Цицино выражал лишь гнев, будто топор амазонки, занесенный для смертельного удара… Меники гасит появившуюся в ее зеленых глазах искорку, но губы ее презрительно улыбаются. Но это делали лишь некоторые из амазонок… – поясняет она. Лиственный лес шумит и в этом шуме роятся тысячелетние предания. Меники увлеченно прислушивается к этому шуму и начинает новый рассказ, похожий на тот, который дает Филистрат в своем «Герое». «Однажды мореплаватели и корабелы, везшие свой товар по Черному морю в Геллеспонт, были выброшены на берег моря, где, по преданию, жили эти воинственные женщины. Амазонки взяли мореплавателей в плен и привязали к яслям конюшен, намереваясь продать их живыми на другом берегу реки скифам-людоедам. Но одна из амазонок прониклась состраданием к одному пленному юноше, и между ними вспыхнуло пламя любви. Эта амазонка попросила свою царицу, приходившуюся ей сестрой, не продавать чужестранцев. Так пленники вновь обрели свободу. Они остались с амазонками и научились говорить на их языке. Однажды, рассказывая амазонкам о шторме на море и о своем приключении, они упомянули и о храме Ахилла, который они видели недавно на острове, и описали его богатства. Тогда амазонки решили воспользоваться тем счастливым случаем, что пришельцы были мореплавателями и корабелами. В их стране росло много деревьев, пригодных для кораблестроения. Они велели мужчинам построить корабли, чтобы переправить на них лошадей по морю и конницей напасть на Ахилла, ибо стоило им спешиться, как они становились такими же слабыми, как и обычные женщины. Для этого они сначала решили научиться гребле. Изучив морское дело, они вышли на пятидесяти кораблях из устья Термодонта и поплыли в сторону храма, до которого было около двух тысяч стадий. Добравшись до острова, амазонки приказали мужчинам срубить деревья, окружавшие со всех сторон храм. Но топоры отскакивали от деревьев, попадая мужчинам то в голову, то в шею. Так погибли все мужчины. Тогда амазонки сами бросились к храму, громко крича и погоняя своих лошадей. Но Ахилл, грозно посмотрев на них, быстро помчался им навстречу и нагнал на коней такой страх (как это случалось и при Скамандре, и при Илионе), что лошади, поднявшись на дыбы, сбросили с себя всадниц, словно ненужный груз, а затем в бешенстве набросились на них, топча их копытами. Гривы коней развевались, как у бешеных львов, а уши стояли стоймя. Они начали кусать голые руки поверженных воительниц, разрывали их тела на куски, пожирали их внутренности. Насытившись мясом диких амазонок, кони понеслись вскачь по равнине острова. На крутом берегу они внезапно остановились, увидели широкую синюю гладь, которую приняли за поле, и бросились в море…» Меники умолкла. Словно свершив священнодействие, она переводила взгляд с одного слушателя на другого. Меги лежала неподвижно, прислушиваясь к тому, что творилось в ее душе. Откуда-то шли к ней незнакомые звуки. Теперь это было похоже на рокот прибоя у коралловых рифов. Она ясно представила себе обезумевших амазонок, скачущих на взбешенных конях. Теперь она отчетливо слышала топот копыт и ржание лошадей. Она увидела грозного Ахилла, вселившего в них ужас. Меги представила себе, как лошади набросились на голые женские тела, кусая их руки и ноги. Девушка вздрогнула. Меники, Цицино и Вато испуганно переглянулись. Никто из них не мог издать ни звука. Напротив Меги, на небольшом стенном ковре, висели различные виды оружия. Был там и странный топор в форме полумесяца. Вато взглянул на Меги. Он увидел ее ноздри, дрожавшие в диком дурмане. Его взгляд скользнул дальше, и вдруг он увидел на противоположной стене этот странный топор.
– Это тот самый топор… – сказал он.
– Топор амазонки… – добавила Меники.
Будто огненная струя, забившая из застывшего камня, бросилась Меги к стене. Она схватила топор и вновь окаменела, погрузившись в мрачное, глубокое раздумье. Из глаз девушки глядело безумие. Меники и Цицино насмерть перепугались. Лишь Вато сохранил самообладание. Он ощутил в себе какую-то неведомую силу, спокойно подошел к девушке и обнял ее за бедра. Горячая волна прошла через ее тело. Словно разбуженная сомнамбула, Меги открыла глаза и опустила голову на плечо художника, желая скрыть свое лицо, залившееся краской стыда. Вато поднял девушку и положил ее на кровать. В ее глазах стояли слезы.
«Не сошла ли она с ума?» – вопрошал взгляд Цицино. Меники молча покачала головой.
«Одурманенная душа и горячая, дикая кровь», – подумал художник.
МАТЬ
Прошло несколько дней. Меги молчала, полная ненависти и отчаяния. Тихо, как кошка, прокрался Нау в ее комнату. По-кошачьи неслышно приблизился он к Меги и тронул ее за локоть. Меги вздрогнула от испуга. Но когда она увидела направленный на нее кошачий взгляд Нау, гнев и испуг ее сразу же прошли. Нау передал Меги письмо и тут же удалился. Она начала, читать. Письмо было от Астамура. Абхаз писал пространно и лишь о любви, о любви к ней. Он умолял простить его. Он-де забылся тогда. Какой-то ураган захватил его, некий демон завладел им, ослепил, оглушил…
…Абхаз молил о прощении. Меги еще раз пробежала письмо. В ее глазах появился огонь. Она читала письмо не только глазами. Нет, она вбирала его в себя обостренно, всеми своими чувствами. Она вся превратилась в судорожное биение пульса. Меги прочла письмо до конца. Ее оцепеневшие руки вдруг изорвали письмо в клочья. Она надолго задумалась, нагнулась, дрожащими руками собрала обрывки письма, снова принялась читать. Выражение ее лица немного смягчилось. И тут она, услышала чей-то шепот в смежной комнате. Она скомкала клочки письма и прислушалась. Меги смутно догадывалась, что там говорили о ней.
– Нау, ты не знаешь того абхаза, который подарил Меги сокола? – спросила Цицино.
– Да, я знаю его, – ответил раб, – это Астамур Лакербая.
– Разве он бывает в наших краях?
– Бывает.
– И часто?
– Да.
– Как часто?
– В последнее время почти каждый день.
– В какое время дня?
– Примерно за сто локтей до захода солнца.
– Как ты думаешь, он сегодня придет?
– Да, пожалуй.
Цицино замолчала. Вдруг она приказала:
– Оседлай к этому времени моего коня! Приготовь мою черкеску и меч! Ты слышишь?
– Да.
Нау удалился. В глубине его души снова зашевелилась ревность.
Меги испугалась, узнав о намерении матери. Она знала, что Цицино в единоборстве была сильнее и смелее кого бы то ни было. Рассказывали, что она когда-то смертельно ранила одного смельчака. Меги помрачнела. Ее руки все еще сжимали клочки бумаги. Наконец она разжала онемевшие пальцы и с грустью посмотрела на обрывки письма. Они вдруг стали ей дороги. Она тщательно разгладила их рукой и спрятала.
Незадолго до захода солнца Нау подвел коня к дому. Цицино вышла в черкеске. Хотя ее бедра слегка и пополнели, но фигура напоминала фигуру юноши, а черкеска очень шла ей. Волосы женщины были собраны в плотный узел, голова обмотана белым шелковым башлыком. Красивое, но слишком зрелое для юноши лицо глядело из белого шелка. Цицино села на свою пегую лошадь и уже хотела было тронуть поводья, как вдруг перед ней оказалась Меги, которая схватила лошадь Цицино под уздцы. Девушка и сама в эту минуту была похожа на породистую лошадь.
– Не надо… не надо… – умоляла она свою мать.
У девушки и у лошади дрожали колени. Цицино недоумевала. Но, заглянув в умоляющие глаза своей дочери, она вдруг соскочила с лошади и спросила:
– Значит, ты любишь его?
Меги ничего не ответила. Она молча отошла от матери.
Да, она любила его.
ВСТРЕЧА
Астамур был здоровым и сильным мужчиной. Любая рана быстро заживала на нем, стоило лишь покрыть ее закопченной паутиной – так мощно и дико кипела кровь в его жилах. Но рана, которую нанесла ему Меги своим высокомерием, никак не заживала… Он сожалел теперь, что овладел тогда девушкой. Но разве он в тот миг мог сдержать себя? Сегодня уже седьмой день, как он написал ей письмо, а ответа не было! Да это еще куда ни шло. Джвебе рассказал ему, что Меги оторвала голову соколу, которого он подарил ей. А ведь сокол этот был крылатым символом его сердца… День за днем он бродил после захода солнца в этих местах, надеясь встретиться с Меги. Но Меги нигде не показывалась. И сегодня он в который раз выехал туда верхом, унылый, разбитый. Над Рионской низменностью благоухало небо. Ни звука не доносилось из крытых камышом домов, стоявших на склонах, в низине, в лесу и на берегу реки. Это были низкие, маленькие домики, похожие скорее на невзрачные хижины. Тяжелые буйволы уютно отдыхали в лужах, равнодушно жуя жвачку. Совершенно подавленный, ехал Астамур на своем коне. Он потерял всякую надежду увидеть Меги. Лишь вера в какое-то чудо гнала его каждый раз к этим местам.
На повороте дороги, у могучего дуба вдруг показалась девушка. Может быть, это Меги? Мощная волна радости внезапно обдала Астамура. Конь остановился. И девушка остановилась, низко склонив голову. Словно сорванный плод была она, словно спелое семя, брошенное на произвол всесильной судьбы. Ее гневно-кроткий взгляд выдавал бурю, разыгравшуюся в ее душе. Жеребец Астамура стоял как вкопанный. В одно мгновение мужчина почувствовал, что настал его звездный час! Но конь его не двигался с места. Может быть, оцепенение передалось ему от всадника.
Пойти ей навстречу? И тут же молнией сверкнула мысль: если конь посмотрит направо, я пойду. Но конь Астамура, повернул голову налево. Глубокое уныние овладело джигитом. Его воля была парализована. Кбнь оставался на месте, беспрестанно фыркая. Астамур украдкой посмотрел в сторону девушки. Но Меги уже не было на прежнем месте. Она ушла. Может быть, поскакать за ней? Попытаться догнать? Но куда делось его мужество, его смелость? И Астамур проклял свою нерешительность, которую, как ему казалось, он никогда до сих пор не испытывал.
ШЕПОТ
Меги пошла к своей подруге Бучу.
Если бы Астамур приблизился к ней, она, возможно, выслушала бы его. Но всадник не двинулся с места, а ей стало невмоготу ждать… Меги на ходу сорвала цветок, смяла его в руках и вдохнула дрожащими ноздрями аромат. Она шла к подруге, сама не зная зачем.
Она казалась себе цветком, с корнем вырванным из оберегавшей ее родной земли. Девушка бессознательно делала шаг за шагом. Что ей нужно было у подруги? Рассеяться или поведать Бучу свою тайну? Этого она и сама не знала.
В это время Меники и Уту стояли за сараем, таинственно перешептываясь. Недалеко от них сидел Вато. Он не прислушивался к их разговору, но отдельные слова доходили до его слуха. Вокруг никого не было видно. Они говорили о какой-то восковой фигурке. Уту сказал что-то, из чего Вато разобрал лишь слова «волосы» и «имя». Художник старался не прислушиваться к шепоту волшебницы и исцелителя животных и очень обрадовался, когда увидел идущую к нему Меги.
– Ты здесь, Вато?
– Меники тоже здесь.
Шепот за сараем прекратился. Вато испытующе посмотрел на Меги. Дикое выражение ее лица исчезло, легкая печаль была на ее девичьих устах… Полуоткрытые веки хранили тайну. Художник знал это.
– Ты не знаешь, где Бучу? – спросила Меги.
– Ее кто-то пригласил к себе, – ответил Вато.
Шепот за сараем возобновился. Художник взглянул на ухо девушки. Оно совершенно, как морская раковина, – подумал он. Из-за сарая продолжали доноситься отдельные слова: «Главное – имя, настоящее имя…» и затем: «Да, и не забыть шрам на носу…» Девушка задрожала всем телом. В этой дрожи было что-то от приглушенного крика орла, ужаленного змеей. Вато недоумевал…
Подошла Меники.
– Ах, Меги, и ты здесь? – Голос волшебницы звучал неестественно. Меги ничего не сказала ей в ответ.
СЛОВО, ИМЯ, ОБРАЗ
Брови – грозовые тучи, глаза – молнии, – такой была Меги. Все ее существо дышало волнением. Принуждаемая некой таинственной силой, она прислушивалась к бушевавшему в ее душе бунту, а к ней самой прислушивался Вато. Он стал о многом догадываться. То, что до этого носилось в воздухе, постепенно сложилось в его представлении в завершенное событие. Умерщвление сокола, подаренного абхазом, безумно раскрытые глаза Меги, ее бешенство и странное смятение, охватившее ее, перешептывание Меники с заклинателем Уту, бессвязные слова: «волосы…», «имя», «восковая фигурка…», испуг Меги, услышавшей слова: «шрам на носу…» – все это сложилось в сознании художника в законченную картину. У абхаза был шрам на носу. Это сказал ему Нау. Итак, эти бессвязные слова относились к Астамуру. Испуг Меги говорил о том, что ее что-то связывало с абхазом. В конце концов это ведь он подарил ей сокола. Но этому соколу она оторвала голову. А это значит, что между Меги и Астамуром произошло что-то непоправимое. Вато попытался дать своим мыслям более определенное направление. Перешептывание Меники и Уту, подумал он, должно, по-видимому, означать приготовление к какому-то колдовскому заговору. Вато взглянул на Меги. Ему хотелось прочесть в ее почти зримо пульсирующих жилах непроизнесенные слова тайны. Но он ничего не сказал.
Ночью мысли его приняли другое направление. Три слова составляли самое существенное в таинственном диалоге волшебницы и заклинателя: слово, имя, образ. Вато задумался. Смысл слов, произнесенных Уту, никак не раскрывался ему. По звучанию они были похожи на мегрельско-грузинские слова, но смысл их был иной, чем в родном языке Вато. Они происходили скорее всего от какого-то несуществующего языка. Художник воочию убедился, какое действие эти слова оказывали на животных. Может быть, это объяснялось тем, что слова родного языка с течением времени утратили свою первоначальную силу? И вдруг ему пришла в голову мысль о том, какое слово могло быть впервые произнесено людьми. Вот, к примеру, грузинское слово «ситква», имеющее одновременно следующие три значения: «слово», «плен» и «овладение». Можно представить себе тот момент, когда это слово впервые вырвалось из хаоса и присоединилось к бесконечному ряду творческой эволюции. В то доисторическое время это слово, по-видимому, обладало подобной стихийной силой, – подумал художник. В первоначальном слове непременно должна проявляться первозданная сила земли. Более того: оно, вероятно, само по себе есть не что иное, как космический знак запечатленный в ряде звуков. Такое слово обладает материальной силой. На этом языке, наверно, говорил первобытный человек, первенец Земли. Мысли Вато пошли дальше – от первоначального слова до слов заклинаний и чародейства. Этим последним свойственна такая же сила, как и первоначальным словам. Это было известно вавилонским жрецам и халдейским мудрецам. Разве не был Уту, маленький, невзрачный Уту, живым отростком этого доисторического древа?
Художник всю ночь не спал. Он думал о таинственном слове «имя», в котором заключается какой-то свой, особый образ, свой собственный облик. В «имени» слово обретает свою личность, свою оригинальность и неповторимость. Вато снова вспомнил те слова: «Имя, настоящее». Он размышлял: в Мегрелии один и тот же человек может иметь несколько имен. Почему? До сегодняшнего дня он не задумывался над этим. Шепот Уту многое открыл ему: «Имя, настоящее…» Итак, существует и ненастоящее имя? Но для чего оно, если существует настоящее? Долго, долго думал Вато об этом. Из непроницаемой туманной завесы всплыли обрывки древнеегипетской магии, нашедшие каким-то непостижимым образом путь в страну колхов и осевшие здесь в живом народном предании. Древние египтяне ясно сознавали, что «имя» означает саму личность. «Я – Гор, воскресивший своего отца Осириса. Я творю сотворившего меня. Я создаю создавшего меня. Я дарую жизнь имени того, кто даровал мне жизнь». Вато не сомневался, что в этом изречении слово «имя» употреблено в значении «личность». О каждом усопшем, вступающем в блаженство воскресения Осириса, в священных текстах говорится: «Да расцветет имя почившего, как расцветает священное древо, как произрастают колосья из тела Осириса». «Даровать жизнь имени» означало оживить личность и, наоборот, уничтожить «имя» означало похоронить личность. Существовал обычай искоренять имена приговоренных к смерти или впавших в немилость. Искоренить имя означало убить душу, поразить таинственного двойника. Древние египтяне верили в это. Вато продолжал размышлять. Теперь только он начал постигать смысл бессвязного бормотания Уту: «Имя, настоящее имя…» Не подлежит сомнению, что в настоящем имени отражена личность человека. Другие же имена, неподлинные, служат лишь прикрытием, ширмой или щитом для личности. Подлинное имя ведомо лишь его обладателю и его близким. Выдать свое имя означало лишить себя твердой опоры…
Все эти мысли с быстротою молнии пронеслись в голове художника… Шепот Уту: «Узнать настоящее имя» – показался ему подозрительным. Не хотел ли он узнать имя абхаза? Но для чего? Может быть, он собирался причинить вред обидчику Меги? Он вспомнил первые главы Книги Бытия, фрагменты вавилонского эпоса, надписи на гробницах египетских фараонов и мидийских царей. Ему пришли на ум некоторые места из «Илиады», а также стихотворение Гете «Горные вершины». Во всех этих и других великих произведениях была магия слова и имени. Но скрытый смысл их художник пока не постигал. После того, как он услышал шепот Меники и Уту о «портрете», его охватил неосознанный страх за судьбу своего собственного произведения искусства: может быть, у него получалось изображение лишь двойника светловолосой девушки? Весь этот день прошел как сон наяву.
На следующий день Вато поехал в Родную Гурию, взяв с собой начатый портрет Меги. Перед художником простирались поля, погруженные в тоскливую дремоту. Земля была вся пропитана росой. В душе Вато горела неутоленная тоска, похожая на застрявшую в ране стрелу. Все навязчивее, все мучительнее становились вопросы, которыми он задавался: «Что есть портрет? Что есть изображение?..» На всем пути к дому он размышлял, и мысли уносили его все дальше и дальше…








