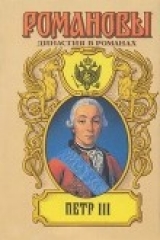
Текст книги "На троне великого деда"
Автор книги: Грегор Самаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц)
Благородный конь рванулся вперёд; ещё раз раздались громкие восклицания народа, и сани стрелой помчались по льду, направляясь к Зимнему дворцу.
Потёмкин неверными шагами, словно во сне, вернулся церковь и снова встал на своё место, но, точно от усталости, прислонился к колонне; его глаза были полузакрыты; казалось, он ничего не замечал, что творилось вокруг него, и лишь изредка из его груди вырывался болезненный стон.
Екатерина Алексеевна откинулась в санях назад, она чувствовала себя обхваченной руками Орлова, державшего вожжи, и какое-то особое чувство упоения, которое, с одной стороны, удовлетворяло её честолюбию великой княгини, с другой – отвечало желанию её сердца женщины, овладело ею.
Княгиня Дашкова указала поручику Орлову боковой подъезд, к которому он должен был подъехать, сани остановились, молодой атлет вынес из них дам; на мгновение он удержал в своих руках Екатерину Алексеевну; её рука покоилась в его руке, он чувствовал её лёгкое пожатие, и, вышло ли это случайно или намеренно, перчатка великой княгини скользнула с её руки и осталась у него.
– Благодарю, – прошептал Орлов, – благодарю!.. Это мне будет залогом того, что это мгновение не исчезнет и что я снова увижу чудную фею, как небесное видение явившуюся мне!
После краткого прощанья Екатерина Алексеевна и Дашкова быстро поднялись по лестнице, а Орлов, которому благодаря его мундиру всюду был открыт доступ, отвёл сани во двор и сдал их кучерам.
Когда Екатерина Алексеевна пришла к себе в комнату и в совершенном изнеможении опустилась в кресло, княгиня Дашкова обняла её и восторженно воскликнула:
– Моя болезнь прошла, путь к будущему открыт, теперь нам нечего больше делать, как ожидать событий и, когда они наступят, овладеть ими. Разрешите мне теперь, ваше императорское высочество, моя милостивая покровительница, удалиться. Завтра с утра я снова буду к вашим услугам!
Екатерина Алексеевна нежно поцеловала её и приказала своей камеристке проводить Дашкову, предоставив в её распоряжение закрытые сани. Затем, откинув голову на спинку кресла, она снова отдалась мечтам. Её грудь вздымалась высоко, а губы тихо шептали:
– Ради могущества и власти я пожертвовала счастьем своего сердца, любовью Станислава Понятовского; неужели я найду чем заменить его? Неужели вместе с могуществом и властью расцветёт новое счастье и для моего сердца, вечно стремящегося к новой, горячей жизни?
VIII
После посещения Елизаветы Петровны Петром Фёдоровичем и Екатериной Алексеевной доктор Бургав снова приказал закрыть комнату больной императрицы. Часовым у дверей доктор именем императрицы отдал строгий приказ не впускать никого, будь это самые высокие особы или самые близкие к Елизавете Петровне лица, и солдаты, получившие этот приказ при открытых дверях, почти на глазах императрицы, буквально исполняли его. Но после того как Елизавета Петровна приняла у себя племянника и его супругу, у неё не было больше никакого наплыва посетителей, так как все были убеждены, что Пётр Фёдорович бесповоротно признан наследником, мало того, разыгравшейся пред постелью больной Елизаветы Петровны сцене почти придавали значение добровольной передачи кормила правления в руки наследника ещё при жизни императрицы, и поэтому всё придворное общество стало обращать своё внимание исключительно на Петра Фёдоровича, который, казалось, в самом скором времени должен был получить всю полноту власти.
Весь двор собрался бы в приёмной Петра Фёдоровича, если бы доступ в великокняжеские покои не был закрыт таким же строгим приказом, как и в комнату Елизаветы Петровны. Пётр Фёдорович был невидим для всех, он заперся в своём кабинете с майором Гудовичем, и все его бывшие фавориты, как камергер Лев Нарышкин, голштинец фон Брокдорф и голштинский генерал фон Леветцов, были забыты. Даже сама графиня Елизавета Романовна Воронцова, которая несколько раз пыталась проникнуть в комнату Петра Фёдоровича, не достигла этого – солдат, стоявший на часах у его дверей, просто направил на неё штык и объявил ей, что она не принадлежит к числу тех лиц, которых он мог бы допустить к его императорскому высочеству (ему был дан точный список этих лиц); кроме того, при входе и они должны были предъявлять собственноручно подписанный Петром Фёдоровичем пропуск. Таким образом, графиня, шепча про себя проклятия, вынуждена была удалиться.
Один только Панин мог каждую минуту беспрепятственно входить к великому князю; он не раз приходил к нему в течение дня и подолгу просиживал в комнате Петра Фёдоровича, а затем снова отправлялся в город, и его сани можно было видеть у дома то одного, то другого сенатора. Но так как Панин в качестве воспитателя малолетнего великого князя Павла Петровича, естественно, находился в близких отношениях к Петру Фёдоровичу и эти отношения в данное время, вследствие приближающейся кончины Елизаветы Петровны, постоянно державшей Павла Петровича вдали от родителей, должны были завязаться ещё теснее, то никто не придавал особенного значения такой близости великого князя с воспитателем его сына; кроме того, Панин уже с давних пор совсем не вмешивался в политику, и Сенат, членов которого он посещал так часто в последнее время, не считался учреждением, имеющим какое-либо важное политическое значение. Впрочем, это никому не мешало встречать Панина, где бы он ни показывался, с особенной предупредительностью, а некоторые из довольно видных придворных уверяли, что за холодною сдержанностью осторожного дипломата просвечивала какая-то гордая, торжествующая радость.
Покои Екатерины Алексеевны были также закрыты для всех, даже дежурным статс-дамам она запретила являться к себе без зова, и только за обедом великокняжеская чета появлялась среди своего небольшого двора; но обед продолжался обыкновенно не больше четверти часа, причём супруги почти ничего не говорили, а Пётр Фёдорович всё время сидел потупившись, чтобы не встречаться с горячими, вопросительными и угрожающими взорами графини Воронцовой, которая часто едва сдерживала слёзы гнева и обиды. Кроме княгини Дашковой и приближённой камеристки, никто не имел доступа к Екатерине Алексеевне; по три, по четыре раза в день великая княгиня уезжала из дворца, хотя и не скрываясь под вуалем, но в простых санях, без свиты, в сопровождении только княгини Дашковой, в разные церкви, чтобы, смешавшись там с народом, помолиться о здоровье императрицы; всякий раз её узнавали, всякий раз народ приветствовал её громкими, восторженными кликами и благословениями, от которых она бежала в сани и уезжала во дворец.
В то время как весь Петербург, вся Россия и почти вся Европа с напряжённым вниманием обращали свои взоры на Зимний дворец и подготовлявшиеся в его стенах события, три человека, на которых был сосредоточен всеобщий интерес, жили совершенно замкнутой жизнью. Елизавета Петровна целыми часами лежала в забытьи, в полном изнеможении, между тем как доктор внимательно следил за каждым ударом её пульса, за каждым её вздохом. Однажды она открыла глаза и с удивлением огляделась кругом, стараясь припомнить, как она очутилась здесь, и, взглянув на доктора Бургава проницательным взором, свойственным лихорадочным больным, спросила, может ли она поправиться и снова взять в свои руки бразды правления. На это Бургав серьёзно ответил ей, что он не видит сейчас непосредственной опасности, что употребит все средства, которые подскажут ему наука и опыт, чтобы совершенно вылечить её, но что Божья воля сильнее человеческих наук и искусства и что смерть своею властною рукой так же беспощадно косит главы самых великих и могущественных земных владык, как и простых людей. После этого Елизавета Петровна ничего уже не спрашивала более, но, несмотря на запрещение доктора, приказала позвать своего духовника отца Филарета, который не смел больше отлучаться из дворца. Охватив похудевшими, дрожащими пальцами полную руку монаха, государыня слабым, неуверенным голосом повторяла за ним молитвы, которые он читал громко, внятно, с полной верой в их чудодейственную силу. Когда же она, вконец усталая от этих молитв, показывавших ей всю тщету земного величия, в изнеможении опустилась на подушки, она приказала принести дорогой киот,[7]7
Киот – створчатая рама или шкафчик со стеклянной дверцей для икон.
[Закрыть] где хранились её иконы в богатых золотых ризах, украшенных жемчугом и драгоценными камнями, и поставить его на стол. После этого Елизавета Петровна тихо лежала на постели, устремив с мольбой свои взоры на иконы, и её едва шевелившиеся губы, казалось, передавали заступничеству святых все её горести и заботы.
Но и святые, казалось, не могли помочь больной. Всё бледнее становилось лицо императрицы, медленно закрывались её глаза, тихий шёпот замирал на её устах, и она вновь впадала в полузабытьё. Доктор снова подходил к её постели, приказывал унести образа и снова с часами в руках принимался следить за пульсом и дыханием больной государыни, которая в такую минуту согласилась бы, пожалуй, отдать весь блеск своего царствования за настоящее здоровье простой нищенки.
Тем временем Пётр Фёдорович был занят просмотром многочисленных проектов, предлагаемых ему Паниным; последний постоянно делился ими с доверенными сенаторами, которые, в свою очередь, делали в них те или другие изменения, так что при каждом новом посещении Панина снова начиналось новое чтение и обсуждение их.
В этом оригинальном занятии, слегка напоминавшем знаменитое вязанье Пенелопы,[8]8
В греческой мифологии Пенелопа, верная жена Одиссея, ожидая возвращения мужа, всячески уклоняется от многочисленных женихов под предлогом, что должна соткать погребальный саван. Работая днём, ночью она распускала готовую ткань.
[Закрыть] распускавшей в нём по ночам петли, оба находили своеобразное удовлетворение. Пётр Фёдорович, по настоятельному совету Гудовича замкнувшийся в одиночестве, чтобы не связывать себя никакими обязательствами в будущем, находил в чтении этих проектов и в освещении различных положений, которые Панин с замечательной ясностью представлял на его утверждение, благодетельный исход для постоянного напряжения, беспокойства и страха, с которыми он готовился встретить наступающий кризис. Высокопарные, гордые слова, наполнявшие манифест, с которым он должен был обратиться при вступлении на престол к Сенату, и изъявления глубокой почтительности и преданности, выражавшие чувства Сената, льстили его самолюбию и тщеславию; он охотно – правда, подчас рассеянно – выслушивал и одобрял всякие предложения, не замечая при этом, что слова, с которыми он обращался к сенаторам со ступеней трона, при всей их напыщенности содержали в себе просьбу о сложении с себя тяготы правления, между тем как ответ Сената, при всей почтительности его выражений, был не чем иным, как соизволением на высшее правление страной, и только при этих условиях признавал его императором. Он не замечал также и того, что в проектах Панина и в добавлениях к ним его друзей Сенату в торжественных выражениях предоставлялись права в совместном правлении и законодательстве, существенно ограничивавшие императорское самодержавие, окружавшие его внешним подобием власти, но почти повсюду низводившие его до простого исполнителя воли Сената, который, в свою очередь, обещал передать власть в руки ответственного пред ним министра.
Панин, во время своего посланничества в Швеции возымевший особую склонность к конституционным формам правления и находивший известное удовлетворение в перестановке и игре слов в различных законопроектах, которыми он, как все ограниченные люди, призванные к политической деятельности, думал управлять всей могучей жизнью страны, видел уже себя в роли первого министра будущего императора.
Дальновидный майор Гудович не мог не заметить, какие существенные ограничения самодержавной императорской власти заключались в проектах Панина, но ему был хорошо знаком неустойчивый характер вовсе не для власти рождённого Петра Фёдоровича, который легко поддавался самым пагубным влияниям. Будучи горячим патриотом и в то же время искренне любя своего будущего монарха, он думал, что те положения, которые должны были явиться как следствие предложенных Паниным законопроектов, не только охраняли величие и благо России от неустойчивого характера Петра Фёдоровича, но и защищали его самого от народного недовольства и от революционного движения, так как переносили ответственность с монарха на Сенат. Поэтому во всех случаях, когда Пётр Фёдорович спрашивал его совета, Гудович всегда соглашался с предложениями Панина и тем самым поддерживал великого князя в одобрении представленных на усмотрение законов.
Сам Пётр Фёдорович во время этих длинных и обстоятельных докладов, в сущности очень мало интересовавших его, не вникал хорошенько в обстоятельства дела и чувствовал себя уже полновластным государем.
Со своей стороны, Екатерина Алексеевна, не имевшая ни малейшего понятия о замыслах и деяниях Панина, думала только о том, как бы заручиться согласием имевшей решающее значение в последнем перевороте[9]9
Речь идёт о дворцовом перевороте 25 ноября 1741 года, когда 300 гвардейцев возвели на престол Елизавету Петровну.
[Закрыть] гвардии на захват власти в свои руки, она рассчитывала с помощью военной силы победить или даже в самом зародыше подавить все интриги и происки враждебной партии, и в то же время стремилась приобрести расположение народа и войска своими непрекращавшимися посещениями церквей. При этом она действовала в полном согласии со своим преданным и неутомимым другом, княгиней Дашковой, почти ни на минуту не покидавшей её. Княгиня непрестанно твердила ей, что прежде всего ей необходимо обеспечить себе престолонаследие: силою воли и решительностью Екатерина Алексеевна должна была получить верх над своим слабовольным супругом, а вместе с тем благодаря своему уважению к народным чувствам и набожности ей нетрудно было заручиться поддержкой духовенства и обеспечить всё возраставшую популярность, так что, если бы Пётр Фёдорович захотел впоследствии вернуться к власти, он не был бы в состоянии привести своё намерение в исполнение.
При таких обстоятельствах наступило Рождество. Однако этот столь шумный до сих пор праздник не нарушил тишины, царившей в Зимнем дворце. Даже народ держал себя тихо, в боязливом ожидании все стремились в церковь, чтобы празднование торжественного дня соединить с молитвами о здравии императрицы или о счастливой развязке надвигающейся катастрофы.
Елизавета Петровна по-прежнему лежала в полной апатии, под неустанным наблюдением доктора Бургава, в глубокой тишине слышались только тихое дыхание больной и тиканье часов доктора, лежавших на ночном столике.
В первый день Рождества в комнату больной государыни внезапно открылась дверь. Бургав с неудовольствием встал со своего места, приложил к губам палец и махнул другой рукой по направлению к двери, предполагая, что в комнату хочет войти духовник, причастивший накануне императрицу святой Тайне; после того как Елизавета Петровна была уже таким образом приготовлена ко всякой случайности, доктор не хотел позволять даже и служителю церкви нарушить душевный и телесный покой своей пациентки. Однако появившийся на пороге был вовсе не отец Филарет; в комнате, в парадной форме фельдмаршала, с орденом Андрея Первозванного, появился граф Алексей Григорьевич Разумовский. Его красивое, благородное лицо, делавшее его лет на десять моложе, чем он был на самом деле, было серьёзно и печально; он вёл за руку девочку в простом белом платье; на её бледном, прекрасном личике, обрамлённом тёмными локонами, также лежало выражение трогательной серьёзности, а из её больших синих глаз неудержимым потоком катились слёзы.
Граф Разумовский недовольно отстранил поднявшегося ему навстречу доктора и уверенным шагом подошёл к постели больной. Елизавета Петровна устало повернулась к нему, несколько секунд с удивлением смотрела на него, как бы давая себе отчёт в его появлении, и приветствовала его лёгкой улыбкой, между тем как покоившеюся на одеяле рукой сделала почти незаметное движение. Маленькая девочка, с распростёртыми руками, опустилась около кровати, и слёзы не переставая текли по её лицу. Граф Разумовский склонился над исхудалой рукой Елизаветы Петровны и сказал:
– Несмотря на печальные обстоятельства, я не могу пропустить этот великий праздник без того, чтобы не поздравить своей всемилостивейшей, возлюбленной государыни и не высказать ей от неизменно верного сердца искренних пожеланий скорого выздоровления. И этот ребёнок, хотя на одно мгновение, должен увидеть ту, кто была для него другом, может быть, единственным другом, – с тяжёлым вздохом прибавил он, – которого этому несчастному существу суждено было иметь на земле.
– А разве ты, Алексей Григорьевич, – тихо промолвила Елизавета Петровна, с трудом выговаривая каждое слово, – не остаёшься, чтобы любить и защищать её?
– Я только то, что из меня сделала милостивая воля моей государыни, и я буду ничто, когда этой воли не будет, чтобы защитить меня. Господь призвал к себе брата этого ребёнка; быть может, это было небесной милостью для покойного; быть может, он счастливее своей бедной сестры, которая, по воле Божией, должна надолго остаться беззащитной.
На одно мгновение вспыхнули взоры Елизаветы Петровны, она с усилием подняла руку и ласково положила её на голову всё ещё плачущей девочки.
– Слушай, Алексей Григорьевич, – тяжело дыша и с трудом произнесла она, – ты – самый лучший, может быть, единственный мой друг; пред Богом заявляю, ты ближе всех мне… Тебе я могу сказать… Ты должен знать то, что я до последней минуты хочу скрыть от других… Моя жизнь кончена, я чувствую, как смерть приближается ко мне, я вижу пред собою вечность, и она не кажется мне ужасной, потому что благочестивый служитель престола Божия влил мне в душу утешительную надежду, что милосердный Господь Бог милостиво будет судить мою грешную душу. Слушай же, – ещё тише промолвила она, между тем как её глаза широко раскрылись и засияли каким-то таинственным блеском. – Слушай же моё последнее слово! Ты передашь его моему племяннику, будущему императору, да просветит его Господь на благо России!.. Я повелеваю ему – и ты подкрепишь ему это повеление священной клятвой, – чтобы он был отцом этому ребёнку… слышишь? Отцом! Ты будешь наблюдать за этим… Ты скажешь ему, что, если он не исполнит моей последней воли, я призову на него не благословение, а мщение небес. Это – моя последняя воля, – сказала она, в изнеможении опуская голову на подушку, между тем как взгляд её глаз делался всё неподвижнее. – Все народы моего государства со страхом исполняли мои повеления, а они бывали подчас суровыми и жестокими. Моя последняя воля принадлежит любви, заботе о чистой душе невинного ребёнка. Пусть же будущий император в последний раз исполнит волю умирающей, которой он обязан своей короной, и этим обеспечит себе милость небес.
Лицо Елизаветы Петровны подёрнулось судорогой, глаза с ужасом широко раскрылись; она раскинула руки, её тело вздрогнуло, глубокий вздох вырвался из запёкшихся губ.
Доктор Бургав, стоявший поблизости, бросился к кровати, схватил руку императрицы, склонился над нею и воскликнул:
– Она умирает, она умирает!.. На этот раз нет больше никакой надежды!
Елизавета Петровна ещё раз судорожно вздрогнула, затем её тело вытянулось, руки бессильно упали, выражение ужаса исчезло с её лица, и глубокое спокойствие легло на её черты, казалось, она сладко заснула; свет в её очах померк, и они закрылись навсегда.
Доктор несколько мгновений стоял, нагнувшись над нею, затем положил руку на её сердце, приложился ухом к губам, пощупал пульс и наконец снова выпрямился с серьёзным выражением на лице.
– Императрица скончалась! – торжественно произнёс он.
Сидевшая в углу комнаты дежурная камеристка с криком ужаса кинулась к кровати.
Граф Разумовский схватил её за руку и повелительно сказал ей:
– Ты останешься здесь, вы, доктор, также – никто не смеет выйти из комнаты.
Затем он склонился над усопшей императрицей, тихо закрыл её глаза, поцеловал её холодеющий лоб и поднял с колен плачущую девочку.
– Взгляни ещё раз на это лицо, дитя моё! – сказал он дрожащим голосом. – Это самое святое, что есть для тебя на земле!.. Никогда не забывай той, которая была твоей государыней… и твоей матерью, как она была матерью всего русского народа.
Затем он повёл из комнаты рыдающую девочку, приказал часовым у дверей за своей ответственностью впредь до дальнейших распоряжений никого не впускать и не выпускать из комнаты. Всё ещё ведя с собою девочку, Разумовский прямым путём направился в покои великого князя и вошёл туда, несмотря на почтительные протесты часовых, не решившихся силой преградить доступ фельдмаршалу и главнокомандующему всех гвардейских полков.
Пётр Фёдорович сидел вдвоём с майором Гудовичем и ещё раз перечитывал своё обращение к Сенату, которое незадолго пред тем передал ему Панин уже в окончательной редакции.
Граф Разумовский приблизился к великому князю, поднявшемуся при его входе, склонил пред ним одно колено и громко и торжественно произнёс:
– С благоговением приветствую великого императора Петра Фёдоровича, самодержца всероссийского, и молю Бога, да сотворит Он царство его великим и славным на благо и счастье народа!
Пётр Фёдорович побледнел и ухватился за спинку кресла.
– Императрица? – трепещущими губами беззвучно спросил он.
– Государыня императрица Елизавета Петровна, – ответил Разумовский, – отдала свою душу Богу, а свою земную корону оставила вашему императорскому величеству. Последним её словом в последнюю минуту её жизни, когда она была ещё императрицей, было повеление её великому наследнику быть отцом этому ребёнку, и я обещал передать это повеление вашему императорскому величеству.
Пётр Фёдорович, несколько мгновений казавшийся совсем ошеломлённым, молча провёл рукой по лбу, затем выпрямился и его глаза засветились гордой радостью.
– Граф Алексей Григорьевич, – сказал он, – ты первый поздравил меня и назвал императором, ты принял последнее слово почившей императрицы. Ты не принадлежал к числу моих друзей, но ты был верным слугой своей государыни. Не бойся! Воля почившей должна быть исполнена, княжна Тараканова найдёт во мне отца, – прибавил он, протягивая руку трепещущей девочке. – Никто не должен быть печальным в ту минуту, когда Господь венчает мою голову короною России. Граф Алексей Григорьевич, я утверждаю тебя в твоих должностях фельдмаршала и обер-егермейстера и уверен, что ты верно и честно будешь служить мне!
– Бог да благословит ваше императорское величество! – сказал тронутый Разумовский, поднимая руку. – Я приказал запереть комнату государыни императрицы; никто ещё не знает о её кончине, и от вашего императорского величества зависит повелеть, что будет дальше.
– Иди, – сказал Пётр Фёдорович, – и возвести, что ты поздравил нового императора и что он обещал тебе сделать всех счастливыми и не знать ни одного врага великого князя.
Разумовский поцеловал руку императора, затем вышел из кабинета и вскоре беспокойная беготня, громкий говор и шум, поднявшиеся во дворце, показали, что известие о смерти Елизаветы Петровны стало общим достоянием.
– Ну, теперь они придут все, – сказал Пётр Фёдорович, простирая руки и тяжело дыша, точно с него свалилось тяжёлое бремя, – они придут все, чтобы поздравить нового императора… Со страхом и трепетом предстанут предо мною те, которые неустанно творили мне зло, оскорбляли и унижали меня, и, может быть, – дико сверкнув очами, прибавил он, – я сделал бы лучше, сослав их всех в Сибирь или заставив пасть их головы на плахе, потому что из Сибири они могут возвратиться. Кто мне поручится за то, что они, несмотря на всё унижение, с которым будут приветствовать меня, с первого же дня не задумаются о том, как бы подготовить моё падение, и не станут точить для меня ножей и не приготовлять яда?
– Нет, ваше императорское величество, – возразил Гудович, серьёзно и почти с угрозой подходя к Петру Фёдоровичу, нет, вы не станете поступать так, вы не можете читать в сердцах людей и не будете иметь возможности узнать всех своих врагов и сослать их. Но каждый приговор, который вы произнесёте, каждая пролитая вами капля крови вызовут против вас новые полчища врагов. Против всех заговоров, против всех ваших врагов есть только одно оружие, которое вернее страха, это – справедливость и милосердие. Будьте справедливы ко всем своим друзьям, беспощадны ко всем врагам государства, милосердны и великодушны к своим личным врагам, заключите неразрывный союз с народом и церковью, управляющей народом, и никто, как бы он высоко ни стоял, как бы ни было велико его влияние, не будет в состоянии поколебать ваш трон. Сейчас все дрожат и из страха принуждены будут обратиться к вашим врагам, когда они хотя бы с малейшими шансами на успех поднимут знамя восстания. Но никому не будет никакого интереса вредить вашему царствованию, раз под его покровительством он находит справедливость и защиту. Если вы будете жестоко преследовать тех, которые доселе были вашими врагами, то против вас восстанут тысячи новых врагов; если же вы великодушно простите им, то все ваши прежние противники обратятся в ваших самых преданных друзей.
– Ты прав, Андрей Васильевич, – обнимая своего адъютанта, воскликнул Пётр Фёдорович. – Ты прав, мой друг, и всё же я чуть-чуть не забыл тебя; ведь если я готов простить своих врагов, то не могу не наградить моих друзей! Адъютант императора не должен быть майором; ты – генерал, и я надеюсь, что генерал Гудович будет так же верно и честно служить императору, как майор Гудович служил великому князю. Впрочем, – промолвил он, когда Гудович целовал ему руку, – я ещё не император; Панин подготовил всё, чтобы сейчас же после кончины государыни собрать сенаторов, дабы я среди них мог возложить на себя корону и принять их поздравления. Нам необходимо ждать, – с лёгким вздохом добавил он, – пока придёт Панин и доложит мне, что почтенное учреждение собралось. Разыщи, пожалуйста, Андрей Васильевич, Панина и поторопи его поскорее подготовить всё, так как утомительно и, пожалуй, опасно долго длить такое состояние, при котором я – ещё не император.
Гудович поспешно вышел.
Пётр Фёдорович присел к столу и ещё раз стал прочитывать своё обращение к Сенату. Между тем суматоха, поднявшаяся во дворце, увеличивалась с минуты на минуту. Немного погодя Пётр Фёдорович нетерпеливо бросил бумагу на стол:
– Как скучно ждать! – воскликнул он. – Всё ждать, ждать!.. Я так долго ждал в жизни; неужели же император должен ещё ждать своих подданных? – Он встал и беспокойно принялся ходить по комнате. – Ах, я забыл про свою жену, – проговорил он, – я должен ей первой сообщить это известие, с ней я должен появиться пред Сенатом… Романовна с ума сойдёт, но Панин прав, мне ни к чему создавать себе новых врагов, а Екатерина была бы, пожалуй, самым опасным. Нет, нет, она должна помочь мне укрепить мою власть. Раз в моих руках будет власть, тогда, может быть, настанет время, когда я буду в состоянии иметь свою волю.
Несколько мгновений он находился в тяжёлом раздумье, затем быстро повернулся, словно боялся передумать, и боевым ходом направился в комнаты супруги.
Он нашёл её уже в трауре; княгиня Дашкова укрепляла на голове новой императрицы большой чёрный вуаль.
– А, – быстро входя, сказал Пётр Фёдорович, – вы уже знаете?..
– Я знаю, – воскликнула Екатерина Алексеевна, глядя на него с удивлением и почти неудовольствием, – что с главы покойной императрицы упала корона и что теперь от нас зависит твёрдой рукой удержать её. Вы ещё здесь? Возможно ли это? Народ уже собирается на улицах; если войска охвачены заговором, мы погибли!
Пётр Фёдорович испуганно взглянул на жену и сказал неуверенным голосом:
– Вы думаете?
– Я думаю, – повторила Екатерина Алексеевна, – что история этой страны должна была научить нас, что значит момент, если не уметь воспользоваться им и направить его в свою пользу.
– Так что же я должен делать? – спросил Пётр Фёдорович. – С чего вы думаете начать? Мне надо ждать, пока соберутся сенаторы, чтобы провозгласить меня императором.
– Сенаторы? – с горящим взором воскликнула Екатерина Алексеевна. – Не думаете ли вы, что это старьё с трясущимися головами, едва могущее держаться на ногах, сможет защитить ваш трон против одного батальона гвардии? Садитесь на коня, проезжайте по улицам, вызовите войска! Если гвардия и народ провозгласят вас императором, тогда вы станете им, тогда вы будете в состоянии своим хлыстом разогнать всех этих дряхлых сенаторов!
Широко открытыми глазами Пётр Фёдорович глядел на супругу; казалось, ему было трудно вдруг расстаться с мыслью, к которой он успел привыкнуть, но затем и в его глазах загорелось гордое мужество и радостная уверенность.
– Да! – воскликнул он, – да, вы правы. Я хочу быть императором, и как можно скорее! Невежливо заставлять меня дожидаться, как это делает Панин со своими сенаторами!
– Слышите крики народа на улицах? – сказала Екатерина Алексеевна, между тем как княгиня Дашкова закалывала на её голове последние складки. – Слышите? Это народ зовёт своего царя, и опасно долго оставлять его в сомнении, кому он должен повиноваться. Возьмите кого-нибудь из генералов, кого только найдёте, садитесь на коня проезжайте по улицам и прежде всего соберите войска, чтобы появиться среди них! Подите, княгиня, прикажите, чтобы императору немедленно подали лошадь и чтобы все находящиеся во дворце генералы присоединились к нему! Нельзя терять ни одной минуты.
Действительно, с площади доносились громкие голоса; можно было даже разобрать отдельные восклицания:
– Да здравствует Пётр Фёдорович, наш государь!
Пётр Фёдорович подошёл к супруге и поцеловал её руку.
– Благодарю вас, благодарю вас, – промолвил он. – Да, вы мужественны и умны; у вас прекрасные мысли, и я последую им.
Спустя немного вернулась княгиня Дашкова и доложила, что всё готово.
Граф Алексей Григорьевич Разумовский и его брат, Кирилл Григорьевич, а также несколько находившихся ещё во дворце офицеров ожидали в приёмной.
– Ступайте же, ступайте! – воскликнула Екатерина Алексеевна. – Ваше место там, среди народа и войска, а я пойду к почившей государыне позаботиться о том, чтобы ей были оказаны все почести, соответствующие её высокому сану.
Дежурные статс-дамы, тоже все в трауре, собрались в приёмной; графиня Елизавета Романовна Воронцова также находилась среди них; её глаза искали императора, но он поспешно прошёл мимо, не заметив её, сделал знак генералам, в сопровождении их направился во двор и сел на коня, чтобы через главные ворота выехать на площадь, где тысячеголосые восторженные клики приветствовали его появление.
В то время как Пётр Фёдорович, окружённый ликующими массами народа, ехал верхом, направляясь к городу, ко дворцу одни за другими подъезжали раззолоченные сани, из них выходили сенаторы и с торжественным достоинством поднимались по дворцовой лестнице, чтобы проследовать в тронный зал; сановники были преисполнены чувством гордости, что новый император примет из их рук верховную власть, чтобы впредь пользоваться ею, лишь руководясь их советами и под их контролем. Екатерина Алексеевна в это время, сопровождаемая всеми своими статс-дамами, с длинным, полуоткинутым чёрным крепом, с выражением глубокого траура на лице, направлялась к комнате, в которой скончалась императрица; там она прежде всего преклонилась пред смертным ложем и погрузилась в долгую, тихую молитву, после чего, почтительно приветствовав отца Филарета и подойдя под его благословение, стала обсуждать мельчайшие подробности порядка погребения императрицы.








