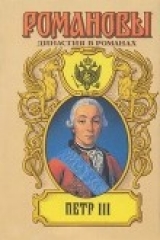
Текст книги "На троне великого деда"
Автор книги: Грегор Самаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 31 страниц)
– Кажется, весь свет сошёл с ума! – воскликнул Орлов. – Кто вы такой?
– Я – барон фон Бломштедт, – ответил молодой человек, – и так же, как вот этот офицер, хочу видеть лицо этой дамы, чтобы убедиться, как далеко могут простираться женские лживость и лицемерие.
Он тоже вынул шпагу и встал рядом с Потёмкиным.
– Ну, в таком случае, – дрожа от гнева, воскликнул Орлов, – защищайте вашу жизнь!
Он начал нападать, и его шпага стала сыпать сильнейшие удары на шпаги противников. Но в это мгновение Мариетта бросилась к нему и так сильно схватила его за руку, что его шпага вонзилась в землю. Затем Мариетта сбросила с головы капюшон и спокойно сказала:
– Я не хочу, чтобы из-за меня была пролита кровь. Эти господа хотели видеть моё лицо – вот оно. Я не привыкла опускать взор пред кем бы то ни было.
Потёмкин стоял безмолвно; он пристально смотрел на прелестное личико молодой женщины, которую он видел в театре, затем его лицо прояснилось и засияло от счастья. Он глубоко вздохнул, как бы сбрасывая с души огромную тяжесть, и опустил шпагу.
Зато Бломштедт с ледяной насмешкой воскликнул:
– Я был прав, это действительно – та, которую я узнал, несмотря на плащ! Ну, – сказал он, поворачиваясь к Орлову, – желаю вам счастья в знакомстве с этой дамой!.. Я не стану дальше беспокоить вас. Она умеет играть свою роль в жизни так же хорошо, как и на подмостках. Она чересчур привыкла разыгрывать различные роли то пред одним, то пред другим и в действительности не стоит того, чтобы благородные люди скрещивали из-за неё свои шпаги. Мне больше нечего сказать вам. Я прошу извинения за то, что задержал вас и выказал слишком много горячности, – продолжал он с ледяной насмешкой. – Нам не в чем упрекать друг друга, так как призвание этой дамы заключается в том, чтобы переходить из одних рук в другие.
Орлов хотел ответить, но Мариетта подошла к барону и мягко и почти грустно сказала:
– Вы – глупец, мой друг, потому что руководствуетесь предрассудками света, а я их отбрасываю. Я хотела иначе расстаться с вами. Ну, что делать, если это случилось не так. Я буду дружески вспоминать о вас. Прощайте!
Она протянула Бломштедту руку, но он не взял её и, холодно поклонившись Орлову, хотел уйти. Мариетта заслонила ему путь.
– Нет, – воскликнула она, – хотя вы и уходите в гневе на меня, но всё же я не хочу, чтобы случилось несчастье. Я требую от вас обоих – а не один порядочный человек не может отказать женщине в такой просьбе, – чтобы вы оба дали мне честное слово, что всё это не будет иметь никаких дальнейших последствий и что вы никогда ни одним словом не упомянете об этом и не назовёте моего имени.
Бломштедт и Орлов гневно посмотрели друг на друга.
– Я требую этого, – воскликнула Мариетта, – и если вы мне не дадите слова, то клянусь вам, что, несмотря на часовых, я проникну к государю и расскажу ему обо всём, что случилось.
В её глазах светилась твёрдая решимость.
– Она в состоянии сделать это, – сказал Орлов, – хорошо, в таком случае я даю слово, и если, – тихо сказал он, обращаясь к Бломштедту, – наши шпаги скрестятся ещё раз, то мы будем иметь для этого достаточно поводов.
Сказав это, он протянул руку Бломштедту.
Молодой человек с ледяной вежливостью пожал её, повторил, в свою очередь, требуемое Мариеттой обещание и быстро исчез в темноте ведущей на набережную улицы.
Тогда подошёл Потёмкин.
– Товарищ, – сказал он, обращаясь к Орлову, – я погорячился и прошу извинения за свою запальчивость у вас и у этой дамы, если она может простить меня.
Он протянул Орлову руку, которую тот взял, покачивая головой. Затем Орлов испытующе заглянул в лицо молодого человека, светившееся от радости, и вдруг понял причину всего происшедшего.
– Мне очень жаль, – сказала Мариетта, стоявшая, задумчиво глядя в землю, – цветок был так свеж и так быстро увял. Но, – продолжала она, откидывая со лба локоны и набрасывая на голову капюшон, – будь что будет! Земля богата цветами, а моё сердце ещё достаточно молодо, для того чтобы поискать нового счастья.
С этими словами она поспешила домой.
Орлов взял Потёмкина под руку и, направляясь к казармам, сказал:
– Пойдёмте, товарищ! Ваши глаза не могут скрыть то, что происходит в вашем сердце, я прочитал в них всё.
Потёмкин вздрогнул, его рука затрепетала, и он испуганно посмотрел на Орлова.
– В вашем сердце, – продолжал последний, наклоняясь к уху своего спутника, и медленно подвигаясь с ним вперёд, – царит образ женщины, которая стоит выше всех представительниц своего пола. Любовь к этой женщине довела вас до безумного поступка и до глупого подозрения по отношению ко мне. Та же женщина, о которой я говорю, – продолжал он, в то время как Потёмкин, дрожа всем телом и затаив дыхание, слушал его, – да, эта женщина, которая достойна высшего благоговения и которую я чту так же, как и вы, находится теперь в опасности, в серьёзной опасности.
– Господи Боже! Что вы говорите? – воскликнул Потёмкин. – Возможно ли это?
– Ни слова больше! – сказал Орлов. – Пойдёмте в мою комнату! Быть может, счастливая звезда свела нас сегодня вместе с вами. Двое мужчин, обладающих мужественными душами и имеющих достаточную силу в руках, могут сделать многое. Наши шпаги едва не скрестились. Будемте же теперь друзьями и заключим священный союз для того, чтобы спасти ту, имя которой царит в нашем сердце и, – продолжал он ещё тише, проходя под воротами казармы, – если мы спасём её – ту, которую хотят унизить и удалить, то мы спасём и Россию.
Оба вошли в комнату Орлова. Слуга внёс кипящий самовар, и оба офицера просидели до самой поздней ночи, ведя горячий разговор.
XVIII
На следующий день Екатерина Алексеевна переехала со всем своим двором в Петергоф. Когда камергер сообщил Петру Фёдоровичу о предстоящем переезде государыни и о её желании проститься с супругом, император отклонил это свидание. Графиня Елизавета Романовна Воронцова, которая в качестве фрейлины императрицы должна была сопровождать Екатерину Алексеевну, придумала какой-то предлог, который якобы мешал ей покинуть Петербург, о чём она и известила государыню даже не лично. Екатерина Алексеевна равнодушно приняла это известие и ничуть не протестовала против намерения своей фрейлины не оставлять императора.
Петергофский дворец, бывший центром придворной жизни в летнее время в царствование Елизаветы Петровны, снова ожил, хотя далеко не в такой мере, как при жизни покойной императрицы. Несмотря на то, что фрейлины и камергеры прогуливались по аллеям парка, а по вечерам в окнах средних комнат и в боковом флигеле, где помещалась Екатерина Алексеевна, зажигались огни, во дворце было пусто и скучно, а парадные залы, в которых когда-то собиралось многочисленное общество, были наглухо заперты.
Екатерина Алексеевна проводила почти всё время в своих покоях, занятая преимущественно чтением разнообразных книг. Когда она показывалась в обществе, выражение её лица бывало всегда серьёзным и озабоченным. Настроение императрицы передавалось всем присутствующим, знавшим, в каком тяжёлом положении находится их властительница. Большинство двора было искренне предано государыне, которая всегда была ласкова и приветлива со всеми, несмотря на мрачное расположение духа.
Двор Екатерины Алексеевны, скучный сам по себе, был, кроме того, почти совершенно отрезан от двора Петра Фёдоровича. Пренебрежение, которое так явно выказывал император своей супруге, заставляло придворных особ держаться как можно дальше от Екатерины Алексеевны, чтобы не возбудить неудовольствия Петра Фёдоровича. Та самая дорога, по которой в царствование Елизаветы Петровны непрерывно двигался ряд блестящих экипажей, направлявшихся из Петербурга в Петергоф и обратно, была теперь совершенно пуста и безлюдна. Глядя на тихий, уединённый замок, никто не мог бы предположить, что здесь находится резиденция супруги царствующего монарха, если бы не обилие почётной стражи.
Казалось, что Пётр Фёдорович за пренебрежение, оказанное императрице как им лично, так и его двором, хотел вознаградить её усиленной военной почестью. Количество караулов удвоилось сравнительно с тем, что было при Елизавете Петровне; никогда ещё в Петергофском дворце не скоплялось так много военной силы. Однако Екатерина Алексеевна не видела в этом явлении почёта; она понимала, что к ней приставлена стража, следившая за каждым её шагом, и считала себя тайной пленницей. Она никому из окружающих не сообщала своих подозрений по поводу усиленных караулов, но её лицо становилось всё более мрачным и озабоченным.
Через два дня по переезде государыни в Петергоф на большой дороге, которая вела из Петербурга в резиденцию государыни, стало заметно некоторое оживление. Сначала показался экипаж графини Дашковой, проводившей своего супруга в Константинополь, так как князю поручено было доложить турецкому султану о вступлении на престол Петра Фёдоровича. Через некоторое время за экипажем Дашковой последовала карета, окружённая гайдуками, с форейторами[19]19
Гайдук – слуга, стоящий на запятках кареты, высокого роста, в гусарской или казачьей одежде. Форейтор – верховой, сидящий на одной из передних лошадей, запряжённых цугом.
[Закрыть] впереди; в этой карете ехали юный великий князь Павел Петрович вместе со своим воспитателем Паниным. Только улеглось облако пыли, поднятое лошадьми великого князя, как по дороге проехал верхом на лошади гетман малороссийский, граф Кирилл Разумовский. Гетману было в это время около сорока лет, но по фигуре и весёлым, жизнерадостным глазам ему можно было дать значительно меньше. Выехав из ворот дома, хитрый Разумовский сделал сначала вид, что совершает обычную прогулку верхом, и лишь тогда, когда город оказался далеко позади, пришпорил свою лошадь, повернул в сторону и быстро помчался по дороге в Петергоф.
Княгиня Дашкова приехала первой и сейчас прошла к императрице, которая с серьёзным и задумчивым видом сидела у окна, затемнённого высокими деревьями.
– Простите, моя обожаемая повелительница, – воскликнула княгиня, целуя руку Екатерины Алексеевны, – что я только сегодня явилась к вам вместо того, чтобы раньше разделить ваше одиночество, но я должна была проводить мужа в Турцию; он принял это назначение, чтобы избежать опасности, грозившей ему лишением свободы и даже, может быть, смертью. Кроме того, мне нужно было собраться с мыслями, чтобы высказать вам всё то, что лежит у меня на душе…
– Вы сравнительно счастливы, – печально ответила императрица, – вы теряете своего мужа лишь на время; вы знаете, что снова встретитесь с ним, и среди ваших страданий, причиняемых разлукой, является надежда – великая утешительница горя. Вы говорите, что хотели привести свои мысли в порядок, чтобы серьёзно побеседовать со мной; но что вы можете мне сказать? У вас, наверно, есть желание утешить меня, и вы произнесёте несколько ободряющих слов, в которые, конечно, и сами не верите, – прибавила Екатерина Алексеевна со страдальческой улыбкой.
– Нет, ваше императорское величество, – возразила Дашкова со сверкающими глазами, – то, что я хочу сказать вам, не имеет ничего общего с пошлыми словами утешения. Да такие женщины, как вы, моя возлюбленная государыня, и не нуждаются в утешениях; их можно только просить проявить свою волю и начать действовать…
Екатерина Алексеевна мрачно взглянула на свою приятельницу.
– Проявить свою волю, начать действовать? – с горькой усмешкой повторила она. – Но к чему послужила бы моя воля, в чём могла бы проявиться моя деятельность? Если бы я хотела бежать отсюда, избавиться от этой жизни, полной унижения, то я и это не была бы в состоянии сделать; ведь вы видели, какая стража окружает меня! Неужели ещё можно сомневаться в том, что я арестована?
– Вы можете освободиться, ваше императорское величество, – воскликнула Дашкова, – стоит лишь вам захотеть и набраться храбрости.
– Храбрости? – удивлённо спросила императрица, гордо подняв голову. – Я никогда не знала, что такое страх; но к чему храбрость в моём положении? Разве только для того, чтобы с достоинством умереть!
– Нет, не для того, чтобы умереть, – возразила Екатерина Романовна, – а для того, чтобы жить и повелевать. О моя высокочтимая государыня, от вас вполне зависит взять скипетр России в свои руки. Скажите слово – и корона, не та мишурная корона, которая украшает голову Петра Фёдоровича, а настоящая золотая, заблестит лучезарным светом на вашей голове.
– Что вы говорите? Неужели возможно нечто подобное? – спросила императрица с просиявшим лицом.
– Если вы этого захотите, то не только возможно, но неизбежно, – ответила Дашкова. – Я многое видела и слышала. Мой муж, прекрасно знающий, какое настроение господствует в войсках, уверял меня, что все страшно возмущены против императора. Его величество глубоко оскорбил национальное чувство военных; они сильно возбуждены – и довольно одного слова, чтобы искра разгорелась в пламя. Если они найдут знамя, вокруг которого могут собраться, то немедленно столкнут Петра Фёдоровича с престола. Вы, ваше императорское величество, будете возведены войском на трон, и весь народ радостно встретит вас.
Грудь императрицы высоко поднималась от волнения; она гордо и смело подняла голову, а затем задумалась и нерешительно проговорила:
– Нет, это невозможно, невозможно! Я для России совсем чужая. В моих жилах нет ни капли русской крови, а император – родной внук Петра Великого.
– Но разве Пётр Великий не отстранил даже сына от престола, когда убедился, что тот погубит Россию? Кто же по уму и характеру более подходит к Петру Великому, чем вы, ваше императорское величество? Право, это значит гораздо больше, чем несколько капель крови, унаследованных вашим супругом от своего деда! – прибавила княгиня Дашкова.
Екатерина Алексеевна не успела ещё ответить на слова приятельницы, как ей доложили о приезде великого князя Павла Петровича. Через несколько секунд цесаревич вошёл в комнату в сопровождении своего воспитателя Панина, который был очень угрюм и мрачно смотрел на всех.
Императрица рассеянно обняла своего сына и затем отправила робкого, несколько запуганного мальчика в сад со своей камеристкой, к великому удовольствию ребёнка, обрадовавшегося возможности порезвиться на свободе.
– Что нового в Петербурге, Никита Иванович? – спросила Екатерина Алексеевна, когда великий князь ушёл. – У вас такой мрачный вид!
– Ничего нет удивительного в этом, – ответил Панин, – я не могу не быть мрачным, когда рушится всё то, на что я возлагал надежды. Принимая близко к сердцу интересы России и её правителя, я подготовлял мудрое правление, поддерживаемое Сенатом. Теперь мне всё больше и больше приходится убеждаться, что в России всё зависит от личного произвола и настроения императора, что могучая держава, пред которой начинала трепетать вся Европа, гибнет вследствие полного непонимания дела и потребностей страны. Император всё сделал для того, чтобы восстановить против себя войско; дворянство, вначале благодарное ему за многие дарованные ему льготы, теперь тоже негодует, так как русское сердце не может примириться с дружбой с пруссаками и безумной войной с Данией, которую предпринимает император. Чтобы покрыть издержки, вызванные будущей войной с Данией, ваш августейший супруг обложил чрезвычайно большими налогами монастырские земли. Митрополит, осмелившийся заговорить с императором по этому поводу, вызвал сильнейший гнев государя и сослан в Новгород. Всё духовенство, не любившее и раньше государя императора, восстало, как один человек, и распускает в народе слухи о том, что Пётр Фёдорович – порождение антихриста, злейший враг России.
Княгиня Дашкова многозначительно взглянула на императрицу.
– А вы миритесь со всем этим, – обратилась она затем к Панину, – и ограничиваетесь лишь одними вздохами? Достойно ли русского патриота молча смотреть на унижение своей родины и выслушивать насмешки других держав?
– Что же делать? – ответил Панин: – Пётр Фёдорович – император. Все недовольны им, но каждый обязан повиноваться. Я не вижу такого центрального пункта, вокруг которого могли бы сосредоточиться все патриоты.
– А между тем центр недалеко, – возразила княгиня Дашкова. – Этим центром должна быть наша дорогая государыня императрица. Её имя послужит знаменем для всех, вокруг неё соберутся все любящие Россию и дорожащие её честью.
– Неужели вы, ваше императорское величество, думаете, что это возможно? – испуганно вскрикнул Панин. – Да, да! Это было бы великое дело! Россия была бы спасена, если бы это удалось, но…
– А почему бы это могло не удаться? – прервала Панина Екатерина Романовна. – Все, ненавидящие Петра Фёдоровича, обожают государыню императрицу и прежде всего – духовенство.
– Мне кажется, что и я имею некоторые права на Россию, – перебила Дашкову Екатерина Алексеевна, пристально всматриваясь в лицо Панина и как бы читая его мысли, – ведь я – мать будущего императора, такого же потомка Петра Великого, как и его отец.
Глаза Никиты Ивановича заблестели от удовольствия, он быстро заговорил:
– Да, это верно! Вы, ваше императорское величество, как августейшая мать будущего императора, имеете полное право принимать близко к сердцу интересы государства. Я думаю, что если вы выступите пред народом, как представительница своего малолетнего сына, то встретите полное сочувствие. Можно будет до совершеннолетия Павла Петровича передать вам, ваше императорское величество, регентство, а Сенат будет вместе с вами вершить дела; таким образом вы всегда найдёте в нём опору.
Княгиня Дашкова хотела что-то возразить против регентства, но императрица поспешно остановила её лёгким пожатием руки.
– Гетман граф Разумовский! – доложила вошедшая вдруг камеристка.
– Господи, какой сегодня блестящий приём в моём уединённом дворце! – улыбаясь, заметила Екатерина Алексеевна и приказала просить графа Разумовского.
– Вот и предвестники великого события, – прошептала княгиня Дашкова, – или, вернее, первые лучи восходящего светила, начинающие прорезывать глубокий мрак.
Гетман быстро подошёл к императрице и поцеловал её руку.
– Позвольте обратиться к вам, ваше императорское величество, – начал он, – к вашему чувству и разуму, так как в Петербурге не хотят ни о чём слышать; там царит какое-то ослепление, а между тем крайне прискорбно видеть, как рушится могучая держава.
Княгиня Дашкова радостно захлопала в ладоши.
Прежде чем продолжать дальше свою речь, граф Разумовский беспокойно оглянулся на стоящего невдалеке Панина.
– Говорите без стеснения, Кирилл Григорьевич! – сказала Екатерина Алексеевна. – Мы уже кое-что знаем со слов Никиты Ивановича. Вы видите пред собой трёх человек, которые решили во что бы то ни стало поддержать честь государства и не дать ему погибнуть.
– Неужели вам, ваше императорское величество, уже известно то, что происходит, – воскликнул гетман, – о чём все говорят и думают? Следовательно, я могу без утайки открыть пред вами свою душу?
– Говорите откровенно! – ответила Екатерина Алексеевна. – Я считаю себя вполне русской и вменяю себе в обязанность жить и действовать для блага России. Я очень нуждаюсь в указаниях тех лиц, которым особенно доверяла в Бозе почившая государыня императрица Елизавета Петровна в своё славное царствование.
– Если так, то наша несчастная родина может быть ещё спасена, – продолжал Разумовский. – Такое управление государством, как сейчас, не может длиться долго; если мы предоставим императору возможность вести дела в том же виде, как это было до сих пор, то катастрофа неизбежна, и не только он сам, но и русский трон погибнут неизбежно. Теперь ещё можно остановить поток ненависти, широкой рекой разливающийся среди русского народа, теперь он угрожает ещё только виновникам гибели государства; но страсти разгораются, взбунтуется чернь – и тогда никто не сможет поручиться за свою безопасность, никто не в состоянии будет удержать разгорячённую толпу. Скажите одно слово, ваше императорское величество, и мы все, как один человек, соберёмся вокруг вас!.. Привлечь к себе войска недолго. С их помощью мы вырвем из рук несчастного императора бразды правления и передадим их вам, ваше императорское величество!
– Я – мать будущего императора, – строгим тоном ответила Екатерина Алексеевна, – и понимаю, как ответствен этот титул. Только что Никита Иванович Панин указал здесь, какая великая обязанность лежит на мне; я вполне согласна с ним и всегда готова выполнить свой долг пред Россией и своим августейшим сыном.
Разумовский с недоумением взглянул на Панина.
– Я только что имел счастье докладывать её императорскому величеству, – обратился Никита Иванович к гетману, – какое благодеяние оказало бы теперь регентство во главе с государыней императрицей, поддерживаемое Сенатом.
– Никита Иванович Панин берёт на себя подготовить это дело, – быстро вмешалась в разговор Екатерина Алексеевна, чтобы не дать возможности Разумовскому возразить что-нибудь против регентства и Сената.
– Сенаторы доверяют мне, – продолжал Панин, – и мне нетрудно будет склонить их в пользу регентства. Насчёт Сената я спокоен, весь вопрос в войске. Вы видели на собственном опыте, как сильна гвардия; она может разрушить самые удобоисполнимые планы, если все другие войска не будут на нашей стороне.
– В войске недостатка не будет; я ручаюсь вам, что через несколько недель достаточно будет одного знака, чтобы весь гарнизон Петербурга провозгласил её императорское величество царствующей императрицей и передал в её руки скипетр и корону.
– Нет, не царствующей императрицей, а регентшей, – поправила Екатерина Алексеевна, – это место мне более подходит. Поддерживаемая Сенатом и лучшими людьми государства, я буду чувствовать себя сильнее и увереннее, стану исполнять свой долг.
– Следовательно, дело окончено! – воскликнула княгиня Дашкова. – Союз для спасения отечества заключён; каждый из нас будет стремиться к тому, чтобы быстрее идти к цели и привлечь новых товарищей. За всё, что мы ни предприняли бы, мы отвечаем сами. Государыня императрица не состоит членом союза, но мы имеем её согласие, и этого достаточно. Когда наступит время, мы позовём её, а пока поклянёмся ей в своей верности и в полном сохранении тайны.
Екатерина Алексеевна протянула свою руку; Разумовский, Панин и княгиня Дашкова прикоснулись к ней, произнося слова клятвы.
– Спаси, Боже, Россию! – торжественно проговорила императрица. – Я готова жить и умереть для блага своей родины. А теперь, господа, больше об этом ни слова! Возвращайтесь скорее обратно в Петербург, Кирилл Григорьевич; пока ещё опасно выражать свою дружбу императрице Екатерине Алексеевне. Что касается вас, Никита Иванович, то вы имеете право провести несколько часов у меня, как воспитатель моего сына. Слава Богу, что император разрешает привозить ко мне великого князя хоть на короткое время. Вы найдёте своего воспитанника в саду.
Разумовский и Панин, поцеловав руку императрицы, вышли из комнаты.
Как только дверь закрылась за ними, княгиня Дашкова бросилась к ногам Екатерины Алексеевны и, сияя от радости, стала целовать её руки.
– Наступает великий, чудный день, когда Россия воскреснет под могучей властью Екатерины Второй! – воскликнула она. – Долой Сенат, долой регентство! Отчего вы, ваше императорское величество, не отклонили глупого плана Панина? Только одна голова, одна рука должна управлять Россией.
– Пуст себе тешится! – улыбаясь, возразила Екатерина. – Каким бы путём ни попал скипетр в мои руки, я клянусь вам, что к нему не прикоснётся никто другой. Ну а теперь постараемся скрыть свою радость; не нужно давать и тени подозрения, что в наших сердцах вспыхнула искорка надежды. Все должны видеть императрицу грустной, озабоченной. Из пепла возродится Феникс.
Через час Екатерина Алексеевна вышла к обеду. Настроение придворных было мрачно и вполне соответствовало удручённому виду императрицы; визит гетмана был объяснён простой вежливостью, которую должны были время от времени выказывать высокопоставленные лица супруге своего императора, хотя бы и не любимой им. За столом присутствовал и великий князь Павел Петрович вместе со своим воспитателем. После продолжительной прогулки на свежем воздухе мальчик несколько оживился, повеселел, но государыня-мать так печально отвечала на его вопросы, так грустно смотрела, что великий князь почувствовал себя неловко и снова робко замолчал. У Панина был холодно-официальный вид, и он рассеянно отвечал на предлагаемые ему вопросы. Все решили, что воспитатель наследника погружён в тяжёлые думы, и это ещё более усилило всеобщую тревогу и уныние.
При дворе был обычай приглашать к императорскому столу офицеров, которые отбывали дежурство, командуя дворцовым караулом. В этот день была очередь Преображенского полка, и среди офицеров, появившихся в столовой в полной парадной форме, Екатерина Алексеевна увидела поручика Григория Григорьевича Орлова и майора Пассека. На одну минуту в глазах императрицы блеснула радость при виде этих двух офицеров, но она быстро потупила взор, так что никто ничего не заметил.
Обед прошёл скучно и вяло, и все были довольны, когда наконец встали из-за стола. После обеда, по заведённому обычаю, погуляли немного в парке, причём императрица приглашала кого-нибудь из присутствующих сопутствовать ей. На этот раз майор Пассек так явно старался быть замеченным государыней, что у неё не оставалось сомнения, что он хочет ей сообщить что-то важное.
Екатерина Алексеевна взяла под руку княгиню Дашкову и сделала знак Пассеку подойти к ней. Пока они были на виду у всех, императрица предложила майору несколько громких безразличных вопросов, но затем они повернули в одну из боковых аллей и остались втроём, так как, согласно этикету, никто не смел следовать за государыней без её приглашения.
– Я очень благодарен вам, ваше императорское величество, за то, что вы дали мне возможность поговорить с вами, – начал Пассек, как только густые деревья скрыли их от остального общества, – но то, что я хочу сказать вам, не должен слышать никто другой, – прибавил майор, взглянув на княгиню Дашкову.
– Говорите спокойно! – возразила императрица, удерживая руку Екатерины Романовны, которая хотела удалиться, – княгиня – мой истинный друг, и у меня нет от неё никаких секретов.
– Даже в том случае, когда дело касается жизни честных, преданных людей и даже, может быть, чести вашего императорского величества? – спросил Пассек.
– Даже и в том случае! – подтвердила Екатерина Алексеевна, прижимая к груди руку Дашковой. – Княгиня поклялась мне пойти за меня на жизнь и смерть, и я вполне верю её клятве.
– Вы в этом не раскаетесь, ваше императорское величество! – заметила Дашкова. – Но, ввиду того, что господин Пассек – олицетворённое сомнение, может быть, мне будет действительно лучше уйти?
– Надеюсь, что вы, княгиня, простите меня за мою осторожность, – возразил Пассек, – но раз её императорское величество ручается за вас, у меня нет никакого основания сомневаться больше, тем более, – прибавил он с горькой улыбкой, – что я не рискую ничем: жизнь потеряла для меня всякое значение с тех пор, как я лишился самого дорогого, самого святого, о чём известно её императорскому величеству.
Екатерина Алексеевна покраснела и с глубоким вздохом потупила свой взор, а затем молча протянула руку молодому человеку.
– Итак, я среди своих вернейших друзей, – ласково проговорила она.
– В одну торжественную минуту, когда я распростился со всем счастьем жизни, когда потерял всякую надежду на него, я дал слово вам, ваше императорское величество, жить впредь лишь для блага родины, принадлежать только ей, – начал Пассек. – Точно такое же обещание я услышал и из уст вашего императорского величества…
– Да, да, верно! – прервала майора Екатерина Алексеевна. – Я когда-нибудь расскажу вам эту историю, – прибавила она, обращаясь к удивлённой княгине Дашковой. – Что же, вы пришли теперь напомнить мне об этом обещании? – спросила она Пассека. – Я всегда готова выполнить своё слово.
– Да, ваше императорское величество, я пришёл затем, чтобы напомнить вам о вашем обещании и ещё раз повторить, что рад умереть за вас, если вы возьмёте в свои руки судьбу России.
– Вы слышите, ваше императорское величество, – радостно воскликнула княгиня Дашкова, – Бог не оставляет нашей родины.
– Я надеюсь на это, – заметил Пассек, – только Божья помощь может спасти Россию от гибели под управлением такого императора, как Пётр Фёдорович. Он унаследовал от деда лишь одно имя, и если бы Пётр Великий мог видеть, какое безумие царит в государстве, он немедленно отстранил бы от престола Петра Фёдоровича, как отстраняя своего собственного сына.
Екатерина Алексеевна глубоко вздохнула.
– Где же спасение? – скорбно спросила она, пронизывая майора проницательным взглядом.
– В руках вашего императорского величества, – ответил Пассек, – Россию можно спасти, если вам будет угодно призвать к делу её верных, отважных сыновей.
– Я была бы недостойна высокого титула русской императрицы, – воскликнула Екатерина Алексеевна, – недостойна была бы ступить на святую русскую землю, если бы колебалась хоть одну минуту, когда мне предлагают способ спасти Россию. Но скажите, где я найду таких людей, о которых вы говорите? Чьё ещё сердце так же жаждет счастья и славы своего отечества, как ваше?
– Сердце каждого русского солдата, – ответил Пассек. – Войско готово низвергнуть правителя, покрывающего позором великую Русь. Но, конечно, оно может действовать лишь тогда, когда ему укажут, что есть лицо, которому можно спокойно вручить судьбу России. В моём полку, ваше императорское величество, царит страшное недовольство. Все офицеры, как один человек, готовы пожертвовать своей жизнью, чтобы избавить родину от того состояния, в котором она теперь находится. Все взоры обращены вас, ваше императорское величество. Стоит вам сказать слово – и совершится переворот. Такое же настроение существует и в других полках. Все решительно возмущены. С нашего знамени сорваны лавры, приобретённые во время войны с Пруссией, а теперь нас заставляют драться с Данией, чтобы увеличить владения герцогства Голштинского, до которого нам нет никакого дела. Как только войско узнает, что вы, ваше императорское величество, согласны занять трон, то наступит конец царствования Петра Фёдоровича; он, ненавидящий Россию, вернётся обратно в своё герцогство, где может приводить в исполнение свои безумные планы, и Россия воспрянет духом и станет снова могущественной державой. Во всяком случае, существует заговор против Петра Фёдоровича; вскоре вспыхнет революция, могущая принять ужасные размеры, если не найдётся голова, достойная короны, если сильная рука не удержит народ от дикой кровавой расправы. Если вы, ваше императорское величество, желаете возложить на себя корону, взять в руки скипетр России, то власть Петра Третьего в очень непродолжительном времени перейдёт к вам.








