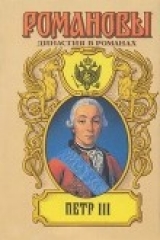
Текст книги "На троне великого деда"
Автор книги: Грегор Самаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 31 страниц)
– Разумеется, я полагаю, что могу обещать вам это от имени государыни императрицы… Но прежде всего необходимо, чтобы вы, ваше императорское величество, сложили с себя управление государством и признали сами себя неспособным к нему и недостойным его, дабы лишить всякой почвы смуту, которую могли бы затеять враги государства, пожалуй, к вашей же собственной гибели.
Пётр Фёдорович внимательно вслушивался; на одно мгновение его глаза вспыхнули как будто вновь воскресшим мужеством.
– А если я не сделаю этого? – порывисто спросил он, но когда Панин вместо ответа лишь пожал плечами, то государь, не дав ему времени ответить, воскликнул: – Ну да… да, я согласен… я вижу, что это необходимо… Что же мне писать?
Панин вынул лист бумаги из своего бювара, поставил на стол письменный прибор и сказал:
– Прошу вас, ваше императорское величество, написать то, что я продиктую.
– Диктуйте! – отозвался Пётр Фёдорович.
Торопливо летала его дрожащая рука по бумаге, нетвёрдым почерком записывая то, что с расстановкой говорил ему Панин:
«В короткое время моего царствования над государством российским признал я, что мои силы недостаточны для подъятия такого бремени и что я не способен управлять империей не только самодержавно, но и ни при какой-либо иной форме государственного устройства… Я признал, что существующий государственный строй поколебался при моём управлении и должен был неминуемо рухнуть окончательно, что покрыло бы вечным позором моё имя. Во избежание сего, по зрелом размышлении, без всякого принуждения пред российским государством и пред лицом целого света объявляю, что отказываюсь до конца моей жизни от управления Российской империей, что я не желаю царствовать над народом русским ни как самодержец, ни как ограниченный монарх при какой-либо иной форме государственного устройства; что я навсегда отказываюсь от всякой затаённой мысли когда-либо вернуться снова к управлению. Клянусь пред Богом и пред целым светом, что это отречение от престола написано и подписано мною собственноручно».
Слеза выкатилась из глаз дрожавшего императора на бумагу и смыла последнее слово; затем он подписал своё имя под роковым документом, поднялся с места и, подавая Панину исписанный лист, вопросительно, с большим достоинством и твёрдостью, чем раньше, взглянул на него.
– Вот, Никита Иванович, всё кончено! – произнёс он. – Тот, кто вчера был императором, сегодня более нищ и убог, чем последний бездомный бедняк в России. Пусть императрица не забудет, что ей придётся со временем отдать Богу отчёт как в судьбе государства, так и в моей судьбе.
Глаза графа Панина также блеснули слезой. В невольном порыве он нагнулся к руке императора и поцеловал её, сказав:
– Ваше императорское величество, положитесь вполне на великодушие государыни императрицы.
После этого Панин поклонился ещё раз так же низко и церемониально, как если бы стоял пред ступенями трона, и вышел из комнаты.
Едва успел он скрыться, как явился Алексеи Орлов. Он принёс императору простой кафтан, фуражку и сказал:
– Прошу покорно следовать за мною. Государыня императрица приказала отвезти вас в Ропшинский дворец. Вы найдёте там всё нужное для своего удобства, и все ваши желания будут исполняться.
Пётр Фёдорович закутался в кафтан, надел фуражку и, поддерживаемый Алексеем Орловым, направился по боковому коридору к одному из внутренних дворов. Здесь стояла небольшая карета, запряжённая тройкой сильных лошадей, а возле неё эскадрон конных гренадёров.
Пётр Фёдорович сел в карету с Алексеем Орловым; она тронулась и покатила. Гренадёры, сопровождавшие её, окружали маленький экипаж таким тесным кольцом, что никто не мог заметить государя или приблизиться к нему на улице. Молча, забившись в угол, съёжившись и весь дрожа, ехал развенчанный император, тогда как по другую сторону Петергофского дворца громкое «ура» гвардейцев гремело в честь новой повелительницы. Он ехал навстречу неведомому, в свою уединённую тюрьму, куда попал прямо от великолепия и всемогущества царского трона, ни разу с мужественной решимостью не подняв даже руки ради своего спасения.
XXVI
Тем временем фельдмаршал Миних, генерал Гудович и Бломштедт поднимались по широкой лестнице. Большая часть солдат почтительно отдавала честь фельдмаршалу, гордо проходившему мимо; раздавались даже возгласы симпатии по его адресу, но зато Бломштедта, бывшего в голштинском мундире, встречали проклятиями, и угрожающие взоры преследовали его, когда он, с бледным и грустным лицом, шёл между шеренгами войск, рядом с Минихом, ласково обнимавшим его за плечи. Они вошли в первую комнату, наполненную генералами, гвардейскими офицерами и придворными всех рангов и степеней. Все испуганно смотрели на фельдмаршала, захваченного вместе с низложенным императором; никто не решался поклониться ему, из боязни прогневить государыню, однако никто и не осмеливался быть грубым со старым полководцем, на суровом лице которого ярко, с юношеским задором, горели гордые глаза. Двадцатилетняя тяжёлая ссылка не научила Миниха робко гнуть спину из чувства страха. Всё то, чего мог ожидать для себя восьмидесятилетний старец, было бы сущими пустяками в сравнении с тем, что ему уже пришлось пережить и перестрадать.
Фельдмаршал не переставал обнимать Бломштедта, полный чувства сострадания к молодому человеку, стоявшему ещё на пороге жизни, для которого долголетнее заключение или ссылка были страшнее казни.
Дверь соседней комнаты была лишь притворена, и Миних, в сопровождении своих двух спутников, твёрдыми шагами вошёл в кабинет, где находилась императрица.
Екатерина Алексеевна сидела в кресле за небольшим столом, покрытым бумагами. Граф Панин, только что подавший императрице заявление Петра Фёдоровича об отречении от престола, приготовлял указы для подписи государыни. Рядом с креслом Екатерины Алексеевны стоял Григорий Орлов, не успевший ещё переменить погоны поручика на эполеты генерал-лейтенанта, но с орденом Святого Александра Невского на груди. Екатерина Алексеевна тоже была ещё в том же самом офицерском мундире, в котором гарцевала впереди гвардейцев, только на её голове была маленькая генеральская шапочка с белым султаном. По другую сторону кресла заняла место княгиня Дашкова, в костюме пажа, с екатерининской лентой через плечо. Эти две переодетые женщины, поручик с орденом Святого Александра Невского и Панин в напудренном парике с тремя спускающимися вниз косичками производили такое впечатление, точно действие происходило где-то в маскараде.
Увидев на пороге двери Миниха, императрица воскликнула:
– Итак, фельдмаршал, вы пошли против меня?
– Да, ваше императорское величество, – спокойно ответил Миних, подходя к Екатерине Алексеевне и кланяясь ей с холодным достоинством. – Я считал своей обязанностью служить словом и делом великому князю, вернувшему меня из ссылки. Он был моим императором, и мой долг был помогать ему до последней минуты. Бог судил иначе; несчастный государь не сумел удержать корону; теперь он больше не нуждается в моих услугах, а потому я могу служить вам, ваше императорское величество, если вам угодно будет милостиво принять мои услуги.
Несколько минут в комнате царило глубокое молчание; взоры с напряжённым вниманием были устремлены на Екатерину Алексеевну, строго смотревшую на фельдмаршала.
– Да, вы правы, – проговорила она наконец, – я уверена, что вы мне будете так же верны. Ваше место возле меня. Человек с такими заслугами, как вы, имеет полное право быть в непосредственной близости к престолу.
При последних словах императрица протянула Миниху руку, которую тот почтительно поцеловал.
– Мои спутники выказали такую же преданность своему императору, как и я, – сказал фельдмаршал, указывая на Бломштедта и Гудовича. – Если вы, ваше императорское величество, поставили мне это в заслугу, то, наверно, окажете милость и им.
Екатерина Алексеевна мрачно взглянула на обоих.
– Андрей Васильевич, – обратилась она затем к Гудовичу, – вы были доверенным лицом и адъютантом бывшего императора; я знаю, что многое было бы не так плохо, если бы мой ослеплённый супруг следовал вашим советам. Я думаю, что вы не будете иметь ничего против того, чтобы служить мне так же верой и правдой, как вы служили бывшему императору. Выберите себе сами полк, который вам больше нравится, и сегодня же последует ваше назначение.
Гудович грустным, но глубоко тронутым голосом сказал:
– Я желал бы вернуться на свою родину, дорогую Украину. Если вы, ваше императорское величество, пожелаете доверить мне один из стоящих там полков, то при первом случае убедитесь, что я готов сражаться до последней капли крови с врагами России.
Екатерина Алексеевна приветливо кивнула головой бывшему адъютанту своего супруга, а затем, обернувшись к Бломштедту, приняла суровое выражение лица и промолвила:
– Милость и забвение прошлого должны послужить началом моего царствования; ими я буду руководствоваться и впредь на благо и величие государства; но вы недостойны той милости, которую я считала своей обязанностью выказать верным слугам нашего отечества. Со шпагой в руках вы выступали против меня, и только счастливый случай, на который я смотрю, как на перст Всевышнего, предохранил меня от смерти. Несмотря на ваше дерзкое покушение на мою личность, русское государство по воле Божьей избавилось от позорного жалкого царствования. Вы для России чужой; кто же дал вам право вмешиваться в нравы и обычаи моей империи? Кто позволил вам противиться государыне, избранной самим русским народом? То, что вы сделали, носит название не только политической измены, но и величайшего преступления, направленного непосредственно на царственную особу великой нации.
– Ваше императорское величество, – воскликнул Миних, – этот молодой человек видел от императора только добро и милость, неужели же он мог оставить его в нужде?
– Все милости, оказываемые ему бывшим императором, – строго возразила Екатерина Алексеевна, – делались в ущерб коренным жителям России. Император мог, сколько ему угодно, осыпать его благодеяниями в своей Голштинии, но для чужеземца не место в России. Если иностранец осмеливается становиться между русским народом и избранной им государыней, то для такого дерзкого преступника ссылка является слишком слабым наказанием.
Княгиня Дашкова с выражением глубокого участия смотрела на красивого молодого человека, который был бледен, но держался со спокойным достоинством.
– Наша всемилостивейшая государыня императрица совершенно права, – воскликнул Орлов с горящими от злости глазами, – нужно показать пример, чтобы отбить у чужеземных искателей приключений охоту являться в Россию и раскидывать здесь свою паутину.
Бломштедт с презрением взглянул на поднявшегося вдруг так высоко фаворита и не ответил ни слова. Он считал, что его участь решена, и не пытался оправдываться. Он глубоко вздохнул и, как всегда бывает в самую тяжёлую минуту, пред ним внезапно пронеслась вся его жизнь. Он видел в своём воображении белый берег Балтийского моря и милое, любимое лицо своей подруги детства, ласково смотревшее на него большими светлыми глазами; он видел дом пастора, серьёзного священнослужителя, бывшего его наставником и другом; видел тихую, кроткую женщину, нежно проводившую рукой по его разгорячённому лбу… Вдруг внезапная мысль осенила его. Он вспомнил о письме, которое дала ему Мария Вюрц, жена пастора, для того, чтобы он передал его Екатерине Алексеевне в труднейшую для себя минуту. Теперь эта минута наступила, и письмо было при нём, в бумажнике.
– Что вы скажете, господин Бломштедт, в своё оправдание? – прервала думы молодого человека Екатерина Алексеевна. – Я готова выслушать даже самого отчаянного преступника.
– Судите меня, ваше императорское величество, как найдёте нужным, – ответил Бломштедт, доставая из бумажника письмо, довольно помятое, но с вполне сохранившейся печатью: – Я поступал согласно долгу и обязанности, и, конечно, должен отвечать за последствия своих поступков. Но прежде чем вы произнесёте свой приговор, позвольте, ваше императорское величество, отдать вам это письмо. Пред моим отъездом из Голштинии мне дали его для передачи вашему императорскому величеству, и только сегодня мне представился для этого случай.
Императрица, с удивлением глядя на молодого человека, приняла от него конверт, а Орлов с досадливым нетерпением пожал плечами. Екатерина Алексеевна внимательно вглядывалась в печать, припоминала почерк, которым был надписан адрес, и, по-видимому, никак не могла понять, кто мог быть автором этого письма. Наконец она открыла конверт, и по мере чтения её лицо принимало всё более растроганное выражение. Прочитав недлинное послание, она сложила листочек бумаги пополам и, опустив руки на колена, несколько минут молчала.
– Вы знаете содержание этого письма? – наконец спросила она, взглянув на молодого человека глазами, полными слёз.
– Нет, ваше императорское величество, – ответил Бломштедт, – но оно мне было дано женщиной, которую я глубоко уважаю; она обещала мне, что вы, ваше императорское величество, окажете мне содействие в исполнении моего желания, заставившего меня приехать в Россию, причём взяла с меня слово прибегнуть к вам лишь в том случае, если для этого представится настоятельная необходимость и не будет другого выхода.
– Благородная, самоотверженная душа! – тихонько прошептала Екатерина Алексеевна. – А тот, которого она потеряла из-за меня, принадлежит к числу друзей, помогших мне овладеть короной!
Слеза скатилась по щеке императрицы и упала на бумагу.
– Это письмо написано моим верным другом, – проговорила она, обращаясь к Бломштедту, – её просьба для меня свята, и ради этой женщины я прощаю вас.
Орлов невольно, в порыве гнева, стукнул ногой об пол, а княгиня Дашкова радостно захлопала в ладоши.
Бломштедт, мужественно подчинившийся было своей горькой участи, сразу почувствовал прилив глубокой радости; жизнь представлялась ему теперь такой прекрасной, как никогда раньше. Он опустился на колена пред государыней и благоговейно поцеловал её руку.
– Но в этом письме упоминается о каком-то желании, для которого вы приехали в Петербург, – продолжала Екатерина Алексеевна. – Просьба моей приятельницы должна быть выполнена всецело. Скажите же мне, в чём дело! В чём я должна помочь вам?
Необыкновенная радость и полное доверие к императрице охватили молодого человека. Он откровенно рассказал о своей юности, о любви к Доре, о доме пастора, о страданиях несчастного Элендсгейма, приведших старика к умопомешательству; он рассказал, что приехал в Петербург, чтобы молить императора спасти честь Элендсгейма, и что Пётр Фёдорович обещал ему лично заняться этим делом, когда будет в Голштинии во время войны с Данией.
Детская доверчивость выражалась на лице молодого человека во время рассказа, и Екатерина Алексеевна с ласковой улыбкой слушала его исповедь. Вдруг щёки Бломштедта вспыхнули; он вспомнил про свои увлечения в Петербурге… Это воспоминание заставило его умолкнуть и робко взглянуть на Орлова, смотревшего на него с насмешливой улыбкой, но не решавшегося прервать его.
– Война с Данией не даст мне случая быть в Голштинии, – иронически заметила Екатерина Алексеевна, – и у меня не будет возможности лично познакомиться с делом Элендсгейма, о котором, впрочем, я и так кое-что знаю. Мне известно, что он сделался жертвой клеветы Брокдорфа, любимца моего супруга. Во всяком случае, желание и просьба моей приятельницы будут исполнены. Скажите, она счастлива? – спросила государыня дрожащим голосом.
– Она делает счастливыми всех вокруг себя, – ответил Бломштедт. – Ведь это – тоже своего рода счастье!
– Благо ей! – со вздохом воскликнула Екатерина Алексеевна. – О, если бы Бог дал, чтобы и обо мне когда-нибудь сказали то же самое!.. Мой народ – это моя семья. Если он будет счастлив и силён, я буду чувствовать себя вознаграждённой за всё потерянное. Может быть, – прибавила она чуть слышным шёпотом, – это будет искуплением всех моих грехов. Возьмите перо в руки, Никита Иванович, – громко произнесла она, обращаясь к Панину, – и пишите следующее: «Мы, Божьей милостью, Екатерина Вторая, Императрица и Самодержица всей России, а также регентша герцогства Голштинского, объявляем от Нашего имени и имени Нашего малолетнего сына, герцога Голштинского и великого князя Российской империи Павла Петровича, что дело, поднятое против Элендсгейма, Нами рассмотрено, и Мы нашли, что все обвинения против него ничем не обоснованы, ввиду чего первоначальный приговор отменяем и признаём его за верного слугу своего отечества, достойного полного уважения. В награду за его верную службу и за незаслуженное наказание, которое он потерпел вследствие неправильного приговора, Мы возводим его и его потомство в дворянское сословие Голштинского герцогства». Считаете ли вы своё желание исполненным? – спросила императрица Бломштедта, когда Панин принёс ей бумагу для подписи.
– Вы, ваше императорское величество, не только исполнили моё желание, но совершили великий акт справедливости, – ответил растроганный Бломштедт. – Вы сняли с честного, благородного человека клеймо позора, заставившее его потерять разум. Если не удастся вылечить его, то, во всяком случае, на памяти о нём не будет пятна и дети с гордостью станут вспоминать его имя.
– Поезжайте теперь к себе на родину, – сказала Екатерина Алексеевна, – и передайте своим соотечественникам, что в герцогстве Голштинском всегда будет существовать справедливость, пока я буду им управлять за своего сына; что для всех своих верноподданных я буду милостивой правительницей, но никому из них не прощу, если кто-либо дерзнёт вмешиваться в судьбу России. Той же особе, которая дала вам письмо ко мне, скажите, что императрица Екатерина Вторая всегда будет вспоминать о ней с любовью и благодарностью.
Бломштедт поцеловал руку государыни, а фельдмаршал Миних сердечно обнял молодого человека.
– Благодарю вас, благодарю вас, моя всемилостивейшая государыня! – радостно воскликнула княгиня Дашкова. – Первый день царствования Екатерины Великой не должен омрачаться ни одной слезой; ни одна капля крови не должна быть пролита в этот высокоторжественный день.
Осчастливленный Бломштедт выехал из боковых ворот парка; а на широкой лестнице появились другие лица, бывшие в свите низложенного императора.
В то время, когда Бломштедт вместе с Минихом и Гудовичем поднимались к императрице, гвардейцы окружили другие экипажи и высаживали из них сидевших там лиц. Мужчины и дамы свиты Петра Фёдоровича очутились под открытым небом, окружённые тесным кольцом солдат, находившихся в большей или меньшей степени опьянения. Ружья солдат были снабжены патронами и острыми штыками. С угрожающим видом поднимали они оружие над дрожащими от страха людьми и, не переставая, ругали бывшего императора и его друзей. Достаточно было бы случайного выстрела или раны штыком, чтобы дикие инстинкты грубых солдат бурно проявились. Вид человеческой крови так же возбуждает толпу, как хищных зверей, и если бы пролилась хоть одна её капля, то последовала бы настоящая кровавая баня.
К счастью собравшегося общества, ещё так недавно пользовавшегося всеми благами высокого положения, а теперь робко жавшегося друг к другу, такой случайности не произошло, и дрожащей толпе придворных приходилось выслушивать лишь брань и угрозы. Ругательства, сыпавшиеся из уст солдат, вызывали яркий румянец на бледные от страха лица присутствовавших здесь дам.
Графиня Воронцова, измученная морской болезнью и смертельным страхом, потеряла всю силу воли. Она дрожала, как в лихорадке, и не решалась поднять взор. Только когда лично ей адресованные проклятия достигали её уха и грубый кулак солдата приближался к её лицу, она смотрела растерянными глазами и с мольбой протягивала руки вперёд.
Мариетта одна сохранила полное самообладание; она стояла посреди круга со скрещёнными руками, её глаза смотрели на бунтующих солдат мрачно, но решительно; под складками накинутой на плечи шали она держала рукоятку маленького флорентийского кинжала. Улыбка злобного упорства играла на её губах, а на лице лежало выражение твёрдой решимости дорого продать свою жизнь, если бы в этом явилась необходимость.
В течение часа всё более теснимое общество испытывало муки своего положения. Казалось, никто не заботился о нём, словно всех этих несчастных хотели предоставить произволу солдат; пожалуй, можно сказать, что это было самое тяжёлое наказание за высокомерную непочтительность, проявленную ими раньше по отношению к императрице, так как в этот час им пришлось претерпеть столько унижений, оскорблений и страха за свою жизнь, что грехи многих лет могли считаться искупленными.
Наконец появился Иван Орлов, чтобы освободить несчастных и повести их к императрице.
Все окружили его, многие даже целовали его руки, так как всё, что могло ожидать их от так долго и тяжело оскорбляемой ими повелительницы, казалось им в настоящую минуту счастливым избавлением от испытываемой муки.
Солдаты ещё преследовали их бранью и угрозами даже по лестнице, пока наконец часовые в покоях императрицы не оттеснили назад своих бушующих товарищей. Тогда всё общество, представлявшее своими расстроенными лицами, спутанными волосами и разорванными парадными платьями столь же жалкое, сколь и комическое зрелище, вступило в кабинет императрицы.
Все поклонились до земли, и Екатерина Алексеевна на одно мгновение остановила свои взоры на всех этих жалких фигурах. В течение нескольких секунд она как бы наслаждалась глубоким унижением своих врагов, которые до сих пор неустанно преследовали её и с восторгом встретили бы её гибель; затем она заговорила серьёзно и холодно, причём неописуемое презрение сквозило в её глазах и в тоне её голоса:
– Вы свободны! Все слуги государства и двора, согласно моей воле, останутся на своих местах. Я надеюсь, что вы все исполните свой долг и дадите мне случай обратить на вас моё благоволение.
Восторженный крик раздался из всех уст. Императрица сделала знак рукой; воцарилась глубокая тишина, и все так неожиданно освобождённые от смертельной опасности поспешно направились к выходу.
– Графиня Елизавета Романовна! – сказала Екатерина Алексеевна резким, суровым тоном.
В одно мгновение всё общество отстранилось от графини Воронцовой; она стояла одна посреди комнаты; цвет её лица стал землистым. Неуверенной походкой она приблизилась к государыне, упала пред ней на колена, и её трепещущие губы едва могли тихо пролепетать:
– Смилуйтесь!..
Екатерина Алексеевна посмотрела на неё строгим взглядом; в выражении её глаз не было пощады для той, которая хотела бросить её в мрак темницы, чтобы занять её место на троне.
Тогда быстро выступила княгиня Дашкова, встала на колена рядом с сестрой и, схватив руку императрицы, сказала:
– Ваше императорское величество, я молю вас пощадить моих родных… Я пожертвовала вам своей семьёй, сделайте же мне этот дар, пощадите её ради меня!
Государыня всё ещё серьёзно и мрачно смотрела в лицо своей приятельницы, казавшейся в мужском костюме ещё миловиднее и нежнее. Одно мгновение она была как бы в нерешительности, затем ласково провела рукой по лбу княгини Дашковой и, обращаясь к графине Воронцовой, сказала гордым, холодным тоном, но без горечи и резкости:
– Я не была довольна вашей службой в качестве статс-дамы, графиня Елизавета Романовна; вы не так понимали свои обязанности, как этого требовал ваш долг, и я отрешаю вас от должности. Выбирайте по своему усмотрению место вашего жительства, я не разрешаю вам являться ко двору.
Княгиня Дашкова со слезами на глазах снова поцеловала руку императрицы.
Графиня Воронцова встала и, пошатываясь, отошла.
В эту минуту грациозная фигура Мариетты, прятавшейся за другими дамами, вдруг быстро выступила вперёд. В одно мгновение, прежде чем её движение могло быть кем-либо замеченным, она очутилась около Григория Орлова. Как молния, блеснул клинок в её руке и опустился на грудь человека, так быстро возвеличенного над всем двором и ставшего могущественнейшим фаворитом новой повелительницы.
С криком ужаса Екатерина Алексеевна вскочила с места, ошеломлённые и неподвижные стояли вокруг неё все остальные. Нападение было столь внезапно и неожиданно, что никто не успел предупредить его, но хорошо направленный и сильный удар попал как раз в середину ордена Святого Александра Невского, украшавшего грудь Орлова. Клинок попал именно в украшенное бриллиантами эмалированное изображение святого. Сталь проникла глубоко, прошла сквозь звезду и даже прорвала под нею мундир, но не коснулась груди Орлова.
В первую секунду последний пошатнулся от силы удара, задержавшего его дыхание.
Мариетта отступила назад и, высоко подняв руку с кинжалом, с дикой, торжествующей радостью смотрела на поражённого ею человека. Но уже в следующее мгновение Орлов бросился на неё; он схватил её за руку и сжал её при своей гигантской силе так крепко, что молодая девушка вскрикнула от боли и выронила оружие. Тогда он потащил Мариетту к государыне, швырнул на пол и, пригнув своей железной рукой её шею, воскликнул дрожащим от злобы голосом:
– Убийство в присутствии вашего императорского величества, в присутствии августейшей государыни, которая только что проявила свою милость над всеми виновными!.. Это преступление не заслуживает никакого прощения; это – государственное преступление, оскорбление величества, равно как и того, против которого оно было направлено. Под кнутом должна испустить дух эта несчастная плясунья.
– Ты ранен, Григорий Григорьевич? – тяжело дыша, спросила Екатерина Алексеевна.
– Бог защитил меня, – ответил Орлов. – Знак царской милости моей всемилостивейшей повелительницы отвратил от меня смертельный удар, но преступление остаётся тем же. Негодяйка дважды заслужила смертную казнь.
– Пусть он погубит меня, – закричала Мариетта, прижатая крепкой рукой Орлова, и дико сверкающими глазами посмотрела на императрицу. – Моей мести ты избежал, несчастный трус, но твоя подлая душа сама свергнет тебя с тех высот, на которых ты стоишь теперь. Ты и других так же проведёшь и обманешь, как провёл и обманул меня; проклинаю тебя. Пусть духи моей мести всюду преследуют тебя на твоём пути!
Лицо Екатерины Алексеевны омрачилось, она побледнела, её губы сжались.
– Вон её отсюда! – закричал Орлов. – Вон её и отдать в руки палача!.. Пусть на торговой площади она окончит жизнь под ударами кнута!
Императрица в мрачном молчании смотрела на Мариетту, которую Орлов всё ещё держал у её ног, и строго и холодно приказала:
– Отпусти её, Григорий Григорьевич!..
Орлов не сразу повиновался.
Екатерина Алексеевна встала, её глаза метали искры.
– Я не хочу верить, – холодно сказала она, – чтобы в тот день, когда я возвела тебя до ступеней моего трона, ты мог осмелиться подать пример непослушания повелениям государыни.
Орлов смертельно побледнел; он потупился и отступил. Мариетта дерзко подняла голову, а затем свободно и бесстрашно посмотрела на императрицу.
– Я не спрашиваю, – сказала Екатерина Алексеевна, – в каком проступке ты обвиняешь его. Твоё преступление, вызванное местью, заслуживало бы смерти; благодари Бога, что Он сделал удар кинжала безвредным и спас тебя от страшного кровопролития. Первый день моего царствования должен сопровождаться милостью и прощением. Ты свободна. Поспеши переправиться через границу моего государства, так как если завтра тебя ещё увидят в Петербурге, ты будешь отдана под суд по всей строгости законов.
Мариетта поднялась; она не поклонилась, не произнесла ни одного слова благодарности; она лишь бросила в сторону Орлова взгляд, которым, казалось, призывала на его голову всех демонов мести. Затем она повернулась и вышла вон.
Орлов хотел броситься за ней, но императрица воскликнула:
– Остановись, Григорий Григорьевич! Твоё место около твоей государыни. Остерегайся покидать его!
Неровными шагами, судорожно сжав руки и стиснув зубы, Орлов вернулся к своему месту около государыни.
– Где офицеры моей гвардии? – спросила она. – Я их всех должна ещё поблагодарить, а долг благодарности прежде всего не должен быть забыт сегодня.
Офицеры находились в большом зале дворца, где для них был приготовлен завтрак, в то время как солдат угощали на открытом воздухе.
Императрица отправилась в этот зал; её встретили восторженными кликами радости, которые, проникнув через открытые окна, слились с другими голосами и становились всё громче и торжественнее. Екатерина Алексеевна произнесла несколько прочувствованных слов благодарности, осушила бокал за здоровье своих гвардейцев, а затем стала обходить столы, пожимая руку каждому из офицеров. У одного из последних столов стоял майор Григорий Александрович Потёмкин, который, то краснея, то бледнея, не отводил своих пламенных взоров от государыни. Екатерина Алексеевна задержалась пред ним и сказала:
– Вас в особенности я должна благодарить, Григорий Александрович; чин, в который я произвела вас, лишь слабо выражает благосклонность к вам вашей государыни. Я нуждаюсь в верных, преданных сердцах, которые поддержали бы меня в священном деле – сделать великим российское государство и счастливым русский народ. Я назначаю вас своим адъютантом; вы должны стоять около меня, чтобы поддерживать и защищать свою государыню, чтобы постоянно напоминать ей о её священном долге относительно России. Хотите посвятить мне своё сердце и свою руку для преданной службы?
Потёмкин не в силах был произнести ни слова. Он упал на колена пред императрицей и покрыл её руку горячими поцелуями, в то время как Орлов, со стиснутыми зубами и злобно сверкающими глазами, стоял в стороне.
– Теперь назад в Петербург! – воскликнула императрица. – Наша столица ждёт нас, русский народ жаждет нашей работы и попечения о нём. Майор Потёмкин, – добавила она, беря руку дрожащего молодого человека, – следуйте за мной, исполняйте свои обязанности! Отныне ваша служба принадлежит мне.
Приказ о выступлении был отдан. Войска сомкнули свои ряды. Екатерина Алексеевна села на лошадь.
Солдаты украсили себя венками из дубовых ветвей, и среди барабанного боя и радостных кликов войска новая императрица, против владычества которой уже никто не восставал, покинула дворец и направилась обратно в Петербург.








