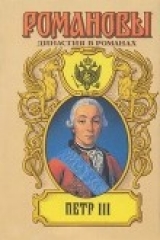
Текст книги "На троне великого деда"
Автор книги: Грегор Самаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 31 страниц)
Когда хозяин гостиницы вошёл в зал в сопровождении молодого, красивого, элегантного кавалера, вся фигура которого, несмотря на некоторую неуверенность и смущённость, изобличала молодого человека знатного происхождения, всё общество вдруг оживилось, подобно тому как после долгого затишья свежий ветерок снова приводит в движение уснувшую зеркальную поверхность моря. Лица королей, отцов и злодеев преисполнились ещё большей важности, большей мрачности и большей таинственности; герои и любовники придали более пластичности своим жестам, а своим чертам – более идеальное выражение; молодые актрисы небрежно поднялись со своих мест, и их с любопытством устремлённые на молодого барона глаза оживлённо заблестели, а губы сложились в нежную, томную, гордую или вызывающую улыбку, смотря по тому, какое выражение они считали действеннее, чтобы разжечь запас огня, скрывающийся в мужском сердце.
– Господа, – обратился к присутствующим Евреинов на французском языке, который должны были понимать все актёры, так как иногда, вместе с русскими пьесами, ими при дворе разыгрывались комедии Мольера, драмы Корнеля и Расина на языке их авторов. – Позвольте представить вам молодого кавалера, барона фон Бломштедта, который предпринял путешествие, чтобы поучиться и развлечься; я убеждён, что он нигде не может достигнуть лучше той и другой цели, как в вашем обществе; проводя время с вами, он увидит, что здесь, в нашей русской столице, и под снегом и льдом цветёт весёлая, радостная жизнь. Я поручаю барона вашему благосклонному участию, в особенности вниманию тех прекрасных дам, рыцарскому служению которым он готов себя посвятить.
Всё общество встало, чтобы приветствовать таким образом рекомендованного гостя. Мужчины и пожилые актрисы поклонились ему в духе исполняемых ими ролей, а молодые приветствовали его отчасти с дружеской сердечностью, отчасти с кокетливой сдержанностью, смотря по тому, в каком жанре они чувствовали себя сильнее. Бломштедт ответил немного чопорным и неловким поклоном, который тем не менее указывал на его принадлежность к лучшему обществу, настроив в его пользу молодых дам и возбудив в них сильное желание сделаться руководительницами этого молодого, красивого, богатого и жизнерадостного человека при его первых опытах в области любви и ухаживаний.
Одна из актрис, сидевшая в тёмном углу на диване, быстро встала и подошла к барону. Она была стройна, но в то же время имела пышную фигуру и, в отличие от других, одетых по французской моде, носила русский национальный костюм, который особенно шёл к её красивой, грациозной фигуре. Короткая юбка из тёмно-синего шёлка обнаруживала её ноги, обутые в хорошенькие полусапожки из красной кожи; обшитый мехом шушун[2]2
Шушун – старинная русская крестьянская женская одежда в виде распашной кофты, короткополой шубки, а также сарафана с воротом и висячими позади рукавами.
[Закрыть] придерживался у талии серебряным кушаком; широкие рукава раскрывались на локтях, оставляя обнажёнными прекрасные руки, нежная белизна которых соперничала с белым шёлком подкладки. Браслеты с драгоценными камнями украшали кисти рук, нежная кружевная ткань обхватывала стройную шею и колебалась, как воздушное облако, над высокой грудью. Лицо, не будучи классически прекрасным, было полно неописуемой, таинственной прелести; немного низкий лоб был обрамлён естественными, ненапудренными, каштанового цвета локонами, и хотя эта причёска не подходила к русскому костюму, но очень шла к лицу, придавая всей фигуре какое-то фантастическое очарование. Немного бледный цвет лица, казалось, оживлялся внутренним огнём, что скорее чувствовалось, чем было видимо для глаза. Большой рот с полными тёмно-красными губами и красивыми блестящими зубами указывал на горячий темперамент; эти губы словно были созданы лишь для того, чтобы целовать и собирать благоухающую пену с полного кубка жизненных наслаждений. Но удивительнее всего были под слегка сдвинутыми бровями чудесные глаза, которые, казалось, имели способность отражать в себе всякое чувство, всякую мысль; то они широко раскрывались, то снова суживались, то вспыхивали ярким пламенем, то принимали мечтательное выражение, то насмешливо, то с горячим чувством проникали в глубину человеческого сердца.
Эта дама была первая солистка императорского балета, и даже когда она не была на сцене, по каждому её грациозному движению можно было видеть, что она являлась представительницей искусства живой пластики и мимики.
– Вы – немец? – спросила она, протягивая Бломштедту свою красивую руку. – Меня сердечно радует возможность приветствовать соотечественника, так как и я родилась в этой удивительной Германии, где бесконечно скучаешь, когда находишься в её пределах, и по которой испытываешь тоску, когда находишься далеко от неё, в особенности если суждено жить здесь, в этой ледяной России, как нам определила судьба, и ещё вдобавок целыми неделями только наслаждаться прекрасными обедами и ужинами нашего любезного хозяина, даже не имея случая показать своё искусство на сцене.
Молодой человек после некоторого робкого колебания взял протянутую ему руку, а когда его тонкие, мягкие, как бы от внутреннего огня горячие пальцы в крепком пожатии коснулись руки прекрасной танцовщицы, он почувствовал электрический ток, прошедший по всему его телу до самого сердца; он потупился пред пронизывающим взором артистки и почувствовал, как краска разлилась по его лицу.
– Мадемуазель Мариетта Томазини, – сказал Евреинов, представляя молодую девушку, – первая жемчужина балета её императорского величества.
– Полно! – весело смеясь, воскликнула прекрасная танцовщица, – оставим это имя для афиш, оно звучит так красиво и романтично, и все думают, что только итальянки могут петь и танцевать. Но для вас, мой соотечественник, я называюсь Мария Томас; это – моё славное немецкое имя. Я родом из Гамбурга. В сущности, глупо, что я подчинилась нелепому предубеждению и не доказала этим варварам, что немка может точно так же хорошо танцевать и, – добавила она с плутовским, вызывающим взглядом, – быть такой же прекрасной, как и итальянка. Или, – сказала она с внезапно сверкнувшим взором, – быть может, вы более искренне пожали бы мне руку, если бы я действительно приехала из страны апельсинов, бандитов, воров и огнедышащих вулканов?
Бломштедт ещё не выпустил её руки. Всё горячее становилось прикосновение её трепетных пальцев, и, сам не отдавая себе отчёта, словно повинуясь какому-то магнетическому влиянию, молодой человек прижал свои губы к перламутрово-белой руке, издававшей нежное благоухание, которое одурманивающим образом действовало на все его чувства. Вспыхнувшим торжеством взором танцовщица победоносно обвела всех присутствующих.
– Ну вот, так и всегда бывает! – заметила высокая, красивая блондинка, которая также встала и хотела подойти к молодому человеку. – Эта Томазини всегда тут как тут, всегда лезет вперёд и всё отнимает у нас пред носом!.. Надо же было на несчастье, чтобы судьба как раз привела сюда этого желторотого птенца, с которым она может говорить на непонятном для нас языке! Ну, пусть она его хорошенько оберёт, нам какое дело? Это уж его судьба.
Она отошла в угол и, недовольная, громко зевая, опустилась на диван; другие молодые актрисы также казались мало обрадованными тем, что их юный гость, которым сразу все так заинтересовались, обращал внимание только на первую танцовщицу.
Томазини увидела всё это своими зоркими глазами, и насмешливая, презрительная улыбка заиграла на её губах; всё ещё держа руку молодого человека и доверчиво склоняясь к нему, она повела его мимо своих товарок, к угловому дивану, на котором они и уселись.
Тем временем мужчины обступили хозяина гостиницы и засыпали его вопросами насчёт того, скоро ли можно ждать приказа императрицы вновь начать театральные представления. Но Евреинов лишь пожимал плечами, и недовольные актёры возвратились к своему столу, чтобы докончить оставшиеся напитки и в тихом разговоре выразить своё негодование по поводу настроения государыни, которая вдруг утратила вкус к театральным представлениям и заставляла томиться в бездействии всю труппу, до сих пор пользовавшуюся её особенным благоволением.
– Хотя я всегда радуюсь при виде соотечественника, – сказала Томазини, удобно усаживаясь на диване возле Бломштедта, – в особенности, когда он так юн, так элегантен и умеет так любезно разговаривать, как вы, но теперь я особенно довольна, что счастливая звезда привела вас сюда, так как вы и понятия не имеете о том, в какой ужасной скуке мы живём в последнее время. Прежде нас почти ежедневно приглашали во дворец для представлений, а теперь мы уже целый месяц не выступали; государыня не заставляет нас больше играть и словно лишила нас своей благосклонности, и в этой варварской, рабской стране с нами уже больше никто не смеет быть знакомым. А прежде нам поклонялись, – добавила она со злобно сверкнувшими глазами, – и преследовали нас своими ухаживаниями здешние бояре, покрытые только тонким слоем образования и культуры, думающие покупать благосклонность дам своими бриллиантами, даже не давая себе труда быть любезными. А так как императрица не приглашает нас играть, то никто из этих трусов не дерзает ступить сюда ногой, предоставляя нас обществу наших коллег. Но ведь те – не что иное, как безжизненные деревянные куклы, пока гений поэта не приведёт их в движение в их ролях. В этом отношении я прославляю своё искусство, на которое актёры и актрисы смотрят с пренебрежением. Мои танцы – моё достояние; ни один поэт не должен вливать в меня свой гений, чтобы из моих уст слышать свои мысли; я сама слагаю свой танец и, если мне аплодируют, я не обязана относить половину успеха на чужой счёт. Всё же хорошо, отлично, что вы приехали! Мы будем разговаривать о нашей родине, и при этом я не буду забывать о завоевании успеха у зрителей, не заботясь о неудовольствии своих товарок, которые так низко ставят танцовщицу, но всё-таки должны уступать ей первое место, когда являются люди со вкусом. О, мы не почувствуем своего одиночества, когда будем вдвоём, не правда ли, барон? Мы будем довольствоваться друг другом и сумеем утешить один другого, если остальные не будут обращать на нас внимания.
– О, конечно, мадемуазель, конечно! – сказал Бломштедт. – Я буду счастлив говорить с вами на моём родном языке, и счастлив вдвойне, – добавил он, снова целуя её руку, – что буду слышать родные звуки, произносимые такими красивыми устами, как ваши.
Эти слова могли сойти за простой комплимент и даже, быть может, не свидетельствовать об особом уме и утончённости сказавшего их, но волнение, с которым молодой человек произнёс их, его блестящие глаза и страстное восхищение, звучавшее в его голосе, вполне удовлетворили красавицу танцовщицу; она поблагодарила его с такой обольстительной улыбкой, словно он сказал остроумную любезность. При этом она подвинулась к нему ещё ближе, не переходя, впрочем, границы самой приличной сдержанности. Её рука лежала на его руке, их плечи слегка соприкасались, и когда она взглянула на барона, он почувствовал её жгучий взор и горячее, благоухающее дыхание обдало его щёки. Огненный поток распространился по жилам молодого человека; его кровь начала кипеть, и все чувства восприяли одурманивающее влияние такого прекрасного и оригинально-увлекательного существа, окружившего его почти ошеломляющей атмосферой любви и жизнерадостности.
Но прежде чем они успели продолжить свой разговор, дверь с шумом отворилась и в комнату ворвался человек лет сорока, в чёрном костюме, с бледным, благородным, одухотворённым лицом и тёмными, зачёсанными назад волосами; его глаза блестели от возбуждения. Это был директор императорской труппы Фёдор Григорьевич Волков. Актёры, испуганные его волнением, бросились к нему навстречу; молодые актрисы покинули свои небрежные позы и слегка приподнялись со своих кресел.
– Скорей! Скорей! – воскликнул Волков. – Приготовьте всё! Я только что получил приказ дать сегодня вечером представление во дворце, и вы все должны участвовать. Императрица велела сыграть пред ней «Хорева» Сумарокова… Нам понадобится весь балет… Я жду от вас, что вы приложите все силы, так как мы уже давно не играли этой пьесы, и всё-таки всё должно быть в порядке, так как императрица велела мне непременно передать, что ожидает образцового исполнения и особенно блестящей постановки шествий и национальных танцев.
Ещё недавно скучающее, сонно-равнодушное общество при словах своего директора вдруг напомнило собой потревоженный улей; все повскакали со своих мест, все спешили куда-то, не зная, что предпринять. Только Томазини оставалась в углу на своём диване. Хотя и её глаза заблистали ещё ярче при известии, что в этот же вечер должно состояться представление, в котором она может показать пред двором своё искусство, она, казалось, не могла решиться отпустить от себя молодого человека, которого только что впрягла в свою триумфальную колесницу; она не отнимала от него своей руки и её белое плечо не отстранялось от его плеча, на которое она опиралась.
– Поздравляю вас, – сказал Евреинов, – со счастливым избавлением от вашего бездействия, и радуюсь, – добавил он громким голосом, отыскивая глазами барона Бломштедта, – этому приказу о представлении ещё более потому, что он служит доказательством, что наша всемилостивейшая государыня чувствует себя совсем хорошо. Пойду скорей принести вам подкрепление.
– Не разбегайтесь! – крикнул Волков, когда Евреинов уходил. – Это ничему не поможет… не надо терять ни минуты… Мы должны сделать ещё одну репетицию, прежде чем начнётся представление… Сани стоят пред дверьми, я отправил рассыльных за хором и статистами… гвардейский батальон отдан в наше распоряжение… гардеробмейстер приготовляет всё… Итак, живо вперёд, во дворец!
Барон фон Бломштедт глубоко вздохнул.
– Во дворец! – сказал он вполголоса, обращаясь к своей прекрасной соседке. – Как вы счастливы, что можете ехать туда! Я охотно посмотрел бы на этот двор и на знатных вельмож, но для иностранца доступ туда крайне труден, а потом, – добавил он глухим голосом, причём его пальцы крепко обвились вокруг маленькой, хорошенькой ручки, словно он не хотел выпустить её, – вы все будете заняты и не придёте сюда, где мы могли бы так хорошо беседовать друг с другом.
Мариетта задумчиво, с задорной улыбкой на губах, некоторое время смотрела на него, а затем быстро встала, схватила молодого человека за руку и подвела его к Волкову, нетерпеливо разговаривавшему с некоторыми из актёров и пытавшемуся устранить недовольство последних, обычное почти всюду при неожиданных спектаклях, которое не мог подавить даже приказ самой государыни.
– Уважаемый маэстро, – сказала Мариетта по-французски, я буду танцевать сегодня вечером, отлично танцевать; обещаю вам, что все будут довольны… что я говорю – «довольны»! Все будут в восторге от моих танцев; но при одном условии…
– Условия? Для государыни императрицы? – пожимая плечами, спросил Волков, видимо недовольный.
– Государыня императрица – женщина, – возразила Томазини, – и знает, что значит желание женщины; кроме того, я ставлю это условие только вам, и его легко исполнить. Вот этот господин – барон фон Бломштедт, мой соотечественник и друг, – прибавила она со взглядом, заставившим сердце барона забиться сильнее. – Он желает посмотреть двор и высшую знать, которой он ещё не представлен, и я хочу доставить ему это удовольствие.
Бломштедт глядел удивлённым взором на танцовщицу, говорившую в таком лёгком тоне о вещи, которую Евреинов представил ему такой труднодостижимой.
– Мы возьмём его с собой, – продолжала Мариетта, – с нами вместе его беспрепятственно и не допрашивая впустят в Зимний дворец; там он оденется в костюм старого русского мужика, займёт место в одной из сцен, где не требуется особого танцевального искусства, и таким образом увидит со сцены сановников и весь двор, гораздо лучше и яснее, чем в набитых битком залах во время большого раута. А я, – тихо прибавила она, перегибаясь к Бломштедту, – буду иметь удовольствие насладиться подольше обществом моего друга и назвать ему всех высоких придворных сановников и дам.
Барон, весь дрожа от радости, смотрел на Волкова, который, ответив на его поклон, стоял в нерешимости.
– Это – дурачество, – произнёс он, – если государыня императрица узнает это, она может разгневаться.
– Ба! – воскликнула Томазини. – Разве она знает в лицо всех статистов и хористов? А если бы она и узнала, то что худого она найдёт тут?
– В самом деле, – согласился Волков, – вряд ли возможно, чтобы она открыла это, а кроме того, по существу же ведь это, выходит, – совсем невинная шутка.
– Прежде всего это – моё желание, – воскликнула Томазини, – так как я хочу провести сегодняшний вечер в обществе своего соотечественника; если это мне не удастся, я – ни ногой из дома.
– У вас хватит на это упрямства, – заметил Волков, – но так как условие не ахти какое, то да будет так, как вы хотите. Поезжайте с нами, государь мой; я зачислю вас в выход, во время которого вам не придётся ровно ничего делать, кроме расхаживания вместе с прочими по сцене; но я попрошу вас на всякий случай держаться подальше от рампы и прятаться за других. Ну а теперь вперёд, вперёд! Садиться в сани!
Все направились к дверям, но тут показался Евреинов с корзинкой шампанского; сопровождавший его лакей хлопнул пробкой, и все наполнили бокалы.
– За здоровье нашей всемилостивейшей государыни императрицы! – крикнул хозяин.
Каждый из присутствовавших поспешно чокался с ним и бросался к двери, чтобы садиться в стоящие уже наготове сани.
Когда Бломштедт, сияя, подошёл к Евреинову, держа под руку танцовщицу, хозяин в ужасе воскликнул:
– Как – и вы едете, государь мой?
– Да, – подтвердил Бломштедт, – я еду; я увижу двор скорее, чем думал; я буду участвовать в спектакле статистом! – и, не дожидаясь ответа, он повёл прильнувшую к нему Мариетту к выходу.
– Мне не удержать его, – произнёс Евреинов, задумчиво смотря вслед молодому человеку, – это – сумасшествие. Мне было бы жаль, если бы это привело к катастрофе!.. Но больше нечего делать, я не могу выказывать столько участия к нему под столькими взглядами.
Он приказал лакеям убрать со стола в сразу опустевшем зале и вернулся в общий зал, чтобы поглядеть за тем, как служат его гостям.
III
Труппа актёров, пришедшая вследствие приказа государыни снова в своё обычное радужное настроение, подъехала, сани за санями, к одному из боковых подъездов Зимнего дворца; эта пёстрая, весело болтающая компания производила удивительное впечатление при проходе через тихие, пустынные коридоры мимо молчаливых часовых, по направлению к отведённым для спектакля залам.
Молодой барон фон Бломштедт был во власти удивительного, охватившего всё его существо возбуждения; уже его остановка в Берлине заставила разом отступить в сумерки прошлого всю его тихую пору юношества и родные картины дюн; даже воспоминания о его детских играх, которые до сих нор всецело наполняли его сердце, подёрнулись теперь лёгкой дымкой забвения; настолько возбуждали в нём жажду жизни заманчиво улыбающиеся губы и пламенные взгляды красивой танцовщицы; голос молодой, горячей крови заглушил все чувства, господствовавшие до сих пор над его душой, и заставил побледнеть пред данной минутой и прошлое, и будущее.
Бломштедт помог Мариетте выйти из саней, причём она так крепко опёрлась на его руку, что он слышал биение её сердца почти у самого своего сердца; затем он повёл её – она снова прильнула к нему вплотную – по коридору к театральным залам; все часовые беспрепятственно пропускали его, не сомневаясь в том, что он принадлежит к числу приглашённых государыней актёров. В зале, который находился сейчас позади сцены и из которого можно было пройти в уборную артистов, Мариетта выпустила руку своего кавалера и сказала:
– Теперь, мой друг, мы должны на некоторое время расстаться; мне следует позаботиться о своём костюме, причём я не смогу уже воспользоваться вашими рыцарскими услугами, – весело прибавила она, – да и вы должны переодеться для роли; это вы можете сделать вон там, в мужской уборной.
Быстро пожав ему ещё раз руку, она поспешно бросилась в боковую дверь дамской уборной.
– Живо, живо, барон! – сказал Волков. – Идите сюда, я дам вам костюм русского крестьянина; вы наденете привязанную бороду; под ней вы сами себя не узнаете, если посмотритесь в зеркало.
Он повёл барона Бломштедта в зал рядом, заставленный шкафами, в которых большинство артистов уже выбрали по костюму, чтобы нарядиться для спектакля пред развешанными на стенах зеркалами, а затем выполнить трудную работу гримировки пред многочисленными расставленными по залу туалетными столами. Молодой человек облёкся по указаниям Волкова в русский костюм, состоявший из вишнёвого шёлкового жилета, широких чёрных, до колен, брюк и блестящих сапог; на голову он надел четырёхугольную, окаймлённую мехом шапку и приладил себе искусно сделанную чёрную бороду, скрывшую половину его лица и сделавшую его положительно неузнаваемым; его лицо много выиграло от этого грима, так как борода придавала мягким юношеским очертаниям выражение мужественной твёрдости.
Когда туалет Бломштедта был кончен, Волков, перебегавший от стола к столу, давая советы и то тут, то там кладя чёрные штрихи грима, чтобы добиться большего соответствия между выражением лица актёра и его ролью, повёл его на сцену. За кулисами уже собрались статисты и хористы. Волков поставил Бломштедта в ряд крестьян и приказал ему копировать передового во всех жестах и движениях. Молодой человек стоял на своём месте, дрожа от беспокойства, сгорая от любопытства увидать дальнейшее развитие действия, но ещё нетерпеливее ожидая появления прелестной немецкой танцовщицы с итальянским именем. Понемногу на сцену вышли некоторые из драматических артистов, покончившие с туалетом и гримом.
Волков прильнул глазом к маленькой, проверченной в занавесе дырочке и откинулся назад удивлённый; дело было в том, что он не увидал в зале ни души, между тем как час, назначенный началом представления, уже наступил, а придворные обыкновенно занимали места в партере и ложах по рангу задолго до представления. Точно так же и царская ложа, помещавшаяся прямо против сцены, была совершенно пуста; лишь сзади, в проходе, были видны двое солдат лейб-кампанской роты её императорского величества, в которой все рядовые имели чин капитана; они стояли неподвижно в своих богато вышитых золотом мундирах, в шляпах с пером и с саблями наголо в правой руке. Проход, в котором они стояли, соединялся особой галереей с собственными покоями государыни.
Волков испуганно откинулся назад.
– Это что такое? – воскликнул он. – Весь театр пуст? Неужели наши надежды возобновить свою деятельность окажутся напрасны? Неужели государыня императрица отдала в последний момент новый приказ, уничтожающий первый?
Оказавшиеся на сцене артисты поспешили к другим дыркам в занавесе; со всех сторон послышались возгласы недовольства и разочарования.
В самом деле, похоже было, что спектакль не состоится. Государыня являлась обыкновенно ровно в назначенное время, и никто не смел появляться в зрительном зале после неё. До срока оставалось ещё десять минут, а в такое короткое время двор не мог бы собраться. Но почему же актёрам не послали отмены приказа? Не забыла ли государыня столь хвалимую ею всегда и осыпанную её милостями труппу?
Лицо Волкова омрачилось, он снова подошёл к занавесу; но ни одна дверь ни в ложах, ни в партере не была открыта. Когда он готов был с болью в сердце отступить от рампы, чтобы возвестить прочим печальную новость, в царской ложе появились двое императорских камергеров, ставших по обе стороны кресла её императорского величества; это происходило обыкновенно незадолго до появления в ложе императрицы. Следовательно, государыня должна была скоро прибыть; по всей вероятности, она не переменила намерения – в противном случае камергеры знали бы об этом. Но что значила эта пустота в театре? Мыслимо ли, чтобы государыня, так любившая всегда роскошь и блеск высшего общества, пожелала совершенно одна смотреть на национальную пьесу, которую она уже много раз видела и которой уже не ставили в последнее время на репертуар вследствие заигранности? Но нельзя было всё-таки терять время; императрица могла появиться каждую минуту и дать знак поднимать занавес.
Волков бросился в дамскую уборную и, шутя и грозя в одно и то же время, начал усиленно просить дамский персонал кончать поживее с туалетом.
Первая сцена представляла собой придворное празднество в Киеве. Волков вывел на сцену колонну крестьян, среди которых находился и фон Бломштедт. Появились наконец и участвовавшие в первой сцене артистки; скоро всё было готово для поднятия занавеса. Волков, пробегая по уборным, заклинал прочих поспешить, чтобы они могли выйти на сцену по первому его слову без промедления. Среди этих хлопот он то и дело подбегал к дырочке занавеса и кидал удивлённые взгляды на всё ещё пустой зал.
Но вот обе половинки дверей императорской ложи широко распахнулись, и на её пороге показалась стройная фигура обер-камергера графа Ивана Ивановича Шувалова, одетого в блестящий придворный мундир с голубой андреевской лентой через плечо и с жезлом, увенчанным короной, в руке.
Граф вошёл в ложу, повернулся ко входу и ударил жезлом об пол. Оба часовых лейб-кампанца опустили сабли книзу, камергеры отступили в сторону от кресла; ещё секунда – и в ярко освещённой ложе появилась Елизавета Петровна.
Она была одета в национальный древнерусский костюм из тёмно-красного шёлка; кроме того, на ней был подбитый и опушённый горностаем шушун из золотой парчи. На её груди лежала широкая голубая андреевская лента, а шею обнимала тёмно-красная лента ордена Св. Екатерины и Св. Андрея. Голову императрицы покрывал высокий кокошник, усыпанный сплошь драгоценными камнями и оканчивавшийся наверху небольшой императорской короной. Осанка императрицы была усталая, несмотря на все её усилия побороть слабость; её лицо было сильно нарумянено и набелено, но благодаря этому тем яснее выступали утомлённость её черт и худоба провалившихся щёк; глаза глубоко запали под сильно подведёнными бровями, но даже грим не вполне скрывал глубокие тёмные круги под ними. Она опиралась рукой на плечо семилетнего великого князя Павла Петровича, сына её племянника и наследника престола.
Этот августейший ребёнок, со своим нежным, слегка бледным лицом, хрупкой фигурой, вдумчиво-озирающимися глазами, был точным портретом своей царственной тётки. Молодой князь был тоже одет в окаймлённый горностаем русский костюм из тёмно-синего шёлка; четырёхугольная горностаевая шапка покрывала его белокурые локоны; вместо пуговиц на жилете сверкали огромные бриллианты; на груди красовались голубая лента и бриллиантовая звезда ордена Св. Андрея Первозванного.
Позади государыни виднелась высокая, серьёзная фигура графа Алексея Григорьевича Разумовского в роскошном фельдмаршальском мундире. Больше в свите государыни не было никого; не было даже дежурных статс-дам, которые обыкновенно должны были быть наготове повиноваться мановению бровей её величества.
Елизавета Петровна медленной, чуть колеблющейся походкой подошла к барьеру ложи; камергеры подвинули кресло; она опустилась на него. Великий князь занял место рядом на высоком табурете, а графы Шувалов и Разумовский остались стоять позади государыни. Двери ложи заперли, и Елизавета Петровна мановением руки дала знак к началу спектакля.
Занавес взлетел кверху, между тем как актёры с изумлением поглядывали на совершенно пустой зал, представлявший резкий контраст с наполненной людьми сценой.
Государыня облокотилась на спинку кресла; её глаза наполовину закрылись – она была занята, казалось, более своими мыслями, чем зрелищем. Юный великий князь, воспитываемый в тиши и удалении от двора, присутствовал впервые при спектакле и, склонившись вперёд, сверкающими глазами смотрел на сцену, производившую на него впечатление настоящего откровения.
Больше всех был изумлён Бломштедт при виде этого блестящего, ярко освещённого зала, в котором было так мало народа и который казался потому ещё печальнее и пустыннее. Он рассчитывал увидеть во время этого приключения, доставленного ему случаем, весь русский двор, о роскоши и блеске которого говорила вся Европа, а теперь видел лишь надломленную, похожую в своём сверкающем бриллиантами костюме на привидение императрицу да этого августейшего ребёнка, который ни разу ещё не появлялся в публике и о существовании которого вряд ли кто думал. Великий князь, герцог Голштинский, который был объектом поездки барона в Петербург и проникнуть к которому было целью этой поездки, отсутствовал. Бломштедт ровно ничего не понимал. Это первое появление его в кругу русской придворной жизни настолько противоречило всем его ожиданиям, что он положительно не мог привести в порядок свои мысли и найти какое-нибудь объяснение этому столь необычайному происшествию.
Актёры скоро справились с первым изумлением; они уже привыкли ничему не удивляться при русском дворе и быть свидетелями самых невероятных вещей. Они приложили все старания провести свои роли безупречно, так как императрица и одна стоила всех прочих слушателей; гром аплодисментов всего зрительного зала не был им настолько дорог, как лёгкое наклонение головы или мимолётная улыбка могущественной повелительницы.
Волков неутомимо метался туда и сюда за кулисами, приказывая, ободряя, указывая, тут устраивая в ряд хористов, там поправляя какой-нибудь бантик в костюме актёра или приказывая какой-нибудь капризной актрисе быть готовой выходить на сцену по первому же зову.
Бломштедт не отрываясь смотрел на царскую ложу и отдавал почти всё своё внимание чудной картине старой надломленной женщины, сверкающей блеском царственного одеяния, и ребёнка, точно выхваченного из какой-нибудь сказки седой старины. Вдруг он заметил, что статисты, в рядах которых он стоял, сделали движение в сторону, чтобы открыть заднюю кулису сцены. Он быстро, согласно распоряжениям Волкова, последовал за движением своего передового; глубина сцены, представлявшая собой пещеру, теперь открылась зрителям, и по ней заскользила теперь Мариетта Томазини в сопровождении четырёх других молодых балерин. Она представляла собой русскую крестьянку и была одета в национальный костюм, впрочем слегка и очень удачно ею самой изменённый: лёгкое каштанового цвета покрывало из тончайшей шёлковой материи облегало её стройное, затянутое в трико телесного цвета тело и ниспадало красивыми складками до колен; красные шёлковые туфли закрывали её ноги до щиколоток; сильный вырез на кафтане был затянут до самого горла лёгким изящным кружевом; короткие, доходящие до локтя рукава были схвачены у плеч лентами; волосы были завиты в локоны и выбивались в кажущемся беспорядке из-под маленькой красной меховой шапочки.








