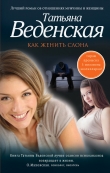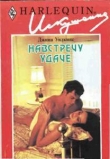Текст книги "Мать едет женить сына"
Автор книги: Грант Матевосян
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
– Ахчи, это как же ты дотащишь всё?
– Что, пожалуйста?
– Говорю, как столько повезёшь?
– Я каменная.
Симон оседлал возле дверей хлева лошадь, потом привёл, привязал её к балке:
– Будем грузить?
– Ежели сон тебя не сморил ещё.
– Здорово тяжёлая поклажа. Адам!..
– Нет!
– Что нет?
– Не зови, вдвоём управимся.
– Э, Симон, чего тебе?
– Что, телегу делаешь?
– Да потихоньку.
– Иди сюда.
В дверях младшего сына возликовала старуха.
– Вот так. Помогайте друг другу, друг друга защищайте, совета один у другого спрашивайте, так и живите, – пробормотала старуха.
– Агуник. – Симон вошёл в большую комнату. Агун одевалась. – В этой юбке поедешь?
– Да, Симон.
– А не тесная она тебе?
– Ты своё дело знай делай. Одну лошадь надо оседлать – ты брата позови, и младшего вызови, и Мурадов кликни, может, удастся всем селом оседлать лошадь.
– Всё говоришь, говоришь, не даёшь человеку рта раскрыть.
– Для того чтобы выслушать твоего брата Адама, целый год нужен да клещи побольше. Чего тебе?
– Говорю, напишем письмо, пускай сам за своим грузом приедет.
– Молодец!
– Или же давай я поеду, тебе одной не справиться.
– Поедешь, месяц там просидишь. Потом спроси у тебя – какая, мол, невестка из себя. Да так, скажешь, девушка как девушка. Что Армен делает? Что-то делает. На брюки, на рубашки должен был купить, где всё это? Да купим, успеется. Что ж, Симон, поезжай, если хочешь.
– Да ведь больная вернёшься, знаю.
– Моя болезнь на минуту, это вы стонете и кряхтите годами.
– Вот они, держи. Куда прятать будешь?
– Сколько здесь?
Симон стал считать, медленно, то и дело сбиваясь и снова начиная счёт.
– Брат твой идёт, кончай, – прошипела она.
– Семьсот.
– Семь тысяч?
– Да. Куда будешь прятать?
– Тебя не касается, – прошипела она.
Во время войны они поехали в Тифлис проведать ребят – Арус была, Красная Сато, она сама, егоровская Сируш. Возле Манаца свет в поезде погас, и женский голос вскрикнул и запричитал: «Унесли, унесли, детей моих голодными оставили, душегубы!» Кто-то отпрянул к стене, и тут словно кто шепнул Агун, что это её брат Валод. Агун зажгла спичку, поднесла к его лицу и сказала: «Валод?» – «Агуник? – сказал он и задул спичку. – Ты что тут делаешь?» – «А ты что делаешь, что это ты тащишь, ну-ка? – Агун подалась вперёд и протянула руку к мешку: – Сейчас тебя милиции отдам, хулиган несчастный… – В темноте ещё какие-то руки тянули к себе мешок, и рук этих было много. – Ишхану скажу, Валод, бессовестный… жалко ведь женщину», – попросила Агун. Валод засмеялся: «Братцы, сестра моя это… Агуник! Не сходишь в Манаце? Ишхан для тебя мыла купил», – и, прежде чем поезд остановился, то ли спрыгнули они, то ли перешли в другой вагон, а та женщина уж так благодарила Агун, так благодарила…
– Две пятёрки, одна трёшка и рублёвка – сколько будет?
– Десять, четырнадцать.
– Отдали деньги на билет. Сколько тут – трёшка и рубль – четыре? Билет разве четыре рубля стоит?
– Сдачу тебе вернут. Но вещей много, боюсь, что и за вещи возьмут.
– Контроль в поезде очень строгий?
– Да откуда же мне знать, Агун, – рассердился Симон. – Я где – станция где, откуда мне знать, строгий там контроль или нет.
– Ну ладно, ладно, не усложняй всё, – шёпотом сказала она. – Значит, это деньги на билет. Хорошенькое время выбрал, чтобы брата звать. Посмотри в карманах, нет ли мелочи.
– Да откуда?
– Кто тебя знает, торговый всё-таки человек. Пойди брату навстречу, ребёнка пришли ко мне. Серо!..
Симон снова запротестовал:
– Ахчи, или дай я свезу, или пускай сам едет за своим имуществом, взрослый человек, тридцатилетний.
– Да ведь работа у него какая, умственная, неужто объяснять тебе ещё надо, Симон.
Серо на свои копейки купил, оказывается, авторучку, потом потерял её. «Ничего, ты за домом смотри как следует, а я тебе из города хорошую ручку привезу, от брата твоего подарок». А эта проклятая пуговица у горла прямо-таки душила её – тысячу раз просила дочку ворот пошире сделать. И шерстяной жакет под мышкой жмёт, тесноват, а может, рукава кофты задрались – потому? И как это горожане умеют так одеваться, что вроде бы вся одежда и прилегает к телу, и нигде им не мешает. Удивительно, вроде бы и тесно, и свободно. Значит, очень правильно одеваются. А может быть, ворот душит, потому что зоб раздулся? Когда в Ереване у её сына и невестки будет свой дом, как-нибудь зимой она приедет к ним дней на двадцать, ляжет в больницу, невестка будет носить ей обед, а она будет там вязать шаль и беседовать с соседками по палате. Ну ладно, что это – водка? Водка и полкурицы. Кизиловая водка. Контролёры и проводник в поезде не разберут, грушевая или кизиловая, так что кизиловая, вот так и разрешим вопрос с вещами. А с обувью как быть? Без приличной обуви нога не нога. Но и без асфальта обувь не обувь. Так и не приучилась она носить городскую обувь. Ничего, как-нибудь и с этим справимся. Когда это было – в селе задались вопросом, кто в данный момент в Цмакуте самый красивый, и решили, что среди всех невест и невесток самая красивая симоновская Агун и ещё Елена, дочка Левона, но потом рассудили, что если учесть, что Агун мать двух детей и жила в хлеву и её свекровь – Арус, а Левонова дочка Елена ещё в девках сидит, то выходит, что самая красивая Агун, а будет ли красивой левоновская Елена – это видно станет после того, как она выйдет замуж за никудышного человека.
Она вытерла сажу с носа и вспомнила село Ванкер, вспомнила родник в монастырском дворе, тропинку между садами, вечер и себя с вёдрами. Брат Арзуманяна катался на велосипеде, а возле их дверей стояли двое – русый Нерсес и чёрный Симон. Во время войны брат Арзуманяна был секретарём райкома, он приехал на машине в Цмакут, засел вместе с Коротышкой Арташем в конторе и стал по одной вызывать женщин села – бойких на язык увещевал, смирных и работящих хвалил и уговаривал ещё лучше работать. Арташ сказал Шогер: «Агун пускай не заходит». Но Агун дала Шогер подержать дочку и вошла в контору, и тогда Коротышка Арташ сказал: «Эта у нас кусачая, с ней поосторожнее надо, товарищ Арзуманян». А брат Арзуманяна посмотрел на женщину и вдруг вскочил с места: «Вай, Агуник-джан, это ты?!» – и Арташу стало очень стыдно.
– Я готова.
– Сажу с лица в Ереване смоешь? – Симон с Адамом грузили поклажу.
Она зашла в дом, стёрла с лица сажу и вынесла из дома такой ответ:
– Если бы я, как вы, черноликая была, и сажу б не разглядеть было.
Когда Симон поднимал груз, шапка его слетела и обнажилась большая неровная голова. Лоб у Симона покраснел, и весь он согнулся в три погибели. А Адам свой груз нёс легко и спокойно. Симон ударился о перила, опустился на колени и застонал. Груз они, конечно, разделили неровно – Симон под тяжестью задыхался, а Адам брал что полегче. Вот так они всегда – пока семь раз не перевьючат лошадь, дело на лад не пойдёт. Как-то Адам поехал в Касах – за пшеницей, – так лошадь вернулась, наполовину навьюченная камнями: Адам для равновесия подкладывал с одной, лёгкой, стороны каменья.
«Не давай себе воли, успокойся, успокойся, – пробормотала Агун. – Они сами разберутся, что к чему, не окончательные же дураки, в самом деле».
Адам обошёл лошадь, пристроил свою часть поклажи к седлу и подождал, пока Симон тоже пристроит свою часть, а Симон мучился, не мог удержать на весу хурджин.
– Ну? – подождал Адам.
Симон поднатужился и приладил наконец хурджин. И виновато улыбнулся.
– Ты чем же это хурджины набила, Агуник?
– Да так, на выброс всё, доедем до Гамера – выкинем.
Подпихивая, подтягивая, подпирая груз, а то и повисая на нём, они кое-как укрепили его всё-таки, и Симон пошёл сесть на пенёк, отдохнуть. Он несколько раз примеривался, чтобы сесть, но пенёк как бы уходил из-под него: Адам ощупал груз с двух сторон, оглядел его сзади и сказал:
– Хорошо приладили, брат, на славу. А правда, чего это ты столько нагрузила, ахчи?
– По-вашему, эта лошадь правильно навьючена? – спокойно спросила Агун.
Адам встал, принёс узел с бельём, приладив его, сказал:
– Наше мнение… здесь… нуль… – Потом закинул сверху верёвку и подтянул её снизу. – А вот что думают по этому поводу в Ванкере? – И затянул верёвку потуже.
– В Ванкере думают, что эта лошадь не дойдёт до Гамера.
– Камней подложишь, – сказал Адам.
– Вот-вот, совсем как мой деверь делает.
Они препирались так, а Симон как-то потухше, безжизненно смотрел на всё это со своего пенька. Серо поднял шапку, надел её отцу на голову. Симон безучастно поправил шапку и стал очень похож на Асоренца Мацака, потому что ширинка у него была расстёгнута и козырёк наползал на ухо.
– Ахчи, – сказал Симон, – ещё раз говорю тебе, ты с этим грузом не справишься.
– Серо, выводи лошадь со двора. Всё! А вы смотрите на свою работёнку и любуйтесь, смотрите и удивляйтесь.
Ну всё вроде. Вечером они поужинают остатками курицы и хлеба с сыром поедят. Завтра прикончат остатки сегодняшнего супа. Завтра утром курицы снесут яйца, съедят по две штуки каждый. На послезавтра обед им сварит невестка Адама Назик, а послепослезавтра она сама уже будет дома и сама займётся делами своего дома. Всё! Двери затворены, собака на привязи, приёмник выключен, надо будет Ерджо поднести стакан кизиловой водки, пускай сделает счётчик как в городе, такой, чтобы не крутился. Серо был уже возле каменной гряды – груз сидел на лошади ладно и не сбивался. Симон вышел за ограду и пошёл по узенькой тропке над оврагом. Но шагал он так, словно вот-вот должен был поскользнуться, словно что-то затягивало его в овраг. Адам снова уже торчал возле вечной своей телеги.
– Так что же ты для меня должна была привезти, значит?
– Самую тёплую на свете шапку.
– Молодец, – засмеялся Адам.
– Пошла уже? Благополучия и удачи твоей дороге! – сказала старуха.
– А тебе здоровья (чтоб смотреть, вытаращив глаза, кто куда едет, да с кем идёт, да что несёт)…
Они прошли дом Фило, прошли дом Мушега и поравнялись с домом Соны. Шлюха Сона сошла с ума и умерла в кироваканской больнице. А сыновья её сколько лет уже живут в Грозном. Сыновья хорошо живут, но Сона и в глаза не увидела этого Грозного. «Тебя моё проклятье в могилу унесло, потому что я была правая, а ты как собака виноватая».
За изгородью, петляющей вместе с тропинкой, за двумя вишнями и зарослями земляных яблок был дом атоевского Степана и каменоломня. Сын Степана Арести так и прожил всю жизнь в конуре. А ведь каменоломня считай что ихняя, и весь камень ихний.
Дальше был дом директора Рубена. Дом у Рубена двухэтажный, крепкий, перила выкрашены в голубой цвет, но Рубен в страхе и ужасе ждёт арменовского фельетона, поскольку свидетельства о высшем образовании у него нет; время от времени он даёт Симону починить скамью-парту какую-нибудь или же теннисный стол заказывает и деньги на это выписывает.
Кочаровский Грант в Кировакане машину купил, он знает её брата Валода, и брат Валод знает его, и они друг другу нравятся, и, когда этот кочаровский Грант приезжает в село, он у Агун и Симона особым образом, с особым уважением справляется о здоровье, о житье-бытье. Благодаря Армену и Валоду.
Дядюшка Амбо, было время, с большим пылом принялся за постройку дома, но весь его пыл и весь размах прибрала к рукам её тётка Манишак. Дом должен был быть таким – внизу большой подвальный этаж, над ним три комнаты, и крыша особая, застеклённая – для лета. Амбо кое-как обмазал одну комнату, вошёл в неё и сидит в ней аж с самого двадцать восьмого года, а дом так и остался стоять недостроенный, с разинутой, как у хозяина, пастью.
– Ребёнка собралась проведать? – со слезящимися треугольничками глаз спросил дядюшка Амбо.
– Да, дядюшка. А ты когда в город переберёшься? Ребят своих отправил, один тут сидишь, не скучно разве?
– Да что же мне в этом городе-то делать? Служащие там на работу ходят, это мы понимаем, а старикам что делать? Овец нет, свиней нет, лошадей нет – чем заняться?
– Старики там в сторожа идут.
– Уж лучше я свои палаты сторожить буду.
– Не знаю, дядюшка, не знаю, – сказала Агун, – наша доля, видно, такая, чтоб сидеть тут одним. Детей в город отправлять, самим тут сидеть.
– Счастливой тебе дороги. Ребёнку скажи, пусть выше держит честь нашего рода.
«Уж кто бы говорил».
Из-за дверей Смбата выглянула и тут же в дом юркнула его благоверная. Гоар в год по ковру делает. Однажды зимой Агун хотела пойти к ней, чтоб и помогать, и учиться, но Гоар сказала: «Я с тупицами не люблю возиться». Агун презрела её и громко заговорила со старухой из Джаджура:
– Один большой ковёр на стену, один – на тахту, не считая карпета, две постели – больше не могла. Кто больше моего сделает, пускай гордится. Холодильник. Мебель для комнаты.
Из кладбищенского оврага навстречу ей поднимался Симон-маленький. Работящий человек, ничего не скажешь, но цену себе и своему здоровью знает. Во время косьбы и пахоты палку в руки берёт – нога болит. Как мастер он Симону в подмётки не годится, но денежные заказы всегда ему достаются. Он быстро, как волк, за одну неделю всё проворачивает и снова берёт палку в руки – нога заболела. Симону это на нервы действует. Но Агун знает, что так оно и должно быть, поскольку нельзя передавать ремесло другому, да ещё в таком маленьком, с горсточку, селе, а уж раз передал, то и нечего расстраиваться из-за последствий. Однажды, когда Агун всё это высказала Симону, пришлось ей отведать очередную трёпку.
– В Ереван собралась?
– Да вот.
– Счастливо.
– И вам того же.
– Мы что – живём помаленьку.
Помаленьку… А у самого шея толстая да красная, и в доме его побоищ не бывает, хотя как раз в его доме и должны бы они быть, поскольку это его жена, а не кто-нибудь ещё спуталась во время войны с Коротышкой Арташем.
Дом тётки Манишак кажется ей сейчас родным и жалким, потому что Нерсес с войны не вернулся, а его дети хоть и выросли трудолюбивые, но не заимствовали у отца его смекалку и умение захватывать жирные должности. Хорошо бы, Арменак им помог, определить бы их куда-нибудь, кладовщиком или счетоводом.
Мелкуменц Иван рожает подряд девочек и раздаёт их, весёлых и красивых, в Цмакут, Овит, Кировакан. Была бы Седа немножечко образованней, прямо сейчас взяла бы её Агун за руку и отвезла в Ереван невесткой – и добрая девушка, и односельчанка, и городской красотой не обделена. Такая б не дала Армену забыть Цмакут и собственную мать. Да и девушку жалко. Светлая, как ясный день, бог знает какому Симону достанется она в этих самых Овитах и Кироваканах.
– Доченька?
Седа просеивала зерно. Она взглянула на Агун сквозь завесу мучной пыли и зерна, золотокосая и улыбающаяся, и запала той в сердце. Так и запомнилась она Агун – с полными крепкими руками, по колено в пшенице и чистый-чистый взгляд.
– Кто его знает, – пробормотала Агун.
Седа подняла сито к солнцу и наполнила душу Агун сомнениями и грустью.
– Тебе хорошего мужа желаю, – сказала Агун.
Когда это было – Шогер стояла вот так под солнцем и просеивала зерно, ястреб кружил между лазурью и облаками, и вдруг Шогер отставила в сторону сито, пришла и как толкнёт старуху, старуха так и повалилась на землю.
– Тебя достойный не в Цмакуте живёт и не в Овите, ты на Ереван целься, – сказала Агун.
Девушка слабо улыбнулась, и плечи её дрогнули, и Агун, задыхаясь, подумала, что красивым счастье не достаётся, что настоящая большая любовь всякому дерьму достаётся. Брат Арзуманяна бог знает кого привёл себе в жены, и Арменака заграбастала в Ереване какая-то крашеная чернявка.
– Или же иди в университет, Армен тебе поможет поступить, я скажу ему.
Синие глаза девушки наполнили сердце Агун теплом и тревогой.
– Эй, ахчи! – позвали Агун. – Эй, ахчи, опаздываешь! – крикнул Симон.
– Тебе мужа хорошего желаю, доченька, – и, оглянувшись в последний раз, Агун увидела её босые ноги по самое колено в пшенице и ситцевый подол, подхваченный ветром.
И Агун подумала, что в университетах не уму-разуму учат, а свидетельства дают, поскольку уму-разуму всё равно научить нельзя, это уже от природы, кому сколько дано, и потому есть ослы со свидетельством о высшем образовании и мудрецы, не имеющие этого свидетельства.
Симон дожидался её во дворе школы, он стоял возле турника, лошадь была привязана на кол, и, рискуя порвать штаны, Серо пытался ухватиться за перекладину турника. Шапка на Симоне была надета криво, большеголовый и чёрный Симон без выражения смотрел на приближающуюся Агун.
– Муж мой сейчас взлетит, завертится на турнике, – зло усмехнулась Агун. – А что, он может. Было время, он у нас и любовницу держал, и шапку правильно надевал.
– Ахчи, быстрей иди, – рассердился Симон.
– Перевернись разочек на турнике! – крикнула Агун. – Что тебе стоит? Ну-ка!
– Ох, чтоб язык твой отсох, надоела, – пробурчал Симон и отошёл от турника, потом, не зная, что делать, зло, враждебно посмотрел на турник и плюнул в сердцах. – Ни стыда у этой женщины, ни совести, кричит, будто в пустом поле.
Но Агун нигде не было видно.
– Куда это твоя мать делась, Серо?
– Не видел.
И вдруг Симон понял, что Агун зашла к Сако – попросить долг. И опять-таки это было стыдно, потому что только вчера Симон намекнул им, что деньги нужны, а у них не было. Что они подумают о Симоне, в каком он виде представится им?
– Да что же это за беда мне на долю выпала… – заметался по сторонам Симон.
Через некоторое время жена Сако Лусик и Агун показались из-за угла и пошли по направлению к магазину. Симон думал, Агун сейчас оглянётся, засовестившись, но она и не думала оглядываться, – беседуя, шла рядом с Лусик.
– Агуник, – позвал Симон. Она не оглянулась, только рукой знак сделала, что слышала, и продолжала вышагивать, кивая и заглядывая в лицо Лусик. – Лошадь-то застоялась, ахчи…
Из магазина она вернулась быстро. И когда она подошла к Симону, на лице её была улыбка провинившегося ребёнка.
– Ахчи, сумела? – удивился Симон.
– Ты почему же мне говорил, что шестьдесят рублей должны?
– Эти пять я ещё с прошлого января Мушегу должен!
– Что ж ты в долги влезаешь, мой торговец-муженёк?
– Да, когда радио про Арменака статью передавало, ребята пристали, купи, мол, коньяк, пришлось купить.
– Застегни брюки, шапку надень правильно. Серо-джан?.. Назначаю тебя на два дня министром у нас в доме. Из города тебе авторучку привезу, а в январе на одну неделю ереванцем у меня станешь… А теперь марш домой!
– До Гамера дойду с вами, можно?
– Пускай идёт, Агуник?
– Что?
– Говорю, до Гамера дойду с вами…
– Лети домой, быстро! Куры там, собака без присмотра, сейчас овцы с поля вернутся, свиньи придут, «до-Га-ме-ра»…
– Как будто я их свинопас. Сами в Ереван едут, а мне куры, собака. – Серо с плачем повернул обратно.
Симон жалеючи смотрел ему вслед, но Агун уже тянула за собой лошадь.
– Опаздываем, пошевеливайся! – рассердилась на мужа Агун.
Симон взял в руки узел, спустился коротенькой тропкой, подождал Агун с лошадью на перекрёстке. Потом привязал поводья к седлу и пустил лошадь вперёд. И сказал Агун:
– С ребёнком грубо обращаешься.
– Твоя мать с тобою ласково обращалась – и вот что мы имеем. А я Арменака била… быстрее иди, не отставай.
– Ахчи, как же ты с этим грузом до места доберёшься? – Симон закинул на плечо узел, и снова ноги его заскользили по тропе неуверенно, вот-вот, казалось, упадёт человек.
– Слушай, муж, ты как это ноги переставляешь, не пойму.
– А тебе что, мешаю я тебе, что ли.
– Расстегни пуговицу у ворота. Видал маленького Симона? Здоров как бык.
По ту сторону моста, над самой дорогой сидела девушка, и какой-то мужчина лежал на земле рядом с ней. Мужчина повернул голову и посмотрел на них поверх плеча. Симон, громко топая, перешёл мост, сзади бесшумно шла Агун – новая невестка Врацонцев сидела рядом с каким-то мужчиной, мужчина повернул голову, потом приподнялся на локте – это был Сурен, сын Врацонца Аршака.
– Ругаетесь или уже миритесь, айта? – позвал Симон.
– И хотел бы, да не получается, дядя Симон, не получается ругаться.
Симон засмеялся и покраснел:
– Что, вкусная небось?
– Вкусная-то пока ещё вкусная, посмотрим, что будет, когда вкус пройдёт.
– Не спеши, зачем торопиться, – поправляя груз на спине, сказал Симон.
– Куда это вы всем семейством собрались?
– Да вот, Арменак наш свободен был от твоей боли, идём, чтобы осчастливить его, пора, решили.
Сурен с Симоном рассмеялись, а Агун крикнула в сторону, как ей показалось, обиженной невестки:
– Не верь им, доченька, не слушай их, а муж твой из хорошего рода, удачный выбор сделала, дочка, молодец. – И, незаметно толкнув Симона в бок, Агун сказала тихонечко: – А ты как отец не на должной высоте, понял?
И они пошли дальше, продолжая беседовать, муж с женой.
– На какой ещё такой высоте?
– Авторитета у тебя нет.
– Почему это нет?
– Быстрее иди. Твоё слово должно было для него быть законом. Если б даже министром стал – твоё слово законом для него должно было быть. А он? Остановится хоть раз рядом с тобой, поговорит о чём-нибудь?
– Тридцать лет человеку, сам всё должен понимать.
– А кто не понимает, того вразумляют.
– Что, уже и Армен стал непонимающим?
– В некоторых вопросах родительское слово должно быть законом.
– Ты это в смысле невестки? – остановился Симон.
– Хотя бы и в этом смысле.
Симон занервничал:
– Ахчи, ахчи, он больше нашего видел, что у него, своих глаз нет, что ли?
– Глаза есть, да вот ивановскую Седу не разглядел.
– Дочку кузнеца, что ли?.. Хватит глупости болтать!
– Дочка кузнеца стояла на солнце, пшеницу и золото сеяла, она стояла посреди пшеницы, босая, руки её вздымались высоко, гора пшеницы доходила ей до коленей, а шелуха развевалась-рассыпалась по воздуху до самой изгороди.
– В школе как она училась, хорошо? – спросил Симон.
– В этом году кончает, в десятом ещё.
– А вроде бы ты права, Агуник.
– Я всегда права, да только всякому правому слушатель толковый требуется. Деревенская девушка быстро горожанкой делается, но деревню не забывает. А горожанка, горожанка к селу никогда не привыкнет… Одной ногой она всегда в Цмакуте будет, поскольку нельзя же всё за деньги покупать, деревенский продукт всегда нужен. Город полон писателей и министров, а для Цмакута и министр, и писатель, и редактор, и композитор – на всё про всё один Арменак. Большое имя больших расходов требует, а если большие расходы уменьшатся – и имя меньше станет. Он тебя любит, всё «мой отец» повторяет, но у тебя самостоятельного мышления нисколечко нету. А то бы ты давно его уже уговорил на ком-нибудь из наших жениться. Потому и говорю, что в этом доме ты как отец нуль, лишён голоса. Послушай, муж, да как же это ты ходишь, не пойму…
– А как?
– Раскорякой.
Симон выпрямился. Поправил груз за спиной и сказал в сердцах:
– Господи правый, вернёшься и заболеешь на нашу голову.
– Из Овита правда что пешком шёл?
– Нет, специальным самолётом прибыл.
– Сам виноват, умник…
– Скажешь ему – когда тебя из школы исключили, когда ты целую неделю не ходил на уроки, а учебники прятал в часовне и бог знает где болтался с пастухами, вот-вот уже сам должен был стать пастухом, – твой отец, больной был, встал с постели и пошёл в Овит, и семь потов с него сошло на той овитовской дороге и в доме Хачатряна… тоже, скажешь, если ты хороший сын нам, подумай о нас, позаботься.
– Ишь… ишь… ежели ты столько понимал, что же молчал, когда я его в ветеринарный толкала, что же тогда воды в рот набрал? Чтобы тебя любили – под их дудку пляшешь, всё по-ихнему делаешь. А видишь, что вышло, – пишет, пишет, пишет, за ночь написанное утром рвёт, хочет стать большим писателем и не понимает, что невозможно это. Столько писателей сейчас развелось, кто ему дорогу уступит.
– Радио, когда про него передачу давало, вроде бы по этой передаче так получалось, что он большой писатель, Агуник.
– Болтаешь, как малое дитя. Ни дома своего, ни денег, и отец не отец, и мать неграмотная, а сам он хилый ребёнок, а ты – «большой писатель». Слушай, муж, походка твоя изменилась вроде, как же ты ходишь, не пойму.
– Постарел я, Агуник. Постарел.
– Будто бы много радости от тебя молодого было, теперь ещё и «постарел». Если бы ты ловким человеком был, ты бы знаешь что сделал сейчас? Спроси – что?.. Твоя любимая мать Арус, когда вы трое были на войне, как доходила до этого места, разувалась, дальше босиком шла, шла, шла, шла… Так хочешь знать, что бы ты сейчас сделал? Слушай, чтобы потом наорать на меня. Ты бы зарезал двух-трёх овец, мясо бы засолил, купил бы сорок бутылок пива и несколько бутылок коньяку в овитовском магазине, слушаешь меня? Слушай хорошенько, из овитовской почты позвонил бы в Ереван: «Собери-ка этих редакторов, всех, какие есть, вези их сюда, скажи: отец мой всех приглашает». Две овцы что такое – пустяк. «Отец мой приглашает вас, чтобы угостить на деревенский лад». После этого дела бы у твоего сына пошли совсем по-другому, а то – «мать, дай-ка тридцать копеек на хлеб». Подумай хорошенько. А?.. – И, оглянувшись, она увидела на лице Симона жалкую улыбку и поняла, что так оно и будет, как она сказала. – Слушай, муж, или давай я понесу этот груз, или на лошадь привяжем… Рр-ры!.. – Что так оно и будет: они зарежут овец и приготовят бастурму, Симон отправится в Овит, а чтобы вернуться, машины не будет, он проторчит возле ящиков с бутылками день-другой, потом взвалит всё на себя (потому что лошадь будет отдана другому) и, ломая рёбра, вспотев до самого копчика, принесёт, согнувшись в три погибели, эти ящики на себе, а гости наедут, всё съедят, всё выпьют, всё перебьют, переломают, пьяными голосами песни затянут, а потом уедут и снова не станут печатать Армена, поскольку Армен упрямый и трудный в общении. – Нет, никаких овец! Арташес Арзуманян своим умом дошёл до всего. Из села Ванкер до Москвы добрался, всему миру известен стал. Ох, господи, и никакой ведь разницы между дочерью и сыном: дочери восемнадцать стукнуло – замуж выходит, и с этой минуты она мужняя, сыну восемнадцать стало – отдавай его жизни, пусть идёт своё место ищет в ней. И всё. Его слава не моя, его удача – тоже.
Возле часовни она понизила голос, заговорила шёпотом, и было непонятно, молитву она про себя шепчет или же ругается с воображаемыми редакторами сына. Сын и дочь всегда смеялись над её молитвами, потому что дома она спорила, кричала и любила поносить господа и обвинять его в несправедливости.
– Молиться надумала? – улыбнулся Симон.
Она поднялась, дошла до дверей часовни, наспех перецеловала несколько хачкаров, перекрестилась и вернулась.
– Чтобы помочь – такую силу немногие имеют, но помешать кто только не может. Не знаю. После ванкеровского Сурб Саргиса11
[Закрыть] вряд ли стоит принимать во внимание эту игрушку, но кто знает, может, и стоит. Твоя мать вон с того места, где я сказала, босиком, как лунатик, шла, шла, шла, возле того куста опускалась на колени, опускалась на колени и всю землю кругом вылизывала, круги совершала: три круга – «за моего Адама», три круга – «за моего Симона», три – за Акопа. А скотина в хлеву голодная, непоеная, в грязи утопает. Вот так. Однажды, пока она тут поклоны била, её корова отелилась и телёнка затоптала.
– А ты разве не молилась? – обиделся Симон.
– А как же, ваша мать Арус считала, что я должна бросить горящих в ветрянке детей и прийти к этой цмакутовской развалине, чтобы молитву к богу обратить. У Армена глаза слипались, двадцать дней не мог ребёнок разомкнуть глаз, а у меня мешок зерна был, и ваша паршивая цмакутовская мельница не работала, речка замёрзла. Я бегом в Гамер – то же самое. Отправилась я, Симон-джан, на дарпасовскую мельницу, а дома за ребятами присматривать оставила Парандзем, а она вздумала варить картошку и забылась, вода вся выкипела, картошка сгорела, в доме чад поднялся, и печка стала дымить. И дети сказали Парандзем – уходи из нашего дома, а она обиделась и ушла. На запах горелой картошки ворвалась в дом свинья, дом полон дыма, дети нервные, злые, лежат в постелях, глаз не могут разодрать, печку водой залило, Армен встал, прогнал свинью, а свинья голодная – обратно в дом лезет. Только ребёнок ляжет – свинья снова в доме. Целый день ребёнок со слипающимися глазами воевал со свиньёй. Я пришла, Симон-джан, а мой озверевший Армен с топором в руках сидит у порога, свинью поджидает, чтобы ударить топором, семилетний-то ребёнок…
Агун всплакнула было, потом утёрла слёзы и сказала брезгливо:
– Мужчина ты или нет, быстрей иди!.. Как же, молиться я должна была в этом цмакутовском курятнике. Хотя ваша мать Арус молилась и всех вас троих живыми и невредимыми с войны вернула, теперь в селе говорят – «муж Агун», «муж Манэ», «муж твой за твоей спиной, как крепость, стоит».
– Прошу тебя, очень прошу тебя, – взмолился Симон, – будь человеком, замолчи, ради Христа.
– «Муж»! Никто не понимает, что не муж это – молот над головой.
– Ну спасибо, спасибо тебе, – Симон отстал и сплюнул с отвращением.
Агун, не обращая на него внимания, быстро шагала и продолжала говорить:
– С него штаны спадают, особый человек нужен, чтобы штаны ему поддерживать, а они – «муж у тебя есть», «волы в одной упряжке жалеют друг друга». Жалеешь ты меня, как же, пятнадцать лет как ванкеровскому Сурб Саргису жертва обещана, дождусь я когда-нибудь, чтобы ты сам с места сдвинулся?.. В санаторий его отправь, в санаторий отправь, чтобы он выздоровел и с новыми силами замолотил по моей голове. Отправь в санаторий, а для чего, спрашивается? Чтобы он спустя неделю сел пировать с шлюхой Соной.
– Иди дальше сама, я возвращаюсь, – Симон сплюнул и повернул обратно.
– Возвращайся. Ступай к тем, кто яичко тебе всмятку сварит, ступай котлетами угощайся.
– Агуник, смотри догоню, кости тебе переломаю.
– Давай-давай.
– Тьфу! – Симон, гремя сапогами, зашагал к селу и опять был очень похож на асоренцовского Мацака, потому что козырёк у шапки снова сбился на ухо. А на сердце Агуник в эту минуту капнула горько-сладкая капля желчи: Агун почувствовала её прикосновение к сердцу.
«И-и-и… Чтоб тебя…» – захотела выругаться Агун, но слова все куда-то запропастились, и она сказала себе, что не надо, что расстраиваться не надо, что дорога предстоит трудная. Агун улыбнулась и пошла за лошадью, чей груз был привязан крепко и по всем правилам, так, словно не мужчины этого рода увязывали его.
С вершины холма Агун оглянулась – Симон сидел на камне, и словно не Симон это был, а Асоренц Мацак, потому что одежда на нём была серая и старая и шапка на голове сидела так, как носит её Мацак. Надо будет купить ему шапку без козырька, чтобы, как ни надел, правильно было. И тогда она, Агун, меньше будет раздражаться.
– Ну что, не идёшь, значит? – засмеялась Агун.
Симон поглядел на неё и отвернулся. Но казалось, он всё ещё смотрит на Агун, потому что козырёк был обращён в её сторону.