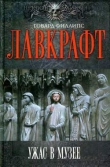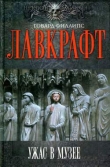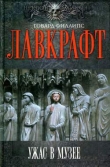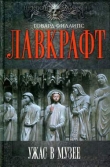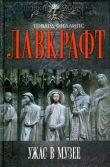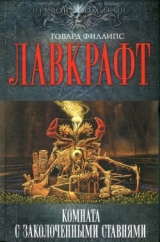
Текст книги "Комната с заколоченными ставнями"
Автор книги: Говард Филлипс Лавкрафт
Соавторы: Август Дерлет
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 35 страниц)
IV
Этой ночью опять пришли сны, и вновь они сопровождались голосами, звучавшими столь близко и пронзительно, словно они проникали в меня одновременно как изнутри, так и снаружи. Вновь мой прадед был занят своим страшным делом, а спутник его, черный кот, время от времени останавливался, поворачивал голову и смотрел как будто в упор на меня, при этом на морде его всякий раз возникало выражение злобного торжества. Я видел, как старик в островерхой шляпе и длинных черных одеждах появился со стороны леса и, пройдя сквозь стену дома и через темную комнату, очутился перед мрачным алтарем, за которым, ожидая жертвоприношения, стоял Черный Человек. Видеть весь дальнейший ужас было невыносимо, но я не мог уклониться от зрелища, как не мог избавиться и от дьявольских звуков, ибо находился во власти сна. Потом я увидел его, кота и Черного Человека уже среди густого леса далеко от Уилбрэхема, где в обществе прочих бесовских тварей они справляли черную мессу у алтаря под открытым небом; за этим последовала дикая оргия. На сей раз изображение было не столь четким; лишь иногда отдельные сцены прорывались мгновенными вспышками сквозь плотную пелену цветного тумана и жуткую какофонию звуков. Помню странное ощущение зыбкости и чужеродности окружавшего меня мира, который я воспринимал на подсознательном уровне, слыша и видя вещи, непереносимые для нормального человеческого рассудка. До меня постоянно доносились леденящие кровь песнопения, крики умирающего ребенка, нестройное завывание труб, читаемые задом наперед молитвы, визг и хохот пирующих, которых я мог наблюдать лишь урывками. Так же, урывками, до сознания моего доходил смысл разговоров, короткие фразы, ничего не значившие каждая в отдельности, но все вместе создававшие смутную картину происходящего.
– Достоин ли он избрания?
– Именем Велиала, именем Вельзевула, именем Сатаны…
– От плоти и крови Джедедии, от плоти и крови Эзафа, прибывший сюда вместе с Бэлором…
– Подведите его к книге!
В следующем проблеске сновидений я увидел самого себя приближающимся в сопровождении моего прадеда и кота к огромной черной книге, со страниц которой мерцали начертанные горящими буквами имена, и под каждым стояла кровавая роспись. Я тоже был принужден расписаться, причем рукой моей водил Эзаф Пибоди, а кот, которого он называл Бэлором, полоснул острыми когтями по моему запястью; хлынула кровь, в которую и обмакнули перо, кот же при этом начал подпрыгивать и приплясывать, выделывая в воздухе дикие антраша.
В этом сне была одна подробность, особенно смутившая меня по пробуждении. Когда мы шли через лес к месту дьявольского шабаша, я хорошо запомнил тропу, проложенную краем болота; с одной стороны от нее поднимались заросли осоки, а с другой тянулась зловонная трясина, над которой тяжелым туманом плыли гнилостные испарения. Ноги мои при каждом шаге погружались в черную вязкую жижу, тогда как мои спутники, казалось, плавно летели над самой землей, не оставляя на ней ни малейших отпечатков.
И вот поутру, когда я очнулся – а это случилось много позднее обычного часа, – я обнаружил, что моя обувь, еще накануне вечером сиявшая чистотой, была теперь вся облеплена едва подсохшей черной грязью – несомненно той самой, что составляла лишь часть моего сна! Вскочив с кровати, я двинулся в обратном направлении по грязным следам собственных ботинок, поднялся по лестнице на второй этаж, вошел в потайную комнату и – следы обрывались все в том же неестественной формы углу, откуда вели в комнату столь озадачившие меня прежде отпечатки босых ног и кошачьих лап! Я долго отказывался верить собственным глазам, но безумный ночной кошмар упрямо оборачивался действительностью. Еще одним подтверждением тому были глубокие царапины, оставшиеся на моем запястье.
Пошатываясь и спотыкаясь, я выбрался из страшной комнаты. Только теперь я начал понимать своего отца, не пожелавшего продавать поместье Пибоди; он мог узнать что-то от моего деда, который, скорее всего, собственноручно уложил Эзафа в гроб лицом вниз. Как бы они оба ни презирали все эти суеверные легенды и предания, у них не хватило духу открыто пренебречь доставшимся им жутким наследством. Я понял также, почему отсюда так поспешно съезжали все арендаторы – вероятно, на этом доме фокусировались какие-то таинственные и недобрые силы, находящиеся за пределами знаний и власти человека, равно как и любого другого живого существа; и еще я понял, что сам уже попал в сферу притяжения этих неведомых сил, сделавшись, таким образом, пленником старого дома и его зловещего прошлого.
Только теперь я обратился к последнему еще не изученному мной свидетельству – рукописи, которая, как оказалось, представляла собой дневник моего прадеда. Не медля более ни секунды, я бросился к столу, раскрыл лежавший на нем манускрипт и углубился в чтение. Записи, сделанные беглым почерком Эзафа Пибоди, перемежались многочисленными вырезками из писем, газет, журналов и даже книг, не имевшими между собой непосредственной связи и интересовавшими его постольку, поскольку все они касались необъяснимых и сверхъестественных событий, отражая общепринятые представления о черной магии и колдовстве. Его собственные записи, нерегулярные и отрывистые, были, однако, на редкость красноречивы.
«Сегодня сделал то, что должен был сделать гораздо раньше. Дж. начал обрастать плотью – невероятно. Однако это только часть наследства.
Перевернутый в гробу, он возвращается к жизни. Снова приходит его младший бес, с каждой новой жертвой тело все более набирает плоти. Переворачивать его обратно теперь уже бессмысленно. Остается только огонь».
Далее:
«Кто-то все время присутствует в доме. Кот? Я его часто вижу, однако поймать не могу».
«Да, это черный кот. Не пойму, откуда он взялся. Беспокойная ночь.
Дважды снилась Черная Месса.
Видел во сне кота. Он подвел меня к Черной Книге. Я поставил свою подпись.
Приснился чертенок по имени Бэлор. Славный малый. Объяснил мне все.
Я связан клятвой».
И вскоре после того:
«Сегодня приходил Бэлор. Не сразу его узнал. Он столь же обаятелен в облике кота, сколь ранее – в образе черта. Я спросил его, в каком обличье он служил Дж. Он ответил: в этом же самом. Привел меня в комнату наверху, показал один из странных, преломляющих пространство углов, который является выходом наружу. Все это сделал своими руками Дж. Кот объяснил, как сквозь него проходить…»
Читать дальше я был уже не в силах. Я и так узнал более чем достаточно.
Я узнал теперь, что в действительности произошло с останками Джедедии Пибоди. И я знал, что следует сделать мне. Преодолевая страх и отвращение, я направился к склепу, вошел внутрь и медленно приблизился к гробу своего прадеда. Тут я впервые заметил бронзовую пластинку, прикрепленную под именем Эзафа Пибоди, на которой было выбито следующее: «Горе тому, кто потревожит его прах!»
Я поднял крышку.
Хоть я и ожидал увидеть нечто подробное, но полученное мною потрясение отнюдь не стало меньше. С Эзафом Пибоди произошли чудовищные перемены. То, что раньше было лишь кучей костей, прахом и жалкими клочьями одежды, теперь начало обретать прежнюю телесную форму. Кожа и мясо вновь нарастали на скелете моего прадеда – плоть его постепенно возвращалась к жизни после того рокового дня, когда я столь бездумно нарушил ход событий, перевернув лежавшие в гробу останки. Здесь же, рядом с ним, я обнаружил еще один ужаснувший меня предмет. Это было сморщенное, иссохшее детское тельце, которое, хотя ребенок исчез из дома Джорджа Тейлора менее десяти дней назад, успело уже приобрести тот изжелта-пергаментный оттенок, который обычно достигается полным обезвоживанием и мумификацией!
С трудом преодолев оцепенение, я покинул склеп и начал сооружать на дворе костер. Я действовал с лихорадочной поспешностью, опасаясь быть застигнутым за этим занятием кем-нибудь посторонним, хотя в глубине души сознавал, насколько мала была эта возможность, ибо люди десятилетиями избегали показываться вблизи усадьбы Пибоди. Сложив дрова в огромную кучу, я вернулся в склеп и выволок наружу гроб с его жутким содержимым – точно так же, как много лет назад поступил сам Эзаф Пибоди с гробом Джедедии. Потом я стоял и смотрел, как огонь, разрастаясь, охватывает свою жертву, и был единственным, кто слышал пронзительный вопль ярости, вырвавшийся из самого сердца пламени.
Угли костра тлели всю ночь. Я наблюдал эту картину из окон дома. В один из моментов я почувствовал на себе чей-то взгляд и обернулся к двери.
Большой черный кот сидел у входа в мою комнату, не сводя с меня зловеще светившихся в полумраке глаз.
И я вспомнил тропу через болото, по которой шел прошлой ночью, отпечатки моих ног, испачканные в грязи ботинки. Я вспомнил глубокие порезы на запястье и Черную Книгу, в которой я поставил свою подпись. Точно так же, как ранее сделал это Эзаф Пибоди.
Повернувшись лицом к тому месту, где в тени затаился кот, я осторожно и даже ласково позвал его: «Бэлор!»
Он тотчас вошел в комнату и уселся напротив двери.
Стараясь не делать резких движений, я достал из ящика стола револьвер, тщательно прицелился и выстрелил.
Кот остался сидеть неподвижно, не отрывая от меня взгляда. Выстрел не произвел на него ни малейшего эффекта, даже кончики усов не шевельнулись.
Бэлор. Один из младших бесов.
Стало быть, вот оно – наследство Пибоди. Старый дом, парк и окружающий лес – все это было лишь поверхностной, материальной стороной того, что скрывалось за причудливо искаженными стенами тайной комнаты, за ночными кошмарами, за походом через топь и дьявольским шабашем в лесной чаще – того, что было отныне скреплено моей подписью на страницах Черной Книги…
Интересно, найдется ли кто-нибудь, кто после моей смерти – если я буду погребен тем же способом, что и все колдуны, – придет, чтобы перевернуть в гробу мои останки?
Окно в мансарде [21]21
Впервые опубликован в журнале «Saturn» в мае 1957 г.
[Закрыть]
(Перевод О. Мичковского)
I
Вступая во владение домом своего кузена Уилбера менее чем через месяц после его безвременной кончины, я испытывал нехорошие предчувствия – уж очень не по душе мне было местоположение дома: глухая горная ложбина у подножия пика Эйлсбери. В то же время я находил справедливым то, что приют моего любимого кузена достался именно мне. Дом, о котором идет речь, был в свое время построен старым Уортоном. Внук этого фермера, недовольный скудным существованием на истощенной, бесплодной земле, переехал в приморский город Кингстон, после чего дом долгие годы пустовал, пока его не приобрел мой кузен. Как истинный Эйкли, он сделал это без всякого расчета, повинуясь первому побуждению.
В течение многих лет Уилбер изучал археологию и антропологию. Закончив Мискатоникский университет в Аркхеме, он уехал в Азию, где провел три года, побывав в Монголии, на Тибете и в провинции Синьцзян, [22]22
Провинция Синьцзян– обширная территория к северу от Тибета, включающая пустыню Такла-Макан и восточную часть Тянь-Шаня. В середине XVIII в. эти земли были захвачены Китаем и в 1955 г. преобразованы в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР.
[Закрыть]а следующие три года поровну поделил между Латинской Америкой и юго-западной частью Соединенных Штатов. Получив приглашение занять должность профессора Мискатоникского университета, он вернулся на родину, но от должности неожиданно отказался, а вместо этого купил поместье старого Уортона и принялся переделывать его на свой лад. Прежде всего он убрал все пристройки, оставив только одну, а затем взялся за центральное здание и придал ему еще более причудливый вид, нежели тот, какой оно приобрело за двести лет своего существования. Признаюсь, что я даже не догадывался о том, насколько радикальным переделкам подверглось здание, до тех пор пока сам не стал его владельцем.
Только тогда я узнал, что, оказывается, Уилбер оставил в неприкосновенности лишь половину дома, полностью переделав фасад и одно крыло и соорудив мансарду над южной стороной первого этажа. Когда-то это было невысокое здание, всего об одном этаже и с обширным чердачным помещением, где хранилась всякая утварь, обычная для новоанглийской фермы. Ту часть постройки, которая была сложена из бревен, Уилбер в значительной мере сохранил, что свидетельствовало о его уважении к традициям наших предков – ведь к тому моменту, когда он покончил со своими скитаниями и осел в родных краях, семья Эйкли прожила в Америке без малого два столетия. Если мне не изменяет память, шел 1921 год. Через три года кузена не стало, и 16 апреля 1924 года я, согласно его завещанию, вступил во владение усадьбой.
В том виде, как его оставил кузен, дом решительно не вписывался в новоанглийский пейзаж. Лишь каменный фундамент, бревенчатое основание да четырехугольная кирпичная печная труба давали некоторое представление о его изначальном облике, в остальном же он был переделан настолько бессистемно, что казался результатом последовательных вмешательств целого ряда поколений. Большая часть нововведений, по всей видимости, была направлена на то, чтобы обеспечить владельцу максимум удобств, но было среди них одно, которое приводило меня в недоумение еще при жизни кузена, не дававшего на сей счет никаких объяснений. Я имею в виду большое круглое окно, вырубленное в южной стене мансарды, и даже не столько само окно, сколько довольно странное непрозрачное стекло, вставленное в него. Из слов Уилбера я заключил, что стекло это – изделие глубокой древности – он приобрел в ходе своих странствий по Азии. Как-то раз он обмолвился о нем как о «стекле из Ленга», в другой раз заметил, что оно «вероятно, хиадесского происхождения», однако ни то ни другое ровным счетом ничего мне не сказало; да, по правде говоря, я и не испытывал настолько сильного интереса к странствиям кузена, чтобы пускаться в подробные расспросы.
Но уже очень скоро я пожалел о своей нелюбознательности, ибо в первые же дни после переезда в дом Уилбера я обнаружил, что жизнь моего кузена протекала не в главных комнатах на первом этаже, как следовало бы ожидать, исходя из их обстановки, предлагавшей максимум удобств, а в мансарде с окном на юг. Именно там он держал свою коллекцию курительных трубок, свои любимые книги, пластинки и наиболее удобные предметы мебели; там был его рабочий кабинет, и там же хранились рукописи, связанные с предметом его исследований, которые были прерваны внезапным сердечным приступом в тот момент, когда он работал в книгохранилище библиотеки Мискатоникского университета.
Теперь наступила моя очередь переделывать все на свой лад. Прежде всего необходимо было восстановить нормальный уклад жизни в доме и начать с обживания первого этажа, поскольку мансарда с первого же взгляда внушила мне труднообъяснимую неприязнь. Отчасти это было вызвано тем, что все в этой комнате еще слишком живо напоминало мне об умершем кузене, которому отныне не суждено было ее занимать; отчасти тем, что от нее веяло чем-то холодным и нездешним. Как будто некая физическая сила отталкивала меня от нее, хотя, конечно, силой этой было не что иное, как мое собственное отношение к комнате, которую я просто не понимал, как никогда не понимал своего кузена Уилбера.
Осуществление планируемых перемен оказалось далеко не таким легким делом, как мне поначалу казалось: очень скоро я убедился в том, что «логово» моего кузена распространяет свою атмосферу на весь дом. Существует поверье, будто дома с неизбежностью приобретают некоторые черты характера своих владельцев. Если это старое здание в свое время несло на себе отпечаток тех или иных фамильных черт Уортонов, проживших в нем долгие годы, то мой кузен, переделав его на свой лад, начисто стер этот отпечаток, так что и до сих пор здесь все указывало на присутствие Уилбера Эйкли. Не то чтобы это постоянно на меня давило – просто иногда мне становилось не по себе от ощущения, будто я нахожусь в доме не один или будто кто-то или что-то пристально следит за каждым моим шагом.
Причиной этому могло послужить то, что дом был расположен в глухой и безлюдной местности, однако с каждым днем у меня росло ощущение, что любимая комната кузена является чем-то одушевленным и ждет его возвращения подобно домашнему животному, терпеливо ждущему своего хозяина, не ведая о постигшей его смерти. Вероятно, из-за этого неотвязного впечатления я и уделял комнате намного больше внимания, нежели она того заслуживала. Я было вынес из нее кое-какие предметы, в том числе очень удобное кресло-шезлонг, однако тут же вынужден был вернуть их на место. Сделать это меня побудил ряд довольно странных и противоречивых чувств: например, я вдруг понял, что кресло, показавшееся мне поначалу таким удобным, рассчитано на человека совершенно иной, нежели у меня, комплекции или что освещение на первом этаже дома хуже, чем наверху, из-за чего мне пришлось вернуть в мансарду взятые мной оттуда книги.
Одним словом, факт оставался фактом: по своему характеру мансарда известным образом отличалась от остальной части здания, и если бы не она, то это был бы совершенно обычный дом. Помещения первого этажа имели все необходимые удобства, но я не видел признаков того, чтобы ими часто пользовались, если не считать кухни. И наоборот: мансарда, вроде бы достаточно уютная, являлась таковой в каком-то другом смысле. У меня создалось впечатление, что эта комната, явно рассчитанная на одного человека со вполне определенными вкусами и привычками, использовалась не одним, а многими и притом очень разными людьми, каждый из которых оставил в ее стенах как бы частицу своей личности. Но ведь я прекрасно знал, что кузен вел жизнь затворника и, если не считать поездок в аркхемский Мискатоникский университет и бостонскую Уайденеровскую библиотеку, вообще никуда не выезжал и никого не принимал. Даже в тех редких случаях, когда к нему заглядывал я – а мне иногда случалось бывать в этих краях по своим делам, – он, казалось, с нетерпением ждал, чтобы я как можно скорее убрался, хотя и был неизменно любезен; да и я, по правде говоря, не задерживался у него более четверти часа.
Признаюсь, что атмосфера, царящая в мансарде, значительно охладила мой преобразовательский пыл. В помещениях первого этажа имелось все необходимое для нормального проживания, и потому для меня не составило особого труда выбросить из головы комнату кузена, а заодно и те изменения, которые я намеревался в ней произвести. Кроме того, я по-прежнему часто и подолгу отсутствовал, так что торопиться с перестройкой дома не было никакой нужды. Завещание кузена было утверждено, я вступил во владение имением, мои права на него никем на оспаривались.
Жизнь шла своим чередом, и я уже почти забыл о своих нереализованных планах относительно мансарды, когда ряд мелких, на первый взгляд незначительных происшествий вновь пробудил во мне прежнее беспокойство. Если я не ошибаюсь, первое из этих происшествий случилось примерно через месяц после того, как я вступил во владение домом, и было настолько тривиальным, что в течение нескольких недель мне даже не приходило в голову связать его с последующими событиями. Как-то вечером, когда я сидел и читал у камина в гостиной на первом этаже, мне показалось, будто кто-то скребется в дверь. Я решил, что это кошка или какое-нибудь другое домашнее животное просится внутрь, а потому встал и прошелся вокруг дома, проверив переднюю и заднюю двери, а заодно и крохотную боковую дверцу, оставшуюся от старой части здания. Однако мне не удалось обнаружить ни кошки, ни даже ее следов. Животное словно растворилось во мраке. Я несколько раз позвал его, но не услышал в ответ ни звука. Но как только я вернулся на свое место у камина, звук повторился. И сколько бы я ни вставал и ни выходил, я так никого и не увидел, хотя описанное повторилось раз шесть. В конце концов я так разозлился, что, попадись мне тогда эта кошка, я не задумываясь пристрелил бы ее на месте.
Событие само по себе ничтожное – я так и решил, что это была кошка, которая знала моего кузена, но не знала меня, а потому при моем появлении пугалась и убегала. Однако не прошло и недели, как повторилось примерно то же, только с одним существенным отличием. На этот раз вместо звука, который могла бы издавать скребущаяся в дверь кошка, я услышал характерный шорох, обдавший меня неприятным холодком, – как если бы что-то вроде змеи или, скажем, хобота слона скользило по оконным и дверным стеклам. В остальном повторилось все то же, что и в прошлый раз: я слышал, но не видел, искал и не находил – одни только странные, неизвестного происхождения звуки. Что это было: кошка, змея или что-нибудь еще?
Такого рода случаев, когда я слышал звуки, причиной которых могли явиться кошка или змея, было много, однако наряду с ними бывало и другое. То, например, мне слышался стук копыт, то топот какого-то крупного животного, то щебетанье птиц, тыкавшихся клювами в оконные стекла, то шелест чего-то большого и скользящего, то хлюпанье и причмокиванье. Как следовало все это понимать? Я не мог считать происходящее обычными слуховыми галлюцинациями хотя бы потому, что звуки имели место при любой погоде и во всякое время суток. С другой стороны, если бы они действительно исходили от какого-то животного, то я бы непременно увидел его еще до того, как оно исчезло в лесных зарослях, что покрывали холмы, обступавшие дом со всех сторон (раньше здесь были возделанные поля, но новое поколение кленов, берез и ясеней вернуло дикой природе некогда отобранные у нее владения).
Очень может быть, что этот загадочный цикл событий так никогда бы и не прервался, если бы однажды вечером я не удосужился отворить дверь на лестницу, ведущую в мансарду, чтобы проветрить помещение; именно тогда, в очередной раз услышав, как скребется кошка, я понял, что звук доносится не от дверей, а от окна в мансарде. Я, как безумный, бросился вверх по лестнице, не успев даже подумать о более чем странном поведении этой твари, которая сумела каким-то образом вскарабкаться по гладкой стене на второй этаж дома и теперь требовала, чтобы ее впустили через круглое окошко – единственный вход в мансарду снаружи. Так как окно не открывалось – ни целиком, ни хотя бы отчасти, – я ровным счетом ничего не разглядел, хотя отчетливо слышал, как кто-то скребется по другую сторону матового стекла.
Я ринулся вниз, схватил электрический фонарик и, выбежав во тьму жаркой летней ночи, осветил фронтон дома. Но к этому времени все стихло, и я не увидел ничего, кроме глухой стены да слепого окна, с той лишь разницей, что снаружи окно выглядело непроницаемо-черным, тогда как изнутри поверхность стекла имела мутно-белесый оттенок. Я мог оставаться в неведении до конца дней своих (и нередко мне кажется, что так оно было бы лучше), но – увы! – судьба распорядилась иначе.
Примерно в те же дни я получил в подарок от тетушки породистого кота по имени Крошка Сэм, с которым играл за два года до описываемых событий, когда он был еще котенком. Тетушку давно беспокоил мой уединенный образ жизни, и, не выдержав, она отправила мне для компании одного из своих котов. Крошка Сэм решительно опровергал свое прозвище. Теперь его следовало бы именовать Великаном Сэмом, ибо с тех пор, как я видел его в последний раз, он набрал порядочный вес и превратился в настоящего матерого котище, к чести всего кошачьего семейства. Свою привязанность ко мне Сэм недвусмысленно выражал тем, что терся о мои ноги и громко мурлыкал; относительно же дома у него сложилось двоякое мнение. Бывало, что он мирно и уютно дремал у камина, но бывало и так, что он внезапно становился совсем бешеным и требовал, чтобы я выпустил его на улицу. А уж в те минуты, когда раздавались описанные мною звуки – словно какое-то другое животное стремилось попасть в дом, – он просто терял голову от страха и ярости, и мне приходилось не мешкая выпускать его на волю. В таких случаях он опрометью мчался в единственный пристрой, сохранившийся после переделки дома кузеном, и проводил там – или где-нибудь в лесу – всю ночь, не появляясь до самого рассвета, когда голод вынуждал его вернуться в дом. В мансарду же он не ступал ни лапой!