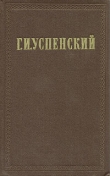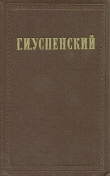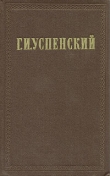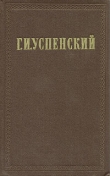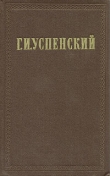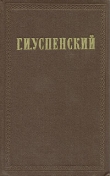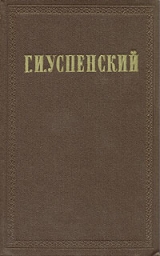
Текст книги "Том 7. Кой про что. Письма с дороги"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 45 страниц)
На бабьем положении *
Кстати, расскажу здесь один очень трогательный эпизод из жизни этого самого Ивана Николаевича. Возвращаясь однажды со станции, куда летом вместо прогулки ходил за письмами и газетами, встретил я Ивана Николаевича, и мы пошли вместе.
Шли мы, разговаривали кой о чем и видим – в канаве около шоссе что-то как будто шевельнулось. Иван Николаевич первый ускорил шаг, подошел к тому месту, где шевельнулось, и стоит. Подошел и я.
– Ведь человек лежит, – сказал он. – И никак уже померши?
В траве, которою заросла канава, действительно лежал человек. Он упал на кучу щебенки, и она так подпирала его в поясницу, что лохматая, мокрая голова его круто опрокинулась назад, а скомканная борода торчала вверх, посконная рубаха была на нем расстегнута, изорвана; ноги босы.
– Эко напился-то, – сказал Иван Николаевич, уже соскочивший в канаву, и, сбросив с плеч мешок с какими-то инструментами, принялся за исследование бездыханного человека. Он низко наклонил ухо к его лицу, послушал, потом припал ухом к груди и сказал тревожно:
– И дыхания-то нету нисколько!.. Разит винищем, а дыхания нету!
Кстати сказать: таких бездыханных пьяниц нередко встречаешь в таких местах, но, не имея возможности помочь, проходишь обыкновенно мимо. Обыкновенно посмотришь на этот полутруп и идешь мимо… Каюсь, что, будь я один, и на этот раз бездыханный человек так бы и остался в канаве. Но сердце Ивана Николаевича было чувствительнее моего; я стремился домой поскорее взяться за газеты; он же хотя тоже спешил по делу, однако бросил его, остановился и самым внимательным образом отнесся к чужому человеку.
– Ах ты, братец ты мой! – говорил он, суетясь около бездыханного тела.
Он с огромными усилиями приподнял это тело, подхватил его под плечи, тряс его, кричал: «Эй, любезный, очнись!», но ничего не действовало, и Иван Николаевич должен был опустить пьяного на прежнее место, пододвинув ему под голову камень.
– Что тут делать? – сказал он в раздумье и взялся было за мешок с инструментами, чтобы продолжать путь, но опять его жалостливое сердце не пустило его. Он опять проворно сбросил мешок и армяк и оживленно сказал:
– Нету! так оставить нельзя! ему надыть дыхание уделать!
И вот как он «уделал». Сначала он всячески старался разжать мертво-пьяному рот; он тянул его за бороду, но зубы пьяного были крепко сжаты, стиснуты предсмертной судорогой. Тогда Иван Николаевич запустил палец за щеку своего пациента, нащупал там место, где нехватало двух зубов, и, выскочив из канавы, сломал у ивового куста толстую палку, немножко заострил топором конец и, запустив этот острый конец между зубов, стал вбивать его ладонью дальше, точно так же, как вбивают гвоздь в стену…
– Она, расклепка-то, разожмет зубье-то!.. – весь мокрый от хлопот и волнения говорил Иван Николаевич, загоняя свой клин «между зубьев». Операция была жестокая, но в конце концов стиснутые зубы были разжаты, и вскоре послышалось хрипение…
– Эво! Эво! – радостно воскликнул Иван Николаевич, заслышав дыхание, и тотчас снял шапку и перекрестился.
Покуда происходило все это, подошел народ, помог Ивану Николаевичу растрясти полумертвого человека, затем окликнули нескольких «порожняков», возвращавшихся со станции и с полей по домам, спрашивая: «не ваш ли?» Наконец очнувшийся человек был общими усилиями уложен в телегу какого-то крестьянина, который его признал и отправил его восвояси.
А мы с Иваном Николаевичем пошли своей дорогой.
– Отдох! Ну, слава тебе господи! – не раз повторял он. – Эко ведь наглотался винища. Ну, слава тебе господи!
– Однако, – сказал я, – какой ты добрый человек! Не случись тебя, ведь человек-то бы помер!
– И помер бы! Нешто кто беспокоится? А я про себя прямо тебе скажу: сердце у меня жалостливое!
Иван Николаевич сказал это так просто и чистосердечно, что еще больше понравился мне.
– Я человек добрый! – продолжал он. – О своем у меня сердце не так болит, как о чужом… Я, братец мой, не покину человека в нужде. Это мне господь бог дал! И что ж? Я не обижаюсь! Бога гневить нечего! Живу на свете, никому обиды не делаю.
Искренно сочувствовал я Ивану Николаевичу и не находил слов для похвалы его поступку, который стал казаться мне положительно подвигом среди вообще обычного невнимания к чужой нужде. Похвалы мои пришлись Ивану Николаевичу по сердцу, он и сам поддерживал их, простодушно говоря – «да, брат, совесть у меня чистая», «вот какое у меня сердце – за первый сорт!» Но среди моих и своих собственных похвал Иван Николаевич как-то вдруг задумался и вздохнул.
– Вот, – сказал он, – хвалишь ты меня!.. Это точно, действительно добер я!.. А есть у меня на душе такой камень – ввек не изжить!.. Вот этими самыми руками избил, истиранил неповинного человека! Вот как я добер! А добер ведь – перед богом! А так вышло, что едва на смерть не убил человека. И за что? Ни за что, окромя что – человек золотой, цены ему нету! Вот как иной раз оборачивается на свете!
– Как же так? – сказал я. – Это что-то непонятно.
– А вот послухай, как дело-то было. Остался я сиротой после матери одиннадцати годов. И семья наша была такая: слепой дед на печи, отец да трое ребят, мальчики. Одному год, другому три, а самый-то старший я. Вот и думай, как тут жить? И вышло так, братец ты мой, что пришлось мне на бабьем положении жить: не хотят девки-то за отца моего идтить. И вот я прямо и стал на бабье дело: и стряпать, и за скотиной, и за ребенком, и шить, и чулки вязать – все у меня стало происходить по-бабьему. Вот откуда у меня жалостливое сердце-то началось… Бывало бьешься, бьешься с годовалым-то братишкой – и соску ему, и сказку, и песню – все надо! И вымыть надо, и обуть, и причесать, и укачать, и накормить, и напоить, и выстирать. А там птица, скотина – все я да я. И тут узнал я бабье горе, вот как узнал! И таким родом до четырнадцатого году я один на бабьем положении хозяйствовал: ну, друг ты мой, как ни бейся, а бабы не миновать… Дело-то бабье справлено, а безделья-то бабьего нехватает… ан оно и скучно!.. И надумай родитель жениться, благо случай подошел; вдова на деревне оказалась, и тоже с тремя ребятами. Эта, друг ты мой, без мужика совсем измаялась; тут уж и бабье дело надо править, и мужичье, и грудью кормить, и ночью дрова воровать – все самой… Измаялась баба, пошла за моего отца. Да и отец тоже намучился, махнул рукой на то, что трое ребят у Аграфены (ее Аграфеной звали), – взял ее. И выросла наша семья – девять душ; и все мелкота, да окромя мелкоты и дед слепой на печи, тоже не лучше малого ребенка. И все есть просят; сам не возьмет, всякому дай, в рот положи, обуй, умой, одень. И так я бабью часть чувствовал и сердцем страдал, что с первого дня стали мы с Аграфеной не то брат с сестрой, а как сестра с сестрой – вполне родные сестры; хлопоты у нас одни, заботы одни и мысли одинаковые, бабьи. Я понимаю, что ей надо, она понимает, и даже без разговору, что мне; как есть – как две сестрицы. Ну, истинным богом – ни боже мой! Ведь бабий разговор особенный, с непривычки не разберешь – чего стрекочут? А мы с Аграфеной все до тонкости понимаем. И как видит она, что я жалостлив, что я ночью к своему братишке встану покачать, так и ейного ребенка не кину, и крепко она меня полюбила, а как полюбила-то, и в моих хлопотах по бабьей части подсоблять стала и за моими братишками, как за своими, ходит, а за это я ее полюбил. И стали у нас одни мысли и одни заботы, и разговоры у нас с ней свои… Иной вместе песни запоем, иной поцелуемся – и перед богом – ни, ни!.. И в уме не было… А точно, что водой не разлей!.. И пошла про нас молва!.. И стал на меня родитель, царство ему небесное, серым волком глаза пялить… Что меня Аграфена похвалит, али я ее похвалю, али пошутим с нею – то глазищи у него злей да злей… А пошел мне уж шестнадцатый год, и парень я был в полном виде. Бывало, ночью стану собираться в лес за дровами, Аграфена беспременно не спит, снаряжает меня, в тепло оденет, крестит и… поцелуемся, а глянешь на полати – оттуда два глаза как уголья горят… И что дальше, то больше! Вступил ему грех в сердце – разгорается с каждым днем в полымя! Стал нас караулить, подглядывать… Иной раз на речке или на гумне – стираем, работаем – охватит мне Аграфена голову: «Ох ты, золото, говорит, мое! Как бы без тебя на свете-то жила?» Хвать, а родитель тут и есть! И ровно бы бес в него вселился… Не принимает никаких резонов, а главная причина – не может понимать нашего бабьего разговора… «Чего шепчетесь?» А чего нам шептаться? Иное что по-бабьи-то нашепчешь – по-мужицки-то и в неделю не перескажешь… Никакой веры не дает! До того стало доходить, что дед слепой говорит мне: «Иван! А отец-то хочет тебя ядом извести!» И стал меня родитель обижать, поколачивать, за волосья например, а это Аграфене – смерть… Ревмя ревет, заступается. У нее душа добрая, не хуже моей, почитай, будет!.. А Аграфенины слезы пуще его разбирают – все больше да больше сатанеть стал. Ходит по людям, говорит: «Так и так! Иван эво что с мачехой-то!..» И по народу пошло… Слышат: «Бил Ваньку-то». – «Аграфена ревмя ревела». – «Опять бил… поймал…» А потом Аграфену стал бить… Ну я тоже стал заступаться – и еще хуже стало! Что тут делать? Священник даже исповеди не дал! «Твоего греха, говорит, невозможно простить, а надобно в суд. Этакой страсти никто не запомнит, что ты с Грунькой творишь!..» Что мне тут делать?.. Весь народ от меня отступился, стали мы с Аграфеной как проклятые… И она и я глаз не осушаем, а от этого еще больше в народе подтверждения! Не стало нам житья в доме! Все стало вразброд, все к худу… А родитель пьет и буянит.
Как мне правду доказать? Как мне всех успокоить, очиститься пред родителем, пред народом, пред батюшкой – священником? Думал, думал, пошел к отцу Сергию, нашему священнику, говорю: «Так и так! Явите божескую милость, освободите мою душу: ни в чем не повинен! Не толь что… а и в мыслях этого дела не было!» И как было надо по моим смыслам дело рассказать, все я батюшке описал… Не может он понять этого, то есть бабьего моего положения, мыслей-то моих бабьих, дружества-то моего бабьего не постигает! Ну, однакоже, глядя на мои рыдания, подумал и говорит: «Вот как я присоветую: пускай ты и Аграфена пред родителем твоим, предо мной и пред народом поклянетесь пред крестом и евангелием, что этого не было… А клятву, говорит, я напишу на бумаге». – «Батюшка, говорю, какую угодно клятву наложите! Чтоб нас гром разразил, чтобы на месте помереть, чтобы глаза вытекли, чтобы заживо черви съели, что только угодно, все готовы!..» Ну, отец Сергий говорит: «Ладно! Первоначально надобно, говорит, отца твоего урезонить…» И дай бог ему царство небесное, не поленился сам к родителю пойти. Долго ли, коротко ли он его уговаривал, этого не помню, не в себе я был, и рассудок у меня помрачился… Окончательно скажу, призывает меня отец Сергий: «Хорошо, говорит, назначается быть клятве в воскресенье. Как отойдет обедня, то я с крестом и евангелием приду в дом к родителю твоему, и народ будет допущен, и вы с Аграфеной пред всеми нами принесете клятву. Видно будет – правду ли, неправду ли скажете!» Пал я ему в ноги, поблагодарил, объявил Аграфене: «Смотри, говорю, сестричка, не робей! Наше дело чистое, нам бояться нечего!» Наконец приходит воскресенье, отстояли мы с Аграфеной заутреню и обедню (всю субботу не пивши, не евши были – батюшка приказал), идем всем миром в дом. Впереди причт, потом батюшка со крестом и евангелием, родитель мой, мы с Аграфеной ровно колодники, а кругом – и на заду и по бокам – вся деревня! И бабы, и мужики, и дети – сметы нету народу. Изба полным-полнехонька! Под окном – тьма тьмущая! В сенцах – битком набито!..
Положил батюшка крест и евангелие, помолились все; сел мой родитель как раз против евангелия и креста на лавке, а батюшка сбоку стал. Таково мне было, друг ты мой, жутко да ознобно, и не знаю с чего. Гляжу на родителя – сидит, глаз с меня не спускает, прямо так вот и вонзился в меня… Охолодел я и замер весь, однакоже пересилился, думаю – дело мое правое, что мне робеть. Господь мне поможет. «Ну, Иван, – говорит батюшка, – перекрестись, и говори за мной чистосердечно, и гляди, говорит, прямо родителю твоему в глаза». А в руках у него бумага; перекрестился он и стал вычитывать… И вот тебе мое слово: ежели бы я отца родного убил и кровь его пил, и то бы те его слова ужаснули бы меня и всякого крещеного человека. Будь ты хоть какой злодей, и то бы пал и повинился! И невозможно пересказать этого!.. Даже дыхание у меня все сдавило, но чувствую я, что мне нельзя плошать, собрал все свое сердце в комок, прямо вонзился отцу в глаза и с твердою совестью каждое слово повторил… А родитель не сморгнет: белый весь, дрожит, глаза красные, так и впился. И который был в горнице, в сенях и на улице народ – точно помер! Долго ли, коротко ли… уж не упомню… только слышу: «Ну, целуй крест и евангелие!» Приложился я, ударило меня жаром всего, глянул я на народ, вижу – как будто хорошо! Веруют в меня, даже батюшка Сергий как будто подобрел… «Ну, думаю, Аграфена, крепись!..» А на ней лица нету. Подбодрить ее, знак дать, чтоб не робела, – сейчас по-кривому растолкуют… Тут я только уставил на нее глаза не хуже моего родителя – а родитель все такой же сидит, пронзительный. «Ну, – сказал батюшка, – иди ты, Аграфена!» Шевельнулся народ, и бабы зашушукали… Вышла Аграфена – ни жива ни мертва… Зло меня взяло… Гляжу на нее ястребом, а отец мой злым коршуном. Помолилась, поклонилась. «Ну, Аграфена, клянись за мной…» И стал опять же батюшка вычитывать… Что ж ты, братец ты мой? Ведь с третьего слова сбилась! Затряслась! залилась! завыла! Загалдел народ, разорвало у меня сердце, выскочил я да за волосы ее… «Ах ты, подлая! Осрамила ты меня, проклятая!..» Да, боже мой, что! И уж что было! И как и когда кончилось – ничего не помню! Весь в крови и в безумии бегу, бегу, братец ты мой, из деревни, и неведомо куда… Ох, батюшки, господи милостивый! Что такое бывает на свете? И не вздумаешь, не сгадаешь! А каков камень-то на душу навалил!»
– Что же потом-то было с вами?
– Ушел я! Ушел на заработок… Вот когда я по плотницкой-то части пошел! Не мог жить в доме! Нет моих сил! Едва родную-то мою, сестрицу-то, ведь не убил! Слегла хворая, горюшко-бедная! И уж жалости во мне не стало, не чувствую ничего, так и ушел! Вот ведь как на свете-то случается!..
– Где же теперь эта Аграфена? Жива?
– Да у меня же, – весело сказал Иван Николаевич, – друг ты мой сердечный, век доживает! У меня в дому! Помер родитель-то, царство ему небесное, – очувствовался, поверил, что не виновата… Ведь этому лет двадцать пять, а поди и побольше было… Теперь уж братишки-то мои поделились, а Аграфена ни к кому не пошла жить, век доживать, даже к детям, не пошла, только ко мне! «Возьми меня к себе, солнце ты мое золотое!» – вот ведь что и посейчас у ней обо мне! Старая-старенькая, сидит на печке, смерти ждет, умаялась, горькая. А вернусь я с заработков после Кузьмы-Демьяна: «Золотой ты мой!.. Дай-ко мне поглядеть-то на тебя, солнышко красное!» Вот ведь как!..
Мокрые были глаза у Ивана Николаевича.
– Нет, Иван Николаевич, все-таки ты добрая душа! – сказал я ему на прощанье.
– Благодарим покорно! Точно, что худова не люблю… А ведь эво какой грех вышел!
Урожай *
I
…После долгого, почти четырехмесячного отсутствия из места моего «жительства», часу в третьем темной и свежей августовской ночи, я вновь очутился на платформе «нашей» железнодорожной станции… и недоумевал: по крайней мере минут пять прошло с той минуты, как остановился поезд, и я вышел из вагона, а мой саквояж и так называемые «ремни» были еще в моих руках, то есть вопреки многолетнему опыту никто еще из местных мужиков не вырвал из моих рук этого саквояжа и этих ремней, никто из них меня не теребил ни за рукав, ни за полу, таща к своей телеге, никто не умолял, до земли кланяясь, чтобы я прокатился с ним, так как он уже второй день без работы.
В течение по крайней мере десяти лет я привык, подъезжая к нашей станции, чувствовать необходимость возбуждать в себе некоторую искусственную храбрость и даже искусственное ожесточение; я знал, что едва я выйду из вагона, как «мужики» меня «разорвут», расхватают вещи, разнесут их по разным повозкам, так что потом надобно и самому ругаться с мужиками и видеть, как мужики ругаются из-за пассажира. Искусственное ожесточение необходимо было на то, чтобы «отбиться» от мужиков, а для этого прежде всего необходимо было крепко «вцепиться» в свои вещи и сразу ринуться из вагона сквозь толпу к тому из мужиков, с которым порешишь ехать. Всему этому научила многолетняя практика; все это я проделал и в настоящий мой приезд на станцию, то есть заблаговременно прибодрился, вцепился в вещи и готов был ринуться грудью сквозь рвущую на части и орущую толпу, но вместо того вот уже пять минут, как я, «вцепившись» в вещи, хожу по платформе, а меня не только никто не рвет на части, не теребит, не тащит, ко, напротив, я сам жду не дождусь, чтобы кто-нибудь пришел, освободил меня от моих вещей, которые мне оттянули руки, взял бы их от меня и отвез бы домой.
– Что же это такое? – в недоумении вопрошал я сам себя, положительно не зная, чем объяснить себе такое необыкновенное явление.
– Позови-ка, пожалуйста, извозчика! – сказал я сторожу, оставшемуся на платформе, после того как поезд ушел.
– Да извозчиков нету, вашскобродие! – отвечал он.
– Отчего же нету?
– Да не видать что-то… И так публика жалуется… Сказывают так, что урожай господь дал – ну вот, им и неохота!
– Это верно! – подтвердил, подойдя к нам, какой-то сельский купец с подушкой подмышкой, также оставшийся без лошадей. – Урожай господь дал ужаственный! Сказывают, на два года хлеба хватит… Старожилы не запомнят эдакого урожая…
– Так нельзя ли сбегать, попросить кого-нибудь «из одолжения?»
– Ну нет, – сказал купец. – Навряд теперь кто поедет. Теперь, когда господь их так помиловал, погляди-кось, какого храпу они задают! Его пушкой теперь не прошибешь. Окромя как у лавочника, у Кузьмы Демьяныча, ежели честью попросить, пожалуй что навряд кто согласится. Он теперь, мужик-то, за сто рублей не проснется!
Решили послать сторожа к Кузьме Демьянычу.
– Да! – промолвил купец, испустив глубокий, облегчающий душу вздох. – Слава тебе, господи!.. Такая благодать господня на наших мужичонков свалилась, и непривидано!.. Такую поправку господь ниспослал – во сне никому не снилось… А мужикам хорошо – и всем будет поприятней!
Слушая эти слова, я чувствовал, что какая-то давнишняя, прочно улежавшаяся тягота, вдруг свалилась с моей души, привычной быть стиснутой и придавленной. Что-то свежее, теплое расширило мою грудь, облегчило и сердце и мысль, и вообще все и во мне и вокруг меня как-то осветлело, и все от этого неожиданного слова – «урожай»!
«Неужели в самом деле „хватит“ на два года?» – радостно думал я, но непривычная к светлым фантазиям мысль не смела еще представить себе всех тех последствий «божьей благодати», которая посетила наши вечно полуголодные места.
И в то же время я ясно сознавал, что нельзя иначе назвать то, что неожиданно посетило наши полуголодные места, как именно «божья благодать». Что это такое «урожай»? Что такое «хватит на два года хлеба»? Это значит, что в каждой семье и в отношениях одних семей к другим, а затем и в отношениях общественных окажется возможность «жить и поступать по совести».
Здесь, вот в этой семье, ребят больше, чем можно прокормить, а труда и не сосчитать как много сравнительно с тем, что дает скупая земля, – и у человека на душе тьма, тоска за ребят, злоба на бабу, которая родит без всякого смысла и расчета, злоба на соседа, которому не пришлось отдать занятого в срок и который, однако, на основании своего права, также может быть злым, может жаловаться, мучить, может довести до мысли о мести, то есть до явной неправды, до желания сорвать злость «за все это» на бабе, на ребенке, или залить горе в кабаке… Это – когда не родило, когда земля поскупилась вознаградить тяжкие праведные труды; но все это зло, и вся эта тоска, и вся эта неправда, все прахом рассыплется теперь оттого, что господь уродил хлеба на два года: жена вовсе невиновна, что много нарожала, – всем, слава богу, хватит; с соседом, у которого было занято, никакой ссоры и кляузы не выйдет – все будет отдано «с удовольствием», в срок, час в час, по честности: «слава богу – есть!»Судейской кляузе места теперь нет, не придерется и старшина: все в порядке, все отдано, заплачено, без ссоры, без понукания, без выдумки о том, чтобы как-нибудь изловчиться не заплатить или избежать наказания: все хорошо, у всех на душе спокойно, чисто, невиновато, не скребет, не точит, не ест… И в себе и в людях все осветлело, все думается и делается по-настоящему, «то есть с свободным духом», не запутанною совестью.
Истинно «божия благодать»!
Но опять-таки скажу, нехватало моей фантазии представить себе всю массу благообразнейших явлений, которые эта божья благодать произведет в народной жизни и в народной совести; нехватало потому, что в наших по крайней мере местах урожай, да еще такой, который дает хлеба на два года, – явление положительно незапамятное. Старожилы действительно не запомнят ничего подобного, да и я, хоть и не могу считать себя старожилом здешних мест, все-таки утвердительно могу сказать, что по крайней мере в течение десяти лет моего пребывания в здешних «лядинах» я ничего подобного не могу припомнить и ни на каких перспективах, проистекающих из «божьей благодати», моя мысль не имела случая упражняться.
Напротив, весь строй народной жизни (разумеется, непосредственно отражающийся и на жизни культурных и правящих классов) на моих глазах в течение десяти лет был непрерывно изъязвлен отсутствием божьей благодати и гибельно действовал на душу напряженной, неласковой, неправдивой сущностью явлений окружающей жизни. «Нехватает» быть любящим отцом семейства, «нехватает» быть исправным кредитором, «нехватает» быть исправным плательщиком – и все эти совершенно простые «нехватки» устранялись на моих глазах всегда каким-либо насильственным путем: в семье – семейной ссорой, бранью, причем ребята заснут с испугу,забыв про голод, из-за которого и вышла брань; в соседских отношениях – кляузой, сплетней про куму Аксинью, с которой, мол, ты и т. д., вместо аккуратной отдачи долга; в недоимке – драньем в волостном правлении, как известно, также заменяющим урожай, и затем в кабаке, как месте забвения всей этой лжи.
А господа, которые вращаются вокруг народа, разве и они не ощущают в глубине своей совести, что самые строжайшие их поступки и самые гуманнейшие распоряжения в сущности только заменяют собою «нехватку» самую элементарную и что ни в распоряжениях их, ни в мероприятиях не было бы никакой надобности, если бы господь послал урожай? Пошли господь урожай – и не надобно изобретать нераскупоривающихся бутылок как меры против уничтожения пьянства, потому что не из-за чего будет драться с семьей, кляузничать с соседом и вообще незачем будет отягчать свою совесть, а везде все будет сделано как следует. Пошли господь урожай – и судебному приставу не будет никакой надобности производить опись имущества «с сопротивлением», и становой пристав не получит от разъяренной бабы удара палкой по голове, и господину прокурору не будет надобности произносить громокипящую речь, исполненную неправды, и адвокату не надобно будет форсить своим гуманством, да и в остроге не будет сидеть лишний якобы преступник. Как-никак, а у всех этих господ: и у того, кто изобретает нераскупориваемую бутылку, и у того, кто вызывает сопротивление и буйство бабы, и у того, кто сажает виноватого в острог, – у всех у них напряженно, нехорошо на душе: все ведь они знают, что корень дела – нехваткатолько, больше ничего; знают они это по совести, а вот поди же! принуждены почему-то ломать и кривить ею, коверкать ее, как принужден кривить и коверкать ее мужик, бьющий бабу с голоду, подводящий кляузу против соседа, засуживающий своего соседа неправедным судом.
Положительно все десять лет моей деревенской жизни в неразрывной связи с жизнью культурных классов были исполнены непрерывно ощущаемою тягостною фальшью – всеобщим стремлением истинную и простую нужду и истинную причину, источник живой жизни, всегда, к сожалению, тощий и скудный, то есть самую простую, всем понятную, видимую и осязаемую «нехватку» затмить, запутать в каком-либо фальшивом мероприятии – все равно, драка это, или пьянство мужика, или опись с «сопротивлением», или выдумка бутылки. А в глубине совести всех этих людей, желающих затмить «нехватку» всевозможными мероприятиями, – тоска, холод и тяжкая пустота. Скучно и среди городских людей, воротившихся из деревни после описи «с сопротивлением» и играющих в винт, скучно и среди мужиков, дерущих друг друга в волости, кляузничающих друг на друга, дерущихся с своими детьми и бабами и, наконец, пьющих сивуху, чтобы заглушить тоску и неправду совести.
«Так вот этой-то тоски и неправды и не будет теперь и следа!» – думалось мне, когда я, поджидая посланного за лошадьми, сидел на чугунной лавочке, поставленной на платформе, и с каждой минутой все ясней и ясней представлялось, какое огромное значение имеет «нехватка» во всем строе народной жизни и особенно в настоящий ее момент.
II
Немало и даже очень, очень немало найдется в настоящее время и во всех классах культурного общества людей, которые, подобно Пушкину в недавно напечатанном его старом стихотворении, с полной искренностью скажут себе:
И немало есть образованных и культурных людей, уже не только замышляющих побег, а уже бежавших, «вырвавшихся» и пробующих жить вольно, тяжелой трудовой жизнью, оберегая «покой и волю» своей души; много на Руси и в настоящее время такого народа, но все-таки это капля в море сравнительно с тем чисто народным, крестьянским движением, которое имеет в основании все ту же цель – жить чисто и чувствовать свою душу не в клещах лжи – и которое поистине гудиттеперь на Руси.
Что значит это непрерывающееся переселенческое движение в Сибирь, на юг, кругом света на дальний восток, как не поиски «обители трудов и чистых дел», необходимых для «покоя и воли» собственной совести? А эти огромнейшие, миллионные толпы рабочих, наводняющих весь русский юг, весь Кавказ, – что это, как не выражение глубочайшей потребности помощью заработка собственных рук и собственного хребта выбраться из мучительно-фальшивых условий жизни, созданных «нехваткой», и освободить свою совесть от ненужного зла, обязательного там, где «нехватка» не считается просто «нехваткой», а затирается тяжеловесными, режущими душу мероприятиями, от которых человек только «усталый раб»?
Ничего подобного ни в качественном, ни в количественном отношении не переживал наш народ в течение всего крепостного периода. Двадцать три тысячипришлых из внутренних губерний рабочих нанято в селении Каховке (Херсонской губернии) в течение одного дня! [2]2
«Севастопольский листок».
[Закрыть]А таких рынков для найма рабочих в настоящее время по всему югу России и Кавказу множество. Но и помимо таких бойких пунктов, куда стекаются рабочие десятками тысяч, нет ни одной мало-мальски порядочной станицы, посада, уездного города, где бы в базарные дни на торжище не толпились сотни и тысячи рабочего люда. Если принять в расчет, что руками этого пришлого народа обрабатывается такая огромная территория, как весь русский юг, то есть территория, лежащая к югу от линии, идущей с устьев Дуная на Киев, Харьков и оканчивающейся примерно у Астрахани, – а главное, если принять в расчет, что помимо той массы рук, которая обрабатывает всю эту округу, едва ли меньшее количество рук остаются незанятыми, не находящими работы, то, мне кажется, и без точных статистических данных можно видеть, какую массу народа выбрасывает на чужбину из «своих мест» «нехватка» в самом необходимом.
Не менее замечательно это народное шатание и в качественном, то есть в нравственном смысле. Если никогда в течение всего крепостного периода по Руси взад и вперед, с одного конца на другой, не шаталось таких народных масс, то в то же время никогда человеку из народа не приходилось так много переживать, передумывать и «узнавать», что творится на белом свете, как это вышло теперь с не находящими покоя и воли народными массами. Крепостной мужик, прикованный к своему месту помещичьей властью, во веки веков и понятия бы не имел о том, с чем приходится сталкиваться оторванному от своих мест мужику. Хозяйство, барщина, бурмистр – вот с чем и с кем он имел дело всю жизнь, от рождения до смерти, и притом целыми поколениями. Убеги он, его поймают и опять приведут на старое место. Теперь бегуна от «нехватки» не тянут силком на старое хозяйство, предоставляют ему полную свободу, и, пользуясь этой свободой, чего только не знает он «про белый свет» – в особенности про современную русскую жизнь!
Толпы эти идут от «нехватки» за заработком – цель, кажется, вполне определенная; но всесильный случай,тяготеющий над крестьянином во всех путях его жизни, поминутно сбивает его с прямого пути, ставит в неожиданные непредвиденные положения и обогащает его мысль познанием таких явлений в современных порядках жизни, о которых ему бы и во сне не приснилось. Попробуйте-ка пропутешествовать из Курской губернии в Сибирь или вокруг Индии во Владивосток и потом, увидав, что там ничего подходящего нет, воротиться назад (а недавно было публиковано в газетах о возвращении из Сибири пяти тысяч переселенцев) – и вы можете сами представить, какой огромный запас «знаний» по всем отраслям русской действительности должен принести с собой этот путешественник. Если мы, проехав в вагоне тысячи полторы верст, можем накопить томик большею частью не совсем приятных впечатлений, что же принесет с собой этот путешественник, этот пешеход, промолотивший своими стопами тысячи верст, где христовым именем, где работой, где голодом, – словом, человек, видевший жизнь в самом подлинном виде?Мы ведь, например, хоть бы с начальством только компанию водим в часы досуга, по бульвару под музыку гуляем, в винт играем, – словом, видим его, когда оно «отдыхает от трудов»; а ведь путешественник-то, о котором идет речь, видит его на деле, видит, за что ему «царь жалованье платит»… А не путешествуй он – и во веки бы веков ничего он этого не узнал…
Точно такой же огромный материал для «самообразования», поистине незаменимый никакими из существующих по части уяснений русской жизни книг и других литературных произведений, всевластный случай дает и миллионным массам рабочего люда, идущего только на заработки. Двадцать три тысячи рабочих, о которых я говорил выше, могли бы совсем остаться без работы, то есть частью помереть, частью разбрестись неведомо куда, если бы господь не послал в одном из уголков Херсонской губернии дождя. Пока не было дождя, они никому не были нужны; но вот где-то господь послал тучу, туча хлынула на землю, и отовсюду слетелись хозяева, а по телеграфной проволоке застучало: «Одесса. Рансом и Симс. Пришлите пять молотилок, четыре косилки». Через два часа (дождь все идет) телеграф стучит: «семь молотилок и восемь косилок» и еще через час: «десять молотилок, десять косилок» и т. д.