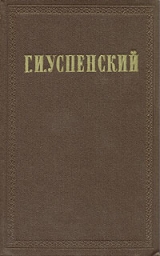
Текст книги "Том 7. Кой про что. Письма с дороги"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 45 страниц)
2
Не могу, однакоже, сказать, чтобы мое смиренно-мудрое путешествие обошлось вполне благополучно по части полного отсутствия впечатлений, расстраивающих смиренное и неподвижное настроение духа. Напротив, уже давно, то есть лет пять-шесть, на мою долю не выпадало так много искушений по части общегоразговора, как именно в эту, не имевшую определенной цели, поездку. Пять-шесть последних лет поездка по России – по железным дорогам и на пароходах – была делом самым скучным и томительным: общего разговора, такого разговора, который захватывал бы весь вагон, как это бывало еще на нашем веку, в последние годы совершенно не существовало; от Петербурга до Одессы, до Севастополя – словом, чрез всю Россию можно было ехать, не сказав ни с кем ни единого слова. Нужно было заглянуть в третий класс, чтобы вспомнить, что есть на свете смех, шутка, беседа, рассказ, – в первом и во втором классах стал ездить удрученный молчанием интеллигентный человек, казалось, совершенно утративший дар слова. Отправляясь в смиренно-мудрое путешествие, я именно рассчитывал на сообщество замолкнувшего интеллигентного человека, надеялся при помощи его благосклонного и деликатного молчания окрепнуть и в своем убеждении по части отстранения своей мысли от всякого живого беспокойства, – а вышло наоборот: общий разговор вдруг, как говорится, «взял» да и ожил, – да ожил-то не только в интеллигентном человеке, а что особенно удивительно – буквально во всех классах общества, не в одном первом и втором классах вагонов и пароходов, а положительно среди всякого звания людей, пассажиров всяких классов и людей всяких сортов умственного развития. Известное всем распоряжение, касающееся школ и детей, кажется, действительно наконец-таки пробрало весь «чудовский хор», задело за живое и заставило заговорить человечьим языком все человекообразные материалы, заготовленные для сооружения третьего Рима, материалы, которые до сего времени долгие годы, несмотря ни на какие потрясения, действительно сохраняли непоколебимое спокойствие подлинных кирпичей. Зацепило это распоряжение словно железным крюком и прямо за живое мясо;впился он, этот крюк, в «махонького», в «рабенка», – и кирпичеобразный человек наконец-таки почувствовал боль, боль собственной своей кирпичеобразной шкуры… «Человека» этот римский строительный материал, как известно, не особенно уважает даже и в своем собственном ребенке, раз этот ребенок вырос, осмыслялся и задумал не потакать тятенькиным безобразиям; в таких случаях, как известно, римский кирпич не задумывался прямо «представить» своего сына куда следует и объявить его подлежащим искоренению; но «рабенок», плоть от плоти, кровь от крови, который только еще радует родителя и еще ровно ничего не понимает, и его-то зацепить крюком – нет! на это у нас еще сохранилась капля волчьей слезы!.. И если бы я не был так основательно доведен до убеждения в том, что никаких фантазий для русского человека пока что не полагается, – то непрерывный, оживленный разговор, касающийся участи «ребят» и не дававший мне должного спокойствия в течение всей дороги от Рыбинска, по Волге и Дону, до Ростова и далее, – этот разговор должен бы был привести меня в восхищение: так необыкновенно радостно было видеть подхалима и предателя, которого наконец-таки прошибла же настоящая слеза, слеза сожаления и раскаяния в своем бездушии и бессердечии… Но я сильно вообще поутих в мечтаниях и, несмотря на радостные слезы, которые начинали было журчать где-то под сердцем, я предпочел встряхнуться и освежить в своем сознании новую формулу моей смиренно-мудрой жизни. А разговоры на животрепещущую тему случались иногда весьма любопытные.
Остановился американский пароход Зевеке у пристани какого-то волжского городка или посада. На горе – церкви, каменные дома и городской сад-бульвар, на пристани – носильщики, торговки, публика. На всю эту обычную картину волжских пристаней, при каждой остановке, обыкновенно с верхней галерейки парохода, от нечего делать, глазеет пароходная публика.
Столпилась такая-то кучка разного народа и в этот раз; тут и англичанин с англичанкой, и барин в картузе с красным околышем, и «человечек» по хлебной части в старом пиджаке с оторванным на спине лоскутом, и «батюшка» с матушкой, и купец с седой бородой, типа иконописного, – словом, собралось много людей всякого звания: кто просто стоял у перил, кто стоял облокотившись на них, кто сидел на белом деревянном диванчике. Человечек по хлебной части неустанно ел подсолнухи и плевал скорлупу куда попало. Все ждали отхода парохода, глазели, топтались и переминались и почти не разговаривали.
Но вот на берегу, на бульваре, послышались звуки музыки: скрипки, флейты и кларнеты давали о себе знать отрывочными визгливыми звуками, напоминавшими вопли испуганных и находящихся в каком-то переполохе кур, – но какая-то труба заявляла о себе чрезвычайно решительно и твердо. Короткими, толстыми и тяжелыми, как хорошие березовые дрова, звуками кидала она в средину воплей раскудахтавшихся кларнетов и флейт, всякий раз совершенно без малейшего, так сказать, остатка, заглушая всю суматоху и все неистовое кудахтание в музыкальном курятнике. Пиэса, исполняемая оркестром, по мере приближения к концу, шла все более и более ускоренным ходом, и труба стала разбрасывать свои полена все чаще и чаще и притом во все стороны: направо и налево, вниз, вверх, по воздуху, по куриному воплю, в пароход, и даже за Волгу – и, наконец, зашвырнув последнее полено, по-видимому в крапиву, рядом с собой, – так короток был этот последний звук, – замолкла совершенно неожиданно.
– Ну теперь, надо быть, и стадо начнет собираться! – проговорил человечек по хлебной части в разорванном на спине пиджаке. Проговорил он это, по-видимому, сам с собой, ни к кому не обращаясь, глазея на пристань и город и поплевывая подсолнечную скорлупу.
– Какое стадо? Откуда? – вопросил его также простонародный человек, поплевывая ту же подсолнечную шелуху. – Чего говоришь-то?
– Чего говорю? Слышал, в трубу трубили на бульваре?
– Ну?
– Ну – это и есть, что вышел пастух, в трубу заиграл, а теперича и стадо должно на этот самый рожок собираться… Как скотина-то в деревнях собирается? Знаешь? Ну, так и тут…
– Кака тут скотина?
– Ты чем слушаешь-то? Ухом или брюхом? Я что говорю? Я говорю: в деревне затрубит в трубу, заиграет во рожок пастух, – и начинает собираться скотина… В городе же, как только в семь часов музыкант затрубит в трубу, – так начинает собираться особенное стадо – не скотов бессловесных, – понял ты, что я говорю, или нет? – а высшее образованное общество, господа, чиновники и прочий отборный фельетон… Расчухал теперь? Видишь, вон чиновник выползает из-под горы? Это он на рожок пошел… Не нашему же брату-мужику под музыку слоняться до полночи… Вроде как стадо, – собирается высший свет на выгон, к буфету… Ишь, чиновник-то выгребается в гору, словно муха из банки с вареньем, слаб, устал, утружден… Эй! Труба! Ну-ка! дерни хорошенько, подбодри его, подшвырни на гору-то!.. Говорилось все это не спеша, якобы совершенно серьезно, но публика третьего класса оценила остроумца, и то там, то здесь слышалось одобрительное гоготанье. Человечек по хлебной части, казалось, разошелся и готов был продолжать свой насмешливый монолог, но его перебил господин в фуражке с красным околышем.
– Что? Что? – чрезвычайно ласково, но с явным гневом в голосе и в лице произнес господин с красным околышем, медленно подходя к «человечку по хлебной части». – Что такое? Скотина… господа… образованное общество… Причем тут господа и скотина?
Человечек, все время стоявший у перил и смотревший на город и пристань, не обращая, по-видимому, никакого внимания на соседей, обернулся. Пред ним стоял барин, и хотя барин этот улыбался и спрашивал ласковым голосом, но человечек понял, что ему надобно вывернуться.
– Это я, господин, не своими словами сказал… все больше вычитываю в фельетонах… Люблю чтение-с: очень хорошо иные писатели на губах играют…Это я все из фельетона произнес.
– Вот как? – еще ласковей и нежней. проговорил (даже пропищал) барин… – Так вы и фельетоны любите? Тоже, должно быть, и вы из какого-нибудь образованного свиного стада? да?
– В наших местах свиней не держут-с!
– Вероятно, в ваших местах все свиньи?
Барин, очевидно, сильно сердился, – но продолжал речь все нежным тоном. Человек же тоже чувствовал себя весьма неловко и хотя, видимо, был обижен, ответил барину на его последнюю дерзость довольно-таки робко:
– Грехом бывает и люди попадаются! Не все свиньи-с…
– Ну да – я знаю!.. Вот вы, например… Вы, вероятно, по коммерческой части?
– Точно так-с!
– Насчет своего брата мужичка-с?.. Едете, вероятно, по части хлебца, то есть за шкурой?.. да?.. Подкараулите за заставой, выскочите из-за куста, цапнете за загривок, сдерете с него все, с мясом, – и в карман спрячете?.. да?..
Человечек был так ядовито отстеган барином, что несколько мгновений не мог проговорить ни слова и делал вид, что его внимание занимают только подсолнухи, которые он продолжал грызть, стоя к барину боком, – но не обидные барские речи. Заметно взволновавшийся барин хотел было уйти, круто повернувшись в сторону, но человечек неожиданно оживился и проворно проговорил:
– А вы, ваше благородие, куда изволите деньги класть, в случае выкупные, или по первой закладной, и затем по второй и по третьей и в окончательном смысле – из дворянского банка?.. в карман или в особенное какое бездонное место?..
Барин также не ожидал этого вопроса и остановился в недоумении, глядя на явно и непритворно сердитое лицо человечка. Он было хотел что-то сказать, но его перебил совершенно посторонний голос. Во всю глотку кто-то прокричал басом:
– Чего ты? Это мы в карман норовим копейку залучить, а они – всё за галстух прячут! Аль ты не знал? Чудак!
Публика, чуявшая, что начинается неласковый разговор и чувствовавшая себя неловко, вдруг разразилась дружным и громким хохотом. Барин не только не потерялся от этого взрыва смеха, но догадался и сам присоединиться к развеселившейся толпе и тоже громко захохотал:
– Превосходно! Вот это умно!.. Ха-ха-ха! Действительно, брат, не мастера мы с деньгами орудовать! Иной мужик с двугривенным обдерет всю деревню, а мы с сотнями тысяч не сумели нажить рубля и не изловчились содрать ни одной человеческой шкуры. Совершенно, совершенно верно – и как умно!
Повеселел от этой неожиданной выручки и человечек «по хлебной части». Выбросив за борт последнюю горсть остатков от подсолнухов, которые оставались еще в кармане пиджака, он сел на лавочку, стал вертеть папиросу и серьезным тоном заговорил:
– Умно!.. Ишь, как ему удивительно показалось – мужик и может умно говорить! А ты думал (барина, к которому человечек по хлебной части, очевидно, обращал свою речь, на этот раз не было на площадке) – а ты думал у вас ум-то? Ваш ум какой? Пошёл в банк в январе да в июле, нарезал себе мешка два хорошего купону – вот и ум тут весь твой! Кабы нашему брату, бедному человеку, ход был к свету, мы бы оказали свой ум – не беспокойтесь, сделайте одолжение… Извольте-ко почитать про министра Ломоносова, как он достиг высшей степени, – а был простой лапотник… А нониче швейцар какой-нибудь учебный действительно тебе нос сломает дверью, только сунься поучиться… «Пшел, невежа, нищий!» В газетах-то вон какую прокламацию опубликовали: сколько, говорит, у тебя комнат, кучеров, поваров, калош, галстуков и штанов… А у меня одни штаны-то, и в таком случае я всю жизнь должон быть в полной тьме, как свинья не смею поднять головы кверху… Грабите, шкуру дерете, – да! Чего нам делать? Коли одну шкуру чужую предоставляете нашему брату? Чего мне делать? Я слепой щенок, у меня и глаз нету… «Грабитель-невежа!» – вот наш аттестат… А вон мадам в Соболевском переулке в Москве действительно имеет шестнадцать комнат с мезонином – и ей доверие… От полиции на лучшем счету; воспитает сынка, потихоньку от своего здания, может вывесть его на высокую ступень, – нашего же брата будет в тюрьму сажать за кражу… А откуда я пять комнат возьму? Конечно, должон воровать, ежели добром не дают… Нет за нас, темноту, нету защитника! Теперича к ученью не то что мы, деревенщина, – а и прочих сословий люди не могут приткнуться, а уж наш брат так всю жизнь, веки вечные, и оставайся скотом!.. Вот тебе рубль, иди в кабак, слушай шарманку, пей и помирай, – всё тут! И детям нашим тот же результат, и навсегда!.. Заступиться за нас некому! Некому, господа, заступиться за нас! Слышите? Некому! Некому за нас, бедных, заступиться, братцы вы мои, – вот в чем! – а башка у нас существует на своем месте – вот она! видишь! пощупай! Ты думаешь, это арбуз или камень?.. Голова, ей-богу же, человечья, пред богом уверяю вас!
Хорошо и душевно сказал все это человечек «по хлебной части». Душевность его речи мешала ему справиться с папиросой, которую он принялся делать по уходе барина, – руки у него тряслись. Публика ему, видимо, сочувствовала, хотя он и не обращался к ней; Сосредоточив свое внимание, по-видимому, только на папиросе. Наконец она была готова, и он дрожащими руками закурил ее.
– Так-то! – сказал он в заключение. – Живи под полом, в норе, и тем будь доволен!
– Правда, правда!
– Ты-то что скучаешь? Тебе-то что? У тебя все-таки, если ты мужик, у тебя есть лоскут… картошка… А ты посмотри на нашего брата.
Эти слова произнес, подходя к человечку по хлебной части, по-видимому отставной полицейский чиновник: желтый кант его фуражки и пальто обличали его служебную специальность, а крайняя поношенность полицейской одежды, отсутствие кое-где пуговиц и вообще унылый и изнуренный вид – говорили о его бедности и, стало быть, об отставке.
– Я семнадцать лет тер лямку становым приставом – н вон видишь, – сын мой стоит?.. Я его везу обратно, назад, – его отказались принять в гимназию, – он не обеспечен, для него не может быть никакой карьеры, кроме как в сапожники… Это мне доказали как дважды два… Он отпет навсегда!.. Понимаешь ли? А он у меня одна надежда, – он последний, единственный мальчик… У меня, кроме его, четыре взрослых дочери… а сам я болен, потерял место, – и вот порадуйся!..
– Да чего!.. – сказал человечек, махнув рукой, – говорить не остается.
– Я, – продолжал становой, – и место-то и здоровье-то потерял на службе… Ведь наше дело каторжное! Ведь нашему брату прямо на рожон лезть надо… Не отдает мужик денег – надо вырвать их вот этими руками, прямо из горла выдрать… Ведь имущество описываешь иной раз – сердце разрывается, – а нельзя! Дерешь с него без снисхождения. Надо пить-есть. Семейство! В нашем уезде одних сопротивлений властям – счету нет; откровенно сказать, еще во множестве мест не вручены крестьянам даже владенные записи… Надо бы подождать, поразобрать как должно, да тогда уже и взыскивать… Но это дело не наше. Пришлют бумагу, надобно исполнять – и лезешь, лезешь прямо на вилы… Сколько раз жизнь на волоске висела… Однажды бабы меня спасли от явной смерти: «Вались в телегу, мы на тебя сядем и вывезем». И навалилось на меня шесть баб! Уселись, песни заиграли, как ни в чем не бывало, вывезли меня за пять верст в лес, – а я уже без чувств! Едва не задохнулся, и все внутренности повреждены от тяжести… Легко ли – шесть тетех! Да и за то спасибо – хоть жив-то остался! Жив-то остался, – а с тех пор и чахну и таю… Неисправности пошли, потом – подвели, а потом, как водится, и упекли… Стал не нужен. Полтора года ищу места – все занято… Всю жизнь бился, совесть свою уничтожал, думал, что по крайней мере семью обеспечу, что дети не будут так себя тиранить, как тиранил отец… Да, наконец, просто думалось, хоть кусок хлеба будет… А вместо того – извольте получить камень, а сыну вашему – нет ходу! вороти назад, в сапожники!.. И это меня, родного отца, при моем же ребенке убеждают ласковыми словами, что он уже пропащий, что ему не видать света, как своих ушей, что ему надо спешить – спешить в сапожники-то попасть, а то и этого не будет! Право, яду бы давали без разговору!.. Ласковыми словами, с экивоками, с рукопожатиями, с соболезнованиями, с вежливостью (прошу садиться! на этот, на мягкий стул… папиросу?) приговаривают малого ребенка к гробу, доказывают ему, что по расписанию для него всего приличнее и выгоднее заблаговременно лечь в могилу! Где же у них бог-то!
– В портмонете, – больше у них никакого бога нет. Это верно…
В средине монолога, который произносил отставной становой пристав, его мальчик, стоявший поодаль спиной к нам, стал оглядываться, потом, поняв, что речь идет о нем, отошел подальше, потом еще подальше и, наконец, горько всхлипывая, убежал на другой конец парохода…
– Громко вы… о могиле-то!.. – сказал вновь появившийся среди речи станового барин… – Это его тронуло…
– Как не тронуть… Мальчик в полном отчаянии… Ведь вы подумайте только: ему, юной душе, доказывают, что он зачислен, по таким-то и таким-то обстоятельствам, в разряд людей, которые обречены на погибель!.. Когда это говорились проповеди на такие темы? Конечно, я неосторожно… при нем… Но я сам в отчаянии!.. Я служил бесстрашно… Не думал о себе… греха принял много на свою душу… и моему ребенку рекомендуют могилу?..
– Но позвольте! – мягко заговорил барин с явным желанием успокоить взволнованного отца. – Все это так… все верно. Но согласитесь, что должен же быть положен предел развитию чиновничества? Оно съедает восьмисотмиллионный бюджет! Что же будет, если количество людей, стремящихся жить жалованьем, вынудит на постоянное изобретение новых должностей и, стало быть, новых налогов? Ведь правительство…
Со всех сторон послышались протестующие возражения, – но все они были тотчас же прерваны резкими, торопливыми, звонкими словами неожиданно заговорившего старика, по виду напоминавшего иконописные изображения.
– Без должностей проживем, без бога не проживем, господин барин! Это мы понимаем, что правительству трудно! Не надобно нам должностей! Благодарим! Господь нас питает без жалованья! Брюхо у нас не голодно – душа голодна!.. Премудрости божией мы не видим и не постигаем – ее нам давайте! Зачем она от нас сокрыта? Давайте нам ее без правов!.. Вы вот изволили говорить, – и он вот тоже упоминал (старик указал на человечка по хлебной части), – что живем грабежом нуждающегося человека, шкуру дерем?.. Дерем! Дерем шкуру! Потому во тьме живем, в невежестве и грязи. Я деру шкуру для семейства, не знаю способов жизни. Но я надеюсь, что семейству будет светлей жить, оно добром искупит мои грехи… Учите нас добру! Мы ведь свиньями живем, нам премудрость божия – тайна… Что же я без познания премудрости божией? Труп смердящий, гроб гнилой! Довольно, – напились мы, наелись, наворовались, налгались, надрались, наскандальничали, наразвратничали! Довольно нам трактиров, нумеров, бань, арфисток и всякого пьянства и распутства… Отпустите чего-нибудь побольше! Мала очень порция – на всю-то землю! В ней ведь сотни миллионов людей!.. Я сам, каков я ни на есть, а пойду к высшему начальству, паду в ноги ему и возопию…
– Никто, брат, за тебя не заступится! Сколько ни кричи!
– Самому надо заступаться! Что мне деньги да кабак!.. Пора нам и совесть развязать… Самим надо заступаться!..
– Попробуй, сходи! а так никто, брат, за нас с тобой не заступится… Не ожидай никакой опоры… На господ надежда плоха!..
– Что «на господ»? – переспросил барин.
– Да надежды на вас бедному темному человеку нет. Вот что. Хоть пропади он, – не заступитесь вы за него ни вовеки… Чего вам опасаться? Вам все дадено. У вас восемь комнат, следовательно, вы завсегда правы, а я завсегда виноват, потому у меня угла даже нет… Нет! Нету, нету нам защитника! Нету, ребята, защитника нам! Слышите, что ли? Так и полезай под пол, живи как слепая мышь!
. . . . . . . . . . . . . . .
Дальнейшее течение разговора шло поспокойнее и потише. Почти все собеседники согласились на том, что за дело обновления русского народа наукой и знанием должно взяться само общество. Богатства есть в нем огромные, нужно только убедиться в огромности цели народного просвещения – и в России всякий будет учиться, всякому будет открыт путь к знанию. Нужно открывать всевозможные учебные заведения, не стараясь добиться чрез них каких-нибудь привилегий, льгот, карьер… «Человек создан по образу и подобию божию, – говорит старик: – бог же премудр, и, следовательно, человеку обязательно по образу божию усвоить себе и божию премудрость! а не то чтобы из-за прогонов или квартирных хлопотать… С голоду не помрем!» Во всех этих разговорах и рассуждениях по временам слышится попытка оправдаться в недавнем предательстве почти целого русского поколения, пропавшего, как говорится, зря для земли, нуждающейся в искренних и добрых людях и работниках… Тупоумие, холопство, фарисейство и заячья трусость сказываются, к сожалению, и теперь m разговорах по жгучему вопросу, – но все-таки хоть что-то нибудь живое шевельнулось в расплюснутой обывательской совести – и то слава богу!
Рассказ станового долго не выходил у меня из головы и памяти, так же как и образ расплакавшегося мальчика. В самом деле: ребенок приходит в школу, становится на нейтральную почву, на которой он отрешается от домашнего семейного горя, гнета, забот, огорчений, нужды, всех пут и мелочей его частной жизни, его личного положения, лично для него сложившихся обстоятельств и влияний, – и оживает в сознании, что теперь, со школьного порога, начинается жизнь ничем не связанного ума, совести, таланта. С этого порога для него начинается духовная жизнь, жизнь души, не имеющая ни связи, ни зависимости ни с какими материальными невзгодами частной жизни и ни с какими душевными несчастиями, из этих материальных невзгод вытекающими… Здесь он будет получать общую, одинаковую со всеми товарищами, духовную пищу, никому не достанется больше блюд или блюд более вкусных, чем ему, – все здесь уравнены пред знанием: здесь-то и начало личности человеческой, начало таланта, дарования, оригинальности мысли. Здесь <он> первый раз ощущает себя, свои силы, в первый раз он «сам».Здесь сын миллионера, осыпанный всеми благами достатка, может оказаться бездарным, а сын сапожника, исстрадавшийся от нищеты и побоев, – гением: нищета заставляла голодать и от побоев болело тело, – но душа была цела и, очутившись в том воздухе, в котором она единственно и может жить, – стала жить… Так вот, в такую-то минуту жизни, добрые люди нашли возможным, по собственным соображениям, на пороге пробуждения духовной деятельности в человеке, убивать этот зачаток жизни страхом материальных страданий, омрачать светлую душу ужасом пред куском хлеба, лишать мысль всяких перспектив, доказывать неосуществимость каких бы то ни было светлых надежд в будущем, обрекать на неизбежное страдание и доказывать эту неизбежность… Ребенок, у которого в ушах еще звучит песня няньки, обещавшей ему: «вырастешь велик, будешь в золоте ходить», приходит из трущобы, где живет портной, его отец, и где он, однакоже, привык верить в то, что он в трущобе временно, что ему тут скучно, что он будет же ходить в золоте, потому что он хороший мальчик, не хуже других, – этот ребенок приходит в школу, то есть туда, откуда именно и начинается развитие его духовных сокровищ, вовсе не зависящих от его дырявых сапог, – и здесь-то, на самом пороге рассвета жизни, его сразу, на веки веков, на всю жизнь, жалит на смерть ядовитое жало смерти, жалит прямо в сердце, в мечту, в мысль… Идея о «куске хлеба» придавливает его, как обрушившийся каменный свод, и мышиная нора без света и воздуха – на всю жизнь, на весь век – является единственным прибежищем духовно убитому, ошеломленному страхом и мраком человеческому существу…
Право, немудрено, что и из волчьих глаз наконец капнула слеза… Но я еще не вполне уверен в благих последствиях этой слезы и не могу не задавать себе по временам скептического вопроса:
«Да неужели же в самом деле наконец-таки пробрало?»








