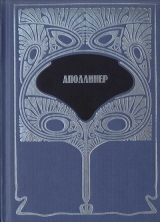
Текст книги "Т. 3. Несобранные рассказы. О художниках и писателях: статьи; литературные портреты и зарисовки"
Автор книги: Гийом Аполлинер
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
© Перевод И. Шафаренко
Обычно считают, что англичане – самые флегматичные люди на свете. Это заблуждение. И подлинная история, которая так и осталась никому не известной, хотя она поистине необычайна, убедительно доказывает, что некоторые французы и даже парижане в этом смысле дадут сто очков вперед хладнокровным островитянам.
* * *
1 января 1907 года в десять часов утра господин Людовик Пандевен, богатый негоциант с улицы Сантье, роскошный дом которого находился на улице Буа-де-Булонь, взял фиакр на площади Этуаль.
– На вокзал Сен-Лазар, к поездам дальнего следования, – сказал он, – и побыстрее, я должен поспеть к гаврскому поезду.
Господин Пандевен ехал в Нью-Йорк по делам, и с собой у него был всего один маленький чемоданчик. Времени уже оставалось в обрез, и фиакр подъехал к вокзалу всего за несколько минут до отправления поезда. Господин Пандевен протянул кучеру билет в тысячу франков, но у автомедона [13]13
Автомедон– в греческой мифологии возничий Ахилла. Имя стало нарицательным для обозначения опытного, профессионального кучера.
[Закрыть]не оказалось сдачи.
– Подождите меня, – воскликнул негоциант, – и скажите ваш номер. Я скоро вернусь.
Он оставил чемоданчик в фиакре и пошел покупать билет. Но тут увидел, что поезд уходит всего через минуту, и подумал: «Мой чемодан и бумаги у кучера, но они мне не так уж необходимы. Он подождет немножко, потом найдет на чемодане мой адрес и получит плату за проезд у меня дома».
И господин Пандевен сел в поезд, который отправился на целых два часа позже, так как во Франции расписание уже давно не в чести. В Гавре он пересел на пароход, направлявшийся в Америку, и забыл о кучере.
* * *
Тот же сначала терпеливо ждал своего клиента, а через двадцать минут сказал себе: «Теперь уже пошла плата не только за проезд, но и за ожидание». И с философским спокойствием стал ждать дальше.
В полдень он послал за обедом для себя мальчишку-газетчика. Слез с козел, поел и, чтобы чемоданчик не украли, спрятал его в ящик под сиденье. Вечером он поужинал тем же способом, что и пообедал днем, задал лошади овса и продолжал ждать до последнего поезда, который отошел после полуночи.
Тогда он хлестнул вожжами свою Кокотку и выехал с привокзального двора, не выказав ни малейшего недовольства или нетерпения.
Он остановился у каретного сарая «Север-Юг», который в то время возвышался перед вокзалом Сен-Лазар, слез с козел и открыл ворота своеобразной деревянной постройки, которой парижане восхищались долгие годы и многочисленные копии которой еще и сейчас украшают иные примечательные места столицы. Взяв лошадь под уздцы, наш кучер, чье имя пришла пора узнать потомству, – звали его Эварист Рудиоль, – владелец кобылы и экипажа № 20 364, всю свою собственность поместил в крытый сарай, который, в общем, представлял собой довольно удобное обиталище и находился в самом центре Парижа. Там имелась солома, из которой он устроил подстилку для лошади, распрягши ее, а сам удобно уснул в своем экипаже, как следует завернувшись в одеяла, хотя ночь, несмотря на осень, и не была особенно холодна. В пять утра он уже проснулся, потопал ногами и помахал руками, чтобы согреться, запряг лошадь, но карету оставил в сарае, так как фиакр не может въехать во двор вокзала, если нет пассажира. Сам же кучер Эварист Рудиоль вновь занял свой пост у въезда на вокзал в том самом месте, где накануне расстался со своим клиентом. Около семи часов он сходил выпить кофе в бистро, находящееся на самом дворе, написал жене письмо, которое велел мальчику отнести на почту, и снова принялся ждать.
К полудню госпожа Рудиоль прислала мужу полный припас для лошади, включающий солому, сено и овес, и та, похоже, была очень довольна выпавшим ей отдыхом. По правде сказать, эта ходьба кучера туда-сюда показалась прохожим странной – до сих пор они не видели в сарае ни одного рабочего. Но полиция сочла, что все вполне естественно и что тут, видимо, поставлен сторож, чтобы воспрепятствовать воровству и порче, но работы пока не ведутся по причине их преждевременности.
* * *
Для кучера и лошади началась блаженная жизнь. Лошадь толстела, а Рудиоль днями напролет покуривал трубку и наблюдал за прибывающими пассажирами.
Настали теплые дни. Госпожа Рудиоль тоже перебралась сюда, составив компанию мужу, которого она покинула только в середине осени, когда задули холодные ветры.
Шли годы, и ничто не нарушало мирную жизнь, которую вели человек и лошадь, эти своеобразные Робинзоны в одном из самых оживленных мест Парижа. Время от времени, чтобы Кокотка не застаивалась, кучер брал пассажира, с которым он и проникал на привокзальный двор. Там он давал кобыле немножко размяться, но старался не упускать из виду выход с перрона. Каждый вечер перед сном кучер крупным, старательным почерком заносил несколько цифр в свою старую потрепанную и засаленную записную книжку.
* * *
1 января 1910 года Рудиоль, встав в четыре утра, накормил лошадь, запряг ее и около восьми, видя, что погода хорошая, сказал себе, что этим надо воспользоваться.
Он посадил в экипаж мальчишку и въехал на привокзальный двор, где, после некоторых маневров, нашел место прямо перед выходом с платформы дальних поездов.
В девять во дворе появился некий господин и стал глазами искать извозчика. Кучер узнал своего клиента.
– Вот и вы наконец! – крикнул он, спрыгивая с козел.
– А, это вы! – удивился господин Пандевен. – Подождите! Минутку! – Он полез в портфель и достал листок бумаги. – Точно! Номер 20 364! Сколько я вам должен?
– Пятьдесят шесть тысяч триста двадцать франков, – ответил кучер, – и двадцать пять сантимов за письмо.
Господин Пандевен проверил расчеты. Три года минус один час по два франка за час – дневной тариф, и по два франка пятьдесят сантимов за час – ночной, с учетом разницы в почасовой оплате в зимнее и летнее время и добавки за високосный 1908 год.
– Все правильно, – заключил господин Пандевен, – вот то, что вам причитается.
Он выдал кучеру 56 тысяч 322 франка 50 сантимов, добавив еще 25 сантимов на чай.
Рудиоль засунул деньги в свой объемистый кошелек.
* * *
– А теперь ко мне домой! – сказал господин Пандевен, назвав свой адрес, и сел в экипаж.
Когда они прибыли, он заплатил кучеру за проезд один франк шестьдесят четыре сантима.
ДРАЖАЙШИЙ ЛЮДОВИК© Перевод Л. Цывьян
Именно наш дражайший Людовик изобрел тактильное искусство – искусство прикосновения и осязания. Идея эта возникла у него лет пятнадцать назад, и с тех пор он не прекращает исследований этой сферы, в которую он проник первым.
С самого рождения нового искусства я удостаивался чести быть приглашенным на все четверги, что устраивал дражайший Людовик. Проживал он тогда на улице Принцессы в старом доме, где на лестницах пахло довольно скверно, но зато квартиры были просторные.
Собирались к половине девятого вечера, и уже в девять вся дюжина друзей, удостоенных доверия дражайшего Людовика, была на месте. Да и что таить, нас притягивало тактильное искусство. Правда, чуть меньше, чем пикантная нагота законной супруги дражайшего Людовика, поскольку он, желая пробудить в нас чувство прекрасного, усаживал свою обнаженную спутницу жизни на стол, на котором подливал нам гайакское вино, купленное по соседству у виноторговца-овернца. Жена нашего дражайшего Людовика отличалась поразительной красотой и беспримерной добродетельностью. Никто из нас не осмелился бы дотронуться до ее наготы, даже с целью проведения опыта по части лиризма прикосновения, но зато мы пожирали ее глазами, покуда наши правые или же левые руки (в зависимости от обстоятельств), а то и обе сразу испытывали безумные художественные ощущения, ради которых мы и были званы в гости.
Я не стану вдаваться в подробности и рассказывать о поглаживаниях, щипках, шлепках по разнообразным местам и самой разной силы, которыми наделял нас дражайший Людовик в целях нашего тактильного образования и которые мы терпеливо сносили, не отрывая глаз от пухленького, очаровательного тела его жены.
Тем не менее я намерен сообщить вам, что искусство это, приемы и техника которого сейчас находятся в самом развитии, основано на различии ощущений, какие вызывают в органах осязания разные предметы в соответствии с их природой. Сухость, влажность, водянистость, все степени холодного и горячего, липкость, плотность, мягкость, дряблость, жесткость, упругость, маслянистость, шелковистость, бархатистость, шершавость, зернистость и проч. и проч. – все это, соединенное, сближенное самым неожиданным образом, было тем богатейшим материалом, из которого наш дражайший Людовик составлял тончайшие и возвышенные композиции тактильного искусства. То была безмолвная музыка, раздражавшая наши нервы, в то время как мы не отрывали глаз от соблазнительного тела, которого ни за что на свете не посмели бы коснуться и которое несло на себе плоды стократ аппетитнее, чем все яблони Тантала [14]14
Имеется в виду греческий миф о Тантале, который наказан богами и обречен на вечные мучения: в частности, когда он хочет сорвать яблоко, чтобы утолить голод, окружающие его деревья вздымают ветви, не давая Танталу даже прикоснуться к созревшим плодам.
[Закрыть].
Дражайший Людовик учил, что все виды осязательных контактов, ощущаемых одновременно, создают впечатление пустоты, так как, объяснял он, давно известно, что «природа не терпит пустоты», а посему все воспринимаемое как пустота на самом деле является твердым телом.
Вследствие банкротства фирмы он потерял место, которое давало ему средства существования. Но, уверенный в будущности своего искусства, он посвятил вынужденный досуг созданию «шкалы осязания», работа над которой заняла у него полгода.
Завершив ее и чувствуя сильную усталость, он написал письмо директору компании П. Л. М.:
«Милостивый государь!
Я являюсь изобретателем осязательного искусства. Я хотел бы совершить небольшое путешествие, но, не имея на это денег, обращаюсь к вам в надежде, что вы будете любезны предоставить мне командировку, которая была бы чрезвычайно полезна для моего здоровья».
Очень скоро пришел ответ. В конверте находился билет до Женевы и обратно, и дражайший Людовик тотчас отбыл в путешествие, оставив жену одну в Париже.
С поездкой ему не повезло, так как все время лил дождь, но, возвратясь в Париж, он сочинил геологический роман, и в нем Монблан, который ему не довелось увидеть, обрушивался в озеро Леман, да так удачно, что больше уже не было ни горы, ни озера, а на их месте образовалась идеально ровная местность, и она могла служить широким полем экспериментов осязательного искусства, что совершались пешком, то есть натаптывая, если можно так выразиться, босыми ногами тактильные симфонии, которые великолепно сочинял наш дражайший Людовик.
Жена, скучавшая в полном одиночестве, пока он отсутствовал, написала великой американской танцовщице, которая в это время как раз выступала в одном из крупных театров, следующее письмо:
«Сударыня!
Я являюсь женой изобретателя осязательного искусства, который в настоящее время находится в кратком путешествии в целях отдыха. Лишенная развлечений в отсутствие мужа, я была бы счастлива рукоплескать вам».
В письме, пришедшем в ответ, лежали два билета на первое представление, и дражайший Людовик, который как раз вернулся в Париж, посмотрел вместе с женой выступление танцовщицы. Это дало ему возможность в очередной раз констатировать, что тактильное искусство превосходно сочетается с хореографией и музыкой.
Вечера по четвергам продолжались. Но шли годы, и гостей приходило гораздо меньше, надо думать потому, что жена дражайшего Людовика огрузнела и смотреть на нее было уже не так приятно.
Тем не менее она и сейчас выглядит, несмотря на войну, довольно свежей и весьма неплохо живет на «денежное пособие», так как муж ее был мобилизован, и сейчас он обыскивает в Бельгарде подозрительных пассажиров. А эта должность требует чуткого осязания.
ТЕНЬ© Перевод И. Шафаренко
Это было незадолго до полудня. Впереди я увидел тень. Но, к моему удивлению, она не отбрасывалась ничьим телом, а двигалась одна, сама по себе.
Она скользила вперед, косо распластываясь по земле. Достигнув тротуара, она внезапно переламывалась надвое, а минуя стену, сразу выпрямлялась во весь рост, словно бросая кому-то вызов, – быть может, солнцу, – ведь ничто не заслоняло ей мир. Я пошел следом за тенью – она как раз поворачивала в какую-то совсем пустынную улочку, – и мне почудилось, будто она не без колебания свернула в нее.
Но не пора ли описать эту тень, вернее, ее силуэт? Известно, что всякая тень непрестанно меняет свои очертания – то словно худеет, непомерно вытягиваясь в длину, то, напротив, сплющивается настолько, что становится похожей на бочонок. Одинокая тень, о которой я рассказываю, в наиболее стойких своих очертаниях являла собой силуэт стройного молодого человека: вдруг мелькал кончик уса или вырисовывался изящный профиль.
В конце улочки, на которую мы свернули, показалась девушка – она шла нам навстречу, и тень, поравнявшись с ней, скользнула по ее телу, словно желая поцеловать ее. Девушка вздрогнула и быстро обернулась, но тень промелькнула мимо и уже удалялась, летя по неровной мостовой. Девушка – у нее было грустное и покорное лицо, как у всех, кто потерял кого-нибудь на войне, – с трудом сдержала крик, и мне показалось, что на лице ее вспыхнула радость, смешанная с сожалением… Потом лицо ее вновь стало печальным, но глаза жадно следили за скользящим движением голубоватой тени.
– Так, значит, вы знаете ее? – спросил я у девушки. – Вы знаете эту синеватую одинокую тень?
– Вы тоже ее видели! – вскричала она. – Вы видели ее, как и я! Да, да, мы оба видим это подвижное, струящееся ничто с очертаниями человеческого тела! Мне кажется, я узнала его… О нет, не кажется, я в самом деле узнала! Я видела его профиль, его усики, а вот взгляда не видела… Я его узнала. Он не изменился с тех пор, как приезжал сюда последний раз на побывку. Мы были обручены и собирались пожениться, когда его отпустят домой еще раз. Но осколок снаряда попал ему в сердце. Они убили его – и все-таки вы его видите. Тень его жива. Она более материальна, чем воспоминание о нем, и в то же время более эфемерна…
Девушка ушла; в глазах ее светилась юная, пылкая любовь. Я попрощался с ней и кинулся вслед за тенью. Она удалялась, изгибаясь на неровностях мостовой, по которой скользил ее силуэт. Я увидел ее снова около церкви, потом на главной улице, где она мелькала среди прохожих, которые не обращали никакого внимания на скользящее мимо них, то и дело меняющее очертания синеватое пятно.
Тень бродила по улицам. Она останавливалась у витрин магазинов; видно было, что эта прогулка по родным местам доставляет ей огромное удовольствие. Временами она исчезала, как бы смешиваясь с другими тенями – тенями проходивших людей, – словно она ничем не отличалась от них.
В городском саду, куда я последовал за нею, она старалась держаться поближе к розовым кустам, которые в ту пору были в цвету. Казалось, она с наслаждением вдыхает их неповторимый аромат и словно вся содрогается от рыданий.
Я с волнением наблюдал, как горюет бедная тень. Мне хотелось как-то утешить ее, поцеловать тем братским поцелуем, какими обменивались первые христиане. Но тайна ее оставалась для меня неразгаданной, и единственное, что я мог сделать для нее, это попытаться слить мою собственную тень с ее бесплотным телом.
Я наклонился к ней и тут же отпрянул – боялся наступить из нее, причинить ей боль. Ее одиночество рождало во мне глубокую жалость. Но вдруг каким-то необъяснимым образом она дала мне понять, что она, тень, счастлива, что слезы ее – слезы радости, ибо ей даровано бессмертие: пережив исчезнувшее тело, она остается сопричастной всему, что было дорого и близко тому, умершему… И счастье ее в том, что она может посетить места, где он бывал.
Да, это было так: тихая радость охватила меня, и теперь я с улыбкой наблюдал, как резвится тень среди зеленых газонов и цветущих кустов.
Потом я увидел, что она уходит из городского сада, и последовал за нею; она привела меня на кладбище, к месту, предназначенному для того, кому она принадлежала прежде, но чье тело не будет тут погребено.
Затем она вернулась в город, на который уже спускались сумерки, и здесь нас настигла ночь.
Постепенно тень становилась все менее различимой, и в конце концов я вовсе потерял ее в сгустившейся тьме. Но я понял, что смерть бессильна, что она едва ли может помешать умершим оставаться среди нас. Мертвые не исчезают. Та одинокая нетленная тень, что бродила по улицам городка, не менее реальна, чем образы ушедших от нас, запечатленные в нашей памяти, – голубоватые призраки, не покидающие нас никогда.
ОРАНЖАД© Перевод А. Петрова
Дело Джеймса Кимберлина не попало в крупные парижские газеты, хотя весь мир, от Австралии до Англии, только о нем и говорил. Французская пресса лишь вкратце упомянула о том, что Кимберлин был арестован, осужден и казнен за убийство.
Во время этих драматических событий я был в Мельбурне и несколько раз общался с доктором. Доктор был человеком редкого ума, полностью погруженным в науку.
Как врач, он не имел себе равных во всей Австралии. Разумеется, и практика его была весьма обширна.
Ему было лет сорок, и он обладал недюжинной силой. Семьи у него не было, и со стороны Кимберлин казался безукоризненным гражданином, лишенным каких бы то ни было недостатков.
Единственной странностью, которая лучше всех вместе взятых достоинств его характеризует, был страх смерти: доктор до такой степени не мог с собой совладать, что поговаривали, будто порой он наотрез отказывался заниматься умирающими больными и передавал их коллегам. Впрочем, – прибавляли даже сплетники, – такое случалось редко. Всего пару раз за долгую историю врачебной практики он отказался от лечения больных, которые оказались на его попечении. Что же касается остального, то считалось, что Джеймс Кимберлин мог исцелить любого пациента – один его совет, один верный рецепт, и больной неминуемо шел на поправку.
Когда в газетах появилась новость о том, что доктор арестован за убийство, общественность возмутилась досадной ошибке следствия – достопочтенный Джеймс Кимберлин не мог оказаться преступником! И тем не менее его виновность была доказана довольно быстро. Оставалось лишь подивиться исключительности совершенного доктором деяния.
Подробности этих событий заслуживают того, чтобы о них узнали. Речь идет не о происшествии, а скорее о странном механизме, который трансформирует профессиональное мышление честного и прямого человека, призванного продлевать чужие жизни, в мышление совершенно извращенное. Подобное событие не могло бы приключиться здесь, в нашей стране. Современные врачи очень просвещенные люди, а потому всегда находят в себе силы смирить экспериментаторский дух перед долгом заботы о человечестве.
Подобное могло произойти разве что в стране Нового света, где врач, коли он сведущ и талантлив, пользуется таким авторитетом, что в конце концов может поставить себя выше закона и возомнить себя хозяином жизней, которые он вырывает из рук смерти.
Вот факты.
Однажды в городе появился некий Ли Льюис, пастух, при нем было немало золота, накопленного благодаря многочисленным урожайным сезонам; этот Льюис страдал от непонятного недуга, и довольно давно, но никто не мог ему помочь.
В Мельбурне пастух отыскал нескольких докторов, которые решили, что лечить больного уже поздно, и посоветовали ему заняться завещанием.
От докторов Ли Льюис пошел прямиком в одну из пивной: он собирался спустить деньги на выпивку, а там – хоть пулю в лоб. Вид у пастуха был такой несчастный, что рыжая ирландская барменша не удержалась и заговорила с Ли; в ответ он рассказал ей свою незавидную историю. Девушка посоветовала ему немедленно обратиться к Джеймсу Кимберлину и так расхвалила доктора, что у Ли Льюиса вновь появилась надежда, он забыл о самоубийстве, отставил свой стакан и отправился просить помощи у знаменитого врача.
Итак, он приходит, представляется, рассказывает о своем недуге. Врач его осматривает и холодно заявляет, что ничего не может сделать.
Ли Льюис настаивает.
– Умоляю, доктор, не бросайте меня, – говорит он, – ваш отказ равнозначен смертному приговору.
Джеймс Кимберлин смотрит на него и чувствует огромную жалость к этому бедняге.
«К чему лишать его надежды? – думает он. – Все равно умрет, но хотя бы думая, что поправляется».
– Ладно! – говорит он. – Пейте оранжад, чем больше – тем лучше.
После этого разговора Ли Льюис удалился со спокойным сердцем, а доктор Кимберлин, уверенный в том, что больному осталось жить недолго, забыл о злосчастном визитере.
Тем временем больной последовал совету и стал регулярно пить оранжад. Он пил его утром и вечером на протяжении года до тех пор, пока совсем не поправился и не набрал прежний вес.
Собравшись домой, в свою глушь, где он всегда пас баранов, Ли Льюис решил напоследок навестить и поблагодарить своего спасителя.
Пастух преподнес Кимберлину дорогой подарок. Доктор же с трудом мог узнать пациента. Он не понимал, что послужило причиной столь чудесного исцеления.
В конце концов ему не осталось другого выхода, кроме как поверить в действие прописанного больному оранжада; сгорая от любопытства, Кимберлин отвел Ли Льюиса в свой кабинет, где, поддавшись профессиональному безумию, схватил револьвер, прострелил бедняге череп и сделал вскрытие, пытаясь найти очаг болезни, которую не мог диагностировать ни один из его коллег и которую он сам поборол случайно.
Придя в себя, доктор ужаснулся своей безумной выходке, покинул город и несколько дней скитался, до тех пор, пока полиция, узнавшая о его внезапном исчезновении, не нашла труп, а затем и самого убийцу – Кимберлин был арестован в том обычном для Австралии лесу, таком густом, что деревья не дают тени, и как раз тогда, когда собирался покончить с собой.
Джеймс Кимберлин напрасно старался объяснить судьям, что действовал в невменяемом состоянии. Он был осужден и жизнью поплатился за странное убийство, продиктованное не криминальными наклонностями, но буйством пытливого ума.








