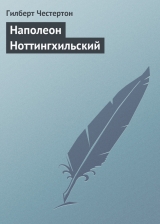
Текст книги "Наполеон Ноттингхильский"
Автор книги: Гилберт Кийт Честертон
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
Глава II
Мистер Тернбулл, чудодей
Две дальнейшие беседы несколько подточили уверенность патриота в своей психологической дипломатии. Хоть он и подходил с разбором, уясняя сущность и своеобразие каждого занятия, однако собеседники его были как-то неотзывчивы. Скорее всего, это было глухое негодование против профана, с улицы вторгшегося в святая святых их профессий, но в точности не скажешь.
Разговор с хозяином лавки древностей начался многообещающе. Хозяин лавки древностей, надо сказать, его прямо-таки очаровал. Он уныло стоял в дверях своей лавчонки – усохший человечек с седой бородкой клинышком: вероятно, джентльмен, который знавал лучшие дни.
– И как же идет ваша торговля, о таинственный страж прошлого? – приветливо обратился к нему Уэйн.
– Да не сказать, чтоб очень бойко, сэр, – отвечал тот с присущей его сословию и надрывающей душу беспредельной готовностью к невзгодам. – Тихий ужас, прямо как в омуте.
Уэйн так и просиял.
– Речение, – сказал он, – достойное того, чей товар – история человечества. Да, именно тихий ужас: в двух словах выражен дух нашего времени, я чувствую его с колыбели. Бывало, я задумывался – неужели я один такой, а другим никому не в тягость этот тихий ужас, эта жуткая тишь да гладь? Смотрю и вижу аккуратные безжизненные улицы, а по ним проходят туда и сюда пасмурные, нелюдимые, наглухо застегнутые мужчины в черном. И так день за днем, день за днем все так же, и ничего не происходит, а у меня чувство такое, будто это сон, от которого просыпаешься с придушенным криком. По мне, так ровная прямизна нашей жизни – это прямизна туго натянутой бечевки. И тихо-тихо – до ужаса, даже в ушах звенит; а лопнет эта бечева – то-то грянет грохот! А уж вы-то, восседая среди останков великих войн, сидя, так сказать, на полях древних битв, вы, как никто, знаете, что даже и войны те были не ужаснее нынешнего тухлого мира; вы знаете, что бездельники, носившие эти шпаги при Франциске или Елизавете[40]40
При Франциске или Елизавете. – То есть либо в первой, либо во второй половине XVI в. при французском короле Франциске I (1494—1547), правившем с 1515 г., или при английской королеве Елизавете I (1537—1603), правившей с 1558 г.
[Закрыть], что какой-нибудь неотесанный сквайр или барон, махавший этой булавой в Пикардии или в Нортумберленде[41]41
В Пикардии или в Нортумберленде. – Пикардия – округ на севере Франции; Нортумберленд – графство на севере Англии.
[Закрыть], – что они были, может, и ужасно шумный народ, но не нам чета – тихим до ужаса.
Страж прошлого, казалось, огорчился: то ли упомянутые образчики оружия были не такие старинные и в Пикардии или Нортумберленде ими не махали, то ли ему было огорчительно все на свете, но вид у него стал еще несчастнее и озабоченнее.
– И все же я не думаю, – продолжал Уэйн, – что эта жуткая современная тишь так и пребудет тишью, хотя гнет ее, наверно, усилится. Ну что за издевательство этот новейший либерализм! Свобода слова нынче означает, что мы, цивилизованные люди, вольны молоть любую чепуху, лишь бы не касались ничего важного. О религии помалкивай, а то выйдет нелиберально; о хлебе насущном – нельзя, это, видите ли, своекорыстно; не принято говорить о смерти – это действует на нервы; о рождении тоже не надо – это неприлично. Так продолжаться не может. Должен же быть конец этому немому безразличию, этому немому и сонному эгоизму, немоте и одиночеству миллионов, превращенных в безгласную толпу. Сломается такой порядок вещей. Так, может, мы с вами его и сломаем? Неужто вы только на то и годны, чтоб стеречь реликвии прошлого?
Наконец-то лицо лавочника чуть-чуть прояснилось, и те, кто косо смотрит на хоругвь Красного Льва, пусть их думают, будто он понял одну последнюю фразу.
– Да староват я уже заводить новое дело, – сказал он, – опять же и непонятно, куда податься.
– А не податься ли вам, – сказал Уэйн, тонко подготовивший заключительный ход, – в полковники?
Кажется, именно тут разговор сперва застопорился, а потом постепенно потерял всякий смысл. Лавочник решительно не пожелал обсуждать предложение податься в полковники: это предложение якобы не шло к делу. Пришлось долго разъяснять ему, что война за независимость неизбежна, и приобрести втридорога сомнительную шпагу шестнадцатого века – тогда все более или менее уладилось. Но Уэйн покинул лавку древностей, как бы заразившись неизбывной скорбью ее владельца.
Скорбь эта усугубилась в цирюльне.
– Будем бриться, сэр? – еще издали осведомился мастер помазка.
– Война! – ответствовал Уэйн, став на пороге.
– Это вы о чем? – сурово спросил тот.
– Война! – задушевно повторил Уэйн. – Но не подумайте, война вовсе не наперекор вашему изящному и тонкому ремеслу. Нет, война за красоту. Война за общественные идеалы. Война за мир. А какой случай для вас опровергнуть клеветников, которые, оскорбляя память ваших собратий-художников, приписывают малодушие тем, кто холит и облагораживает нашу внешность! Да чем же парикмахеры не герои? Почему бы им не…
– Вы вот что, а ну-ка проваливайте отсюда! – гневно сказал цирюльник. – Знаем мы вашего брата. Проваливайте, говорю!
И он устремился к нему с неистовым раздражением добряка, которого вывели из себя.
Адам Уэйн положил было руку на эфес шпаги, но вовремя опомнился и убрал руку с эфеса.
– Ноттинг-Хиллу, – сказал он, – нужны будут сыны поотважнее, – и угрюмо направился к магазину игрушек.
Это была одна из тех чудных лавчонок, которыми изобилуют лондонские закоулки и которые называются игрушечными магазинами лишь потому, что игрушек там уйма; а кроме того, имеется почти все, что душе угодно: табак, тетрадки, сласти, чтиво, полупенсовые скрепки и полупенсовые точилки, шнурки и бенгальские огни. А тут еще и газетами приторговывали, и грязноватые газетные щиты были развешаны у входа.
– Сдается мне, – сказал Уэйн, входя, – что не нахожу я общего языка с нашими торговцами. Наверно, я упускаю из виду самое главное в их профессиях. Может статься, в каждом деле есть своя заветная тайна, которая не по зубам поэту?
Он понуро двинулся к прилавку, однако, подойдя, поборол уныние и сказал низенькому человечку с ранней сединой, похожему на очень крупного младенца:
– Сэр, – сказал Уэйн, – я хожу по нашей улице из дома в дом и тщетно пытаюсь пробудить в земляках сознание опасности, которая нависла над нашим городом. Но с вами мне будет труднее, чем с кем бы то ни было. Ведь хозяин игрушечного магазина – обладатель всего того, что осталось нам от Эдема, от времен, когда род людской еще не ведал войн. Сидя среди своих товаров, вы непрестанно размышляете о сказочном прошлом: тогда каждая лестница вела к звездам, а каждая тропка – в тридесятое царство. И вы, конечно, подумаете: какое это безрассудство – тревожить барабанным треском детский рай! Но погодите немного, не спешите меня осуждать. Даже в раю слышны глухие содроганья – предвестие грядущих бедствий: ведь и в том, предначальном Эдеме, обители совершенства, росло ужасное древо.[42]42
Росло ужасное древо. – Речь идет о древе познания, с которым связаны многочисленные бедствия обитателей райского сада. Быт., 2, 17.
[Закрыть] Судя о детстве, окиньте глазами вашу сокровищницу его забав. Вот у вас кубики – несомненное свидетельство, что строить начали раньше, нежели разрушать. Вот куклы – и вы как бы жрец этого божественного идолопоклонства. Вот Ноевы ковчеги – память о спасении живой твари, о невозместимости всякой жизни. Но разве у вас только и есть, сэр, что эти символы доисторического благоразумия, младенческого земного здравомыслия? А нет ли здесь более зловещих игрушек? Что это за коробки, уж не с оловянными ли солдатиками – вон там, в том прозрачном ящике? А это разве не свидетельство страшного и прекрасного стремления к героической смерти, вопреки блаженному бессмертию? Не презирайте оловянных солдатиков, мистер Тернбулл.
– Я и не презираю, – кратко, но очень веско отозвался мистер Тернбулл.
– Рад это слышать, – заметил Уэйн. – Признаюсь, я опасался говорить о войне с вами, чей удел – дивная безмятежность. Как, спрашивал я себя, как этот человек, привыкший к игрушечному перестуку деревянных мечей, помыслит о мечах стальных, вспарывающих плоть? Но отчасти вы меня успокоили. Судя по вашему тону, предо мною приоткрыты хотя бы одни врата вашего волшебного царства – те врата, в которые входят солдатики, ибо – не должно более таиться – я пришел к вам, сэр, говорить о солдатах настоящих. Да умилосердит вас ваше тихое занятие перед лицом наших жестоких горестей. И ваш серебряный покой да умиротворит наши кровавые невзгоды. Ибо война стоит на пороге Ноттинг-Хилла.
Низенький хозяин игрушечной лавки вдруг подскочил и всплеснул пухленькими ручонками, растопырив пальцы: словно два веера появились над прилавком.
– Война? – воскликнул он. – Нет, правда, сэр? Кроме шуток? Ох, ну и дела! Вот утешенье-то на старости лет!
Уэйн отшатнулся при этой вспышке восторга.
– Я… это замечательно, – бормотал он. – Я и подумать не смел…
Он посторонился как раз вовремя, а то бы мистер Тернбулл, одним прыжком перескочив прилавок, налетел на него.
– Гляньте, гляньте-ка, сэр, – сказал он. – Вы вот на что гляньте.
Он вернулся с двумя афишами, сорванными с газетных щитов.
– Вы только посмотрите, сэр, – сказал он, расстилая афиши на прилавке.
Уэйн склонился над прилавком и прочел:
ПОСЛЕДНЕЕ СРАЖЕНИЕ.
ВЗЯТИЕ ГЛАВНОГО ОПЛОТА ДЕРВИШЕЙ.
ПОТРЯСАЮЩИЕ ПОДРОБНОСТИ и проч.
И на другой афише:
ГИБЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ МАЛЕНЬКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
СТОЛИЦА НИКАРАГУА СДАЛАСЬ ПОСЛЕ ТРИДЦАТИДНЕВНЫХ БОЕВ.
КРОВАВОЕ ПОБОИЩЕ.
В некоторой растерянности Уэйн перечел афиши, потом поглядел на даты. И та, и другая датирована была августом пятнадцатилетней давности.
– А зачем вам это старье? – спросил он, уж и не думая о тактичном подходе и о мистических призваниях. – Зачем вы это вывесили перед магазином?
– Да затем, – напрямик отвечал тот, – что это последние военные новости. Вы только что сказали «война», а война – мой конек.
Уэйн поднял на него взгляд, и в его огромных голубых глазах было детское изумление.
– Пойдемте, – коротко предложил Тернбулл и провел его в заднее помещение магазина.
Посреди комнаты стоял большой сосновый стол, а на нем – масса оловянных солдатиков. Магазин торговал ими, и удивляться вроде бы не приходилось, однако заметно было, что солдатики не сгрудились так себе, а расставлены строями – не напоказ и не случайно.
– Вам, разумеется, известно, – сказал Тернбулл, выпучив на Уэйна свои лягушачьи глаза, – известно, разумеется, расположение американских и никарагуанских войск перед последней битвой, – и он указал на стол.
– Боюсь, что нет, – сказал Уэйн. – Видите ли, я…
– Понятно, понятно! Должно быть, вас тогда больше интересовало подавление восстаний дервишей. Ну, это там, в том углу, – и он показал на пол, где опять-таки были расставлены солдатики.
– По-видимому, – сказал Уэйн, – вас очень занимают дела военные.
– Меня не занимают никакие другие, – бесхитростно отвечал хозяин магазина игрушек.
Уэйн постарался подавить охватившее его бурное волнение.
– В таком случае, – сказал он, – я рискну довериться вам целиком. Я полагаю, что оборона Ноттинг-Хилла…
– Оборона Ноттинг-Хилла? Прошу вас, сэр. Вон туда, сэр, – сказал Тернбулл, прямо-таки заплясав на месте, – вон в ту боковую комнатушку. – И он подвел Уэйна к столу, застроенному кубиками. Уэйн присмотрелся и увидел перед собой четкий и точный макет Ноттинг-Хилла.
– Сэр, – внушительно промолвил Тернбулл, – вы совершенно случайно открыли секрет всей моей жизни. Последние войны – в Никарагуа и на Востоке – разразились, когда я был мальчишкой, и я увлекся военным делом, сэр, как, бывает, увлекаются астрономией или набивкой чучел. Воевать-то я ни с кем не собирался, война интересовала меня как наука, как игра. Но не тут-то было: великие державы всех позавоевывали и заключили, черт бы его драл, соглашение больше между собой не воевать. Вот мне только и осталось, что представлять себе войны по старым газетам и расставлять оловянных солдатиков. И вдруг меня осенило: а не сделать ли мне макет нашего района[43]43
…макет нашего района… и план его обороны. – В персонаже по имени Тернбулл нашли воплощение некоторые черты самого Честертона – любовь к игрушечным солдатикам и картам.
[Закрыть] и не составить ли план его обороны – вдруг да на нас нападут? Вам это, видать, тоже показалось любопытно?
– Вдруг да на нас нападут, – ошеломленный восторгом, механически повторил Уэйн. – Мистер Тернбулл, на нас напали. Слава Богу, наконец-то я приношу хоть одному человеку благую весть, да какую – вестей отрадней для сыновей Адама не бывает. Жизнь ваша – не бесполезна. Труд ваш – не забава. Время вашей юности, Тернбулл, настало теперь, когда вы уже поседели. Господь не лишил вас ее; Он ее лишь отложил. Давайте присядем, и вы объясните мне на макете ваш план обороны Ноттинг-Хилла. Ибо нам с вами предстоит защищать его.
Мистер Тернбулл с минуту глядел на нежданного гостя, разинув рот; потом оставил колебания и уселся рядом с ним возле макета. Они поднялись на ноги лишь через семь часов, на рассвете.
Ставка лорд-мэра Адама Уэйна и его главнокомандующего разместилась в маленькой захудалой молочной на углу Насосного переулка. Белесое утро едва брезжило над белесыми лондонскими строениями, а Уэйн с Тернбуллом уже сидели в безлюдной и замызганной забегаловке. Уэйн имел отчасти женскую натуру: чем-нибудь поглощенный, он терял всякий аппетит. За последние шестнадцать часов он выпил наспех несколько стаканов молока; пустой стакан и теперь стоял у его локтя, а он с неимоверной быстротой что-то писал, черкал и подсчитывал на клочке бумаге. У Тернбулла натура была мужская: его аппетит возрастал с возрастанием чувства ответственности; он отложил исчерченную карту и доставал из бумажного пакета бутерброд за бутербродом, запивая их элем, кружку которого только что принес из открывшегося поутру кабачка напротив. Оба молчали; слышалось лишь чирканье карандаша по бумаге да надрывное мяуканье приблудного кота. Наконец Уэйн проговорил:
– Семнадцать фунтов восемь шиллингов девять пенсов. Тернбулл кивнул и запустил нос в кружку.
– Это не считая тех пяти фунтов, что вы вчера взяли, – добавил Уэйн. – Как вы ими распорядились?
– А, вот это не лишено интереса, – пробурчал Тернбулл с набитым ртом. – Те пять фунтов я израсходовал милосердно и человеколюбиво.
Уэйн вопросительно поглядел на пучеглазого и невозмутимого соратника.
– Те пять фунтов, – продолжал тот, – я разменял и раздал сорока – да, именно сорока уличным мальчишкам, чтобы они катались на извозчиках.
– Вы в своем уме? – спросил лорд-мэр.
– А что такого особенного, – возразил Тернбулл. – Эти поездки подымут тонус – большое дело тонус, дорогой мой! – нашей лондонской детворы, расширят их кругозор, укрепят их нервную систему, ознакомят с памятными местами нашей великой столицы. Воспитание, Уэйн, и еще раз воспитание! Многие замечательные мыслители указывали, что, пока нет культурного населения, нечего и затевать политические реформы. А вот через двадцать лет, когда эти мальчишки подрастут…
– Так и есть, спятил, – сказал Уэйн, бросая карандаш. – А пяти фунтов как не бывало!
– Ошибаетесь, – заметил Тернбулл. – Где вам, суровым людям, понять, насколько лучше спорится дело, если его приправить чепуховиной да вдобавок хорошенько перекусить. Я сказал вам сущую правду, только увешал ее словесными побрякушками. Да, вчера вечером я раздал сорок полукрон сорока мальчишкам и разослал их во все концы Лондона: пусть возвращаются оттуда на извозчиках. И сказал, куда возвращаться, – всем к одному и тому же месту. Через полчаса будет расклеено объявление войны и как раз начнут прибывать кебы, а вы держите стражу наготове. Мальчишки знай подкатывают, а мы отпрягаем лошадей – вот она и кавалерия, а кебы чем не баррикады? Извозчикам мы предложим драться вместе с нами или сидеть пока чего в подвалах и погребах. Мальчишки снова пригодятся, будут разведчиками. Главное – что к началу боевых действий у нас будет преимущество над всеми противниками – будет конница. Ну, а теперь, – сказал он, выхлебывая эль, – пойду-ка я обучать ополченцев.
Он вышел из молочной, и лорд-мэр проводил его восхищенным взглядом.
Через минуту-другую он рассмеялся. Смеялся он всего раза два в жизни, издавая довольно странные звуки, – не давалось ему это искусство. Однако даже ему показалась забавной головокружительная проделка с мальчишками и полукронами. А чудовищной нелепости всех своих демаршей и военных приготовлений он не замечал. Он почувствовал себя воителем, и чужая пустая забава стала его душевной отрадой. Тернбулл же все-таки немного забавлялся, но больше радовался возможности противостоять ненавистной современности, монотонной цивилизации. Разламывать огромные отлаженные механизмы современного бытия и превращать обломки в орудия войны, громоздить баррикады из омнибусов и устраивать наблюдательные посты на фабричных трубах – такая военная игра, на его взгляд, стоила свеч. Он здраво рассудил – и такое здравомыслие будет сотрясать мир до конца времен – рассудил неспешно и здраво, что в веселый час и смерть не страшна.
Глава III
Попытка мистера Бака
Королю было подано проникновенное и красноречивое прошение за подписями Уилсона, Баркера, Бака, Свиндона и проч. Они просили дозволить им явиться на имеющее быть в присутствии Его Величества совещание касательно покупки земельного участка, занятого Насосным переулком, в обычных утренних парадных костюмах, а не в лорд-мэрских нарядах, уповая при этом, что придворный декорум пострадает лишь незначительно, и заверяя Его Величество в своем совершеннейшем и несказаннейшем почтении. Так что все участники совещания были в сюртуках и даже король явился всего-навсего в смокинге с орденом, что, впрочем, бывало и прежде, но на этот раз он нацепил не орден Подвязки, а бляху-значок клуба Дружков Старого Проныры, превеликими трудами раздобытый в редакции полупенсовой газетенки для школьников. Итак, все были в черном; но в ярко-алом величественно вошел в палату Адам Уэйн, как всегда, препоясанный мечом.
– Мы собрались, – объявил Оберон, – дабы разрешить труднейший и неотложный вопрос. Да сопутствует нам удача! – И он чинно уселся во главе стола.
Бак подвинул кресло поудобнее и заложил ногу на ногу.
– Ваше Величество, – как нельзя добродушней сказал он, – я не пойму одного – почему бы нам не решить этот вопрос за пять минут. Имеется застройка: мы ее сносим и получаем тысячную прибыль, даром что сама-то она и сотни не стоит. Ладно, мы даем за нее тысячу. Я знаю, так дела не делаются, можно бы сторговать и подешевле; неправильно это, не по-нашему, но вот чего уж тут нет – так это затруднений.
– Затруднение очень простое, – сказал Уэйн. – Предлагайте хоть миллион – Насосный переулок просто-напросто не продается.
– Погодите, погодите, мистер Уэйн, – холодно, однако же с напором вмешался Баркер. – Вы одумайтесь. Вы не имеете никакого права занимать такую позицию. Торговаться вы имеете право – но вы же не торгуетесь. Вы, наоборот, отвергаете предложение, которое любой нормальный человек на вашем месте принял бы с благодарностью, – а вы отвергаете, нарочито и злонамеренно; да, иначе не скажешь, злонамеренно и нарочито. Это, знаете ли, дело уголовное – вы идете против общественных интересов. И королевское правительство вправе вас принудить.
Он распластал пальцы на столе и впился глазами в лицо Уэйна: тот и бровью не повел.
– Да, вправе… принудить вас, – повторил он.
– Какое вправе, обязано, – коротко проговорил Бак, резко придвинувшись к столу. – Мы со своей стороны сделали все.
Уэйн медленно поднял на него глаза.
– Я ослышался, – спросил он, – или милорд Бак и вправду сказал, что король Англии что-то кому-то обязан?
Бак покраснел и сердито поправился:
– Не обязан, так должен – словом, что надо, то надо. Я говорю, мы уж, знаете, расщедрились донельзя: кто скажет, что нет? В общем, мистер Уэйн, я человек вежливый, я вас обижать не хочу. И надеюсь, вы не очень обидитесь, если я скажу, что вам самое место в тюрьме. Преступно это – мешать по своей прихоти общественным работам. Эдак другой спалит десять тысяч луковиц у себя в палисаднике, а третий пустит детей голышом бегать по улице; и вы вроде них, никакого права не имеете. Бывало и прежде, что людей заставляли продавать. Вот и король, надеюсь, вас заставит, велит – и все тут.
– Но пока не велит, – спокойно отвечал Уэйн, – до тех пор законы и власти нашей великой нации на моей стороне, и попробуйте-ка это оспорить!
– В каком же это смысле, – воскликнул Баркер, сверкая глазами и готовясь поймать противника на слове, – в каком же это, извините, смысле законы и власти на вашей стороне?
Широким жестом Уэйн развернул на столе большой свиток, поля которого были изрисованы корявыми акварельными человечками в коронах и венках.
– Хартия предместий… – заявил он. Бак грубо выругался и захохотал.
– Бросьте вы идиотские шутки. Хватит с нас и того…
– И вы смеете сидеть здесь, – воскликнул Уэйн, вскочив, и голос его зазвучал, как труба, – и вместо ответа мне бросать оскорбления в лицо королю?
Разъяренный Бак тоже вскочил.
– Ну, меня криком не возьмешь, – начал он, но тут король медлительно и неописуемо властно проговорил:
– Милорд Бак, напоминаю вам, что вы находитесь в присутствии короля. Редкостный случай: прикажете монарху просить защиты от верноподданных?
Баркер повернулся к нему, размахивая руками.
– Да ради же Бога не берите сторону этого сумасшедшего! – взмолился он. – Отложите свои шуточки до другого раза! Ради всего святого…
– Милорд правитель Южного Кенсингтона, – по-прежнему размеренно молвил король Оберон, – я не улавливаю смысла ваших реплик, которые вы произносите чересчур быстро, а при дворе это не принято. Очень похвально, что вы пытаетесь дополнить невнятную речь выразительными жестами, но увы, и они дела не спасают. Я сказал, что лорд-мэр Северного Кенсингтона, – а я обращался к нему, а не к вам, – лучше бы воздержался в присутствии своего суверена от непочтительных высказываний по поводу его королевских манифестов. Вы несогласны?
Баркер заерзал в кресле, а Бак смолчал, ругнувшись под нос, и король безмятежно приказал:
– Милорд правитель Ноттинг-Хилла, продолжайте.
Уэйн обратил на короля взор своих голубых глаз, к общему удивлению, в них не было торжества – была почти ребяческая растерянность.
– Прошу прощения, Ваше Величество, – сказал он, – боюсь, что я виноват не менее, нежели лорд-мэр Северного Кенсингтона. Мы оба в пылу спора вскочили на ноги; стыдно сказать, но я первый. Это в немалой степени оправдывает лорд-мэра Северного Кенсингтона, и я смиренно прошу Ваше Величество адресовать упрек не ему, но главным образом мне. Мистер Бак, разумеется, не без вины он погорячился и неуважительно высказался о Хартии. В остальном же он, по-моему, тщательно соблюдал учтивость.
Бак прямо-таки расцвел: деловые люди – народ простодушный, в этом смысле они сродни фанатикам. А король почему-то впервые в жизни выглядел пристыженно.
– Спасибо лорд-мэру Ноттинг-Хилла на добром слове, – заявил Бак довольным голосом, – я так понимаю, что он не прочь от дружеского соглашения. Стало быть, так, мистер Уэйн. Вам были поначалу предложены пятьсот фунтов за участочек, за который, по совести, и сотни-то много. Но я – человек, прямо скажу, богатый, и коли уж вы со мной по-хорошему, то и я с сами так же. Чего там, кладу тысячу пятьсот, и Бог с вами. На том и ударим по рукам, – и он поднялся, расхохотавшись и сияя дружелюбием.
– Ничего себе, полторы тысячи, – прошептал мистер Уилсон, правитель Бейзуотера. – А мы как, полторы тысячи-то наберем?
– Это уж моя забота, – радушно сказал Бак. – Мистер Уэйн как настоящий джентльмен не поскупился замолвить за меня словечко, и я у него в долгу. Ну что ж, вот, значит, и конец переговорам.
Уэйн поклонился.
– И я того же мнения. Сожалею, но сделка невозможна.
– Как? – воскликнул мистер Баркер, вскакивая на ноги.
– Я согласен с мистером Баком, – объявил король.
– Да еще бы нет. – Тот сорвался на крик и тоже вскочил. – Я же говорю…
– Я согласен с мистером Баком, – повторил король. – Вот и конец переговорам.
Все поднялись из-за стола, и один лишь Уэйн не выказывал ни малейшего волнения.
– В таком случае, – сказал он, – Ваше Величество, наверно, разрешит мне удалиться? Я свое последнее слово сказал.
– Разрешаю вам удалиться, – сказал Оберон с улыбкой, однако ж не поднимая глаз. И среди мертвого молчанья лорд-мэр Ноттинг-Хилла прошествовал к дверям.
– Ну? – спросил Уилсон, оборачиваясь к Баркеру. – Ну и как же?
Баркер безнадежно покачал головой.
– Место ему – в лечебнице, – вздохнул он. – Но хотя бы одно ясно – его можно сбросить со счетов. Чего толковать с сумасшедшим?
– Да, – сказал Бак, мрачно и решительно соглашаясь. – Вы совершенно правы, Баркер. Он парень-то неплохой, но это верно: чего толковать с сумасшедшим? Давайте рассудим попросту: пойдите скажите первым десяти прохожим, любому городскому врачу, что одному тут предложили полторы тысячи фунтов за земельный участок, которому красная цена четыреста, а он в ответ что-то мелет о нерушимых правах Ноттинг-Хилла и называет его священной горой. Что вам скажут, как вы думаете? На нашей стороне здравый смысл простых людей – чего еще нам надо? На чем все законы держатся, как не на здравом смысле? Я вот что скажу, Баркер: правда, хватит трепаться. Прямо сейчас посылаем рабочих – и с Насосным переулком покончено. А если старина Уэйн хоть слово против брякнет – мы его тут же в желтый дом. Поговорили – и будет.
У Баркера загорелись глаза.
– Извините за комплимент, Бак, но я всегда считал вас настоящим человеком дела. Я вас целиком поддерживаю.
– Я, разумеется, тоже, – заявил Уилсон. Бак победно выпрямился.
– Ваше Величество, – сказал он, в новой роли народного трибуна, – я смиренно умоляю Ваше Величество поддержать это наше предложение, с которым все согласны. И уступчивость Вашего Величества, и наши старания – все было впустую, не тот человек. Может, он и прав. Может, он и взаправду Бог, а нет – так дьявол. Но в интересах дела мы решили, что он – умалишенный. Начнешь с ним канителиться – пиши пропало. Мы канителиться не станем, и без всяких проволочек принимаемся за Ноттинг-Хилл.
Король откинулся в кресле.
– Хартия предместий… – звучно выговорил он.
Но Бак теперь уже взял быка за рога, сделался осторожнее и не проявил неуважения к монаршим дурачествам.
– Ваше Величество, – сказал он, почтительно поклонившись, – я слова не скажу против ваших деяний и речений. Вы человек образованный, не то что я, и стало быть, какие ни на есть, а есть причины – интеллектуальные, наверно, – для всей этой круговерти. Но я вас вот о чем спрошу – и пожалуйста, если можно, ответьте мне по совести. Вы когда сочиняли свою Хартию предместий – вы могли подумать, что явится на свет Божий такой Адам Уэйн? Могли вы ожидать, что ваша Хартия – пусть это будет эксперимент, пусть декорация, пусть просто шутка, не важно, – но что она застопорит огромные деловые начинания, перегородит дорогу кебам, омнибусам, поездам, что она разорит полгорода и приведет чуть ли не к гражданской войне? На что бы вы ни рассчитывали, но уж не на это, верно?
Баркер и Уилсон восхищенно посмотрели на него; король взглянул еще восхищенней.
– Лорд-мэр Бак, – сказал Оберон, – ораторствуете вы так, что лучше некуда. И я как художник слова великодушно снимаю перед вами шляпу. Нет, я нимало не предвидел возникновения мистера Уэйна. Ах! если б у меня хватило на это поэтического чутья!
– Благодарствуйте, Ваше Величество, – с почтительной поспешностью отозвался Бак. – Ваше Величество всегда изъясняетесь внятно и продуманно, и я не премину сделать вывод из ваших слов. Раз ваш заветный замысел, каков бы он ни был, не предполагал возникновения мистера Уэйна, то исчезновение мистера Уэйна вам тоже нипочем. Так позвольте уж нам снести к чертовой матери этот треклятый Насосный переулок, который мешает нашим замыслам и ничуть, как вы сами сказали, не способствует вашим.
– Вмазал! – заметил король с восторженным безучастием, словно зритель на матче.
– Уэйна этого, – продолжал Бак, – любой доктор тут же упрячет в больницу. Но этого нам не надо, пусть его просто посмотрят. А тем временем ну никто, ну даже он сам, не понесет ни малейшего урона из-за обновления Ноттинг-Хилла. Мы-то, само собой, не понесем: мы это дело тихо обмозговывали добрых десять лет. И в Ноттинг-Хилле никто не пострадает: все его нормальные обитатели ждут не дождутся перемен. Ваше Величество тоже останется при своем: вы же сами говорите и, как всегда, здраво, что никак не предвидели появления этого оглашенного. И, повторяю, сам он тоже только выиграет: он – малый добродушный и даже даровитый, а ежели его посмотрит доктор-другой, так толку будет больше, чем от всех свободных городов и священных гор. Словом, я полагаю – извините, если это на ваш слух дерзко звучит, – что Ваше Величество не станет препятствовать продолжению строительных работ.
И мистер Бак уселся под негромкий, но восторженный гул одобрения.
– Мистер Бак, прошу у вас прощенья за посещавшие меня порой изящные и возвышенные мысли, в которых вам неизменно отводилась роль последнего болвана. Впрочем, мы сейчас не о том. Предположим, пошлете вы своих рабочих, а мистер Уэйн – он ведь на это вполне способен – выпроводит их с колотушками?
– Я подумал об этом, Ваше Величество, – с готовностью отвечал Бак, – и не предвижу особых затруднений. Отправим рабочих с хорошей охраной, отправим с ними – ну, скажем, сотню алебардщиков Северного Кенсингтона (он брезгливо ухмыльнулся), столь любезных сердцу Вашего Величества. Или, пожалуй, сто пятьдесят. В Насосном переулке всего-то, кажется, сотня жителей, вряд ли больше.
– А если эта сотня все-таки задаст вам жару? – задумчиво спросил король.
– В чем дело, пошлем две сотни, – весело возразил Бак.
– Знаете ли, – мягко предположил король, – оно ведь может статься, что один алебардщик Ноттинг-Хилла стоит двух северных кенсингтонцев.
– Может и такое статься, – равнодушно согласился Бак. – Ну что ж, пошлем двести пятьдесят.
Король закусил губу.
– А если и этих побьют? – ехидно спросил он.
– Ваше Величество, – ответствовал Бак, усевшись поудобнее, – и такое может быть. Ясно одно – и уж это яснее ясного: что война – простая арифметика. Положим, выставит против нас Ноттинг-Хилл сто пятьдесят бойцов. Ладно, пусть двести И каждый из них стоит двух наших – тогда что же, пошлем туда не четыре даже сотни, а целых шесть, и уж тут хочешь не хочешь, наша возьмет. Невозможно ведь предположить, что любой из них стоит наших четверых? И все же – зачем рисковать? Покончить с ними надо одним махом. Шлем восемьсот, сотрем их в порошок – и за работу.
Мистер Бак извлек из кармана пестрый носовой платок и шумно высморкался.
– Знаете ли, мистер Бак, – сказал король, грустно разглядывая стол, – вы так ясно мыслите, что у меня возникает немыслимое желание съездить вам, не примите за грубость, по морде. Вы меня чрезвычайно раздражаете. Почему бы это, спрашивается? Остатки, что ли, нравственного чувства?
– Однако же, Ваше Величество, – вкрадчиво вмешался Баркер, – вы же не отвергаете наших предложений?
– Любезный Баркер, ваши предложения еще отвратительнее ваших манер. Я их знать не хочу. Ну, а если я вам ничего этого не позволю? Что тогда будет?








