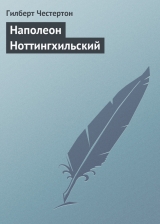
Текст книги "Наполеон Ноттингхильский"
Автор книги: Гилберт Кийт Честертон
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
КНИГА ТРЕТЬЯ
Глава I
Душевный склад Адама Уэйна
Через некоторое время после восшествия короля на престол был опубликован небольшой стихотворный сборник под названием «Горние песнопения». Стихи были не слишком хороши, книга успеха не имела, но привлекла внимание одной критической школы. Сам король, видный ее представитель, откликнулся – естественно, под псевдонимом – на появление сборничка в спортивном журнале «Прямиком с манежа». Вообще-то школу эту называли «Прямиком из гамака», ибо какой-то недруг ехидно подсчитал, что не менее тринадцати образчиков их изящной критической прозы начинались словами: «Я прочел эту книгу в гамаке: дремотно пригревало солнце, и я, в зыбкой дреме…» – правда, в остальном рецензии существенно различались. Из гамака критикам нравилось все, в особенности же все дурацкое. «Разумеется, лучше всего, когда книга подлинно хороша, – говорили они, – но этого, увы! не бывает, и стало быть, желательно, чтоб она была по-настоящему плоха». Поэтому за их похвалой – то бишь свидетельством, что книга по-настоящему плоха, – не очень-то гнались, и авторам, на которых обращали благосклонное внимание критики «Из гамака», становилось немного не по себе.
Но «Горние песнопения» и правда были особь статья: там воспевались красоты Лондона в пику красотам природы. Такие чувства, а вернее, пристрастия в двадцатом столетье, конечно, не редкость, и хотя чувства эти порой преувеличивались, а нередко и подделывались, но питала их бесспорная истина: ведь город действительно поэтичнее, нежели лоно природы в том смысле, что он ближе человеку по духу, – тот же Лондон если и не великий шедевр человека, то уж во всяком случае немалое человеческое прегрешение. Улица и вправду поэтичнее, чем лесная лужайка, потому что улица таинственна. Она хоть куда-нибудь да ведет, а лужайка не ведет никуда. Но «Горние песнопения» имели дополнительную особенность, которую король весьма проницательно подметил в своей рецензии. Он тут был лицо заинтересованное: он и сам недавно опубликовал сборник стихов о Лондоне под псевдонимом «Маргарита Млей».
Коренная разница между этими разновидностями городской лирики, как указывал король, состояла в том, что украшатели вроде Маргариты Млей (к чьему изысканному слогу король-рецензент за подписью Громобой был, пожалуй, чересчур придирчив) воспевают Лондон, точно творение природы, то есть в образах, заимствованных с ее лона – и напротив того, мужественный автор «Горних песнопений» воспевает явления природы в образах города, на городском фоне.
«Возьмите, – предлагал критик, – типично женские строки стихотворения „К изобретателю пролетки“:
Раковину поэт изваял мастерством своим,
Где отнюдь не тесно двоим
«Само собой разумеется, – писал король, – что только женщина могла сочинить эти строки. У женщин вообще слабость к природе; искусство имеет для них прелесть лишь как ее эхо или бледная тень. Казалось бы, теоретически и тематически она восхваляет пролетку, но в душе-то она – все еще дитя, собирающее ракушки на берегу моря. Она не может, подобно мужчине, сделаться, так сказать, городским завсегдатаем: не сам ли язык, заодно с приличиями, подсказывает нам выражение „завсегдатай злачных мест“? Кто когда-нибудь слышал о „завсегдатайщице“? Но даже если женщина приноровится к городским злачным местам, образцом для нее все равно остается природа: она ее носит с собой во всех видах. На голове у нее колышутся как бы травы; пушные звери тянут оскаленные пасти к ее горлу. Посреди тусклого города она нахлобучивает на голову не столько шляпку, сколько коттедж с цветником. У нас больше чувства гражданской ответственности, чем у нее. Мы носим на голове подобие фабричной трубы, эмблему цивилизации. Без птиц ей никак нельзя, и по ее капризу пернатых убивают десятками – и голова ее изображает дерево, утыканное символическими подобьями мертвых певуний».
В том же роде он упражнялся еще страницу-другую; затем король-критик вспоминал, о чем, собственно, идет речь, и снова цитировал:
Раковину поэт изваял мастерством своим,
Где отнюдь не тесно двоим
«Специфика этих изящных, хоть и несколько изнеженных строк, – продолжал Громобой, – как мы уже сказали, в том, что они воспевают пролетку, сравнивая ее с раковиной, с изделием природы. Посмотрим же, как подходит к той же теме автор „Горних песнопений“. В его прекрасном ноктюрне, названном „Последний омнибус“, настроение тяжкой и безысходной грусти разрешается наконец мощным стиховым броском:
И ветер взметнулся из-за угла,
Точно вылетел быстрый кеб
«Вот где разница особенно очевидна. Маргарита Млей полагает, будто для пролетки сравнение с изящной морской завитушкой куда как лестно. Автор же „Горних песнопений“ считает лестным для предвечного вихря сравненье с извозчичьим кебом. Он не устает восхищаться Лондоном. За недостатком места мы не можем сыпать дальнейшими превосходными примерами, подобными вышеприведенному, и не станем разбирать, например, стихотворение, в котором женские глаза уподобляются не путеводным звездам, нет – а двум ярким уличным фонарям, озаряющим путь скитальца. Не станем также говорить об отменных стансах, елизаветинских по духу, где поэт, однако, не пишет, что на лице возлюбленной розы соревновали лилеям – нет, в современном и более строгом духе он описывает ее лицо совсем иначе: на нем соревнуются красный хаммерсмитский и белый фулемский омнибусы. Великолепен этот образ двух омнибусов-соперников!»
На этом статья довольно неожиданно заканчивалась: должно быть, королю понадобились деньги и он срочно отослал ее в редакцию. Но каким бы он ни был монархом, критиком он был Отличным, и угодил, можно сказать, в самую точку. «Горние песнопения» ничуть не походили ни на какие прежние восхваления Лондона, потому что автор их действительно ничего, кроме Лондона, в жизни не видел, так что Лондон казался ему вселенной. Написал их зеленый, рыжеволосый юнец семнадцати лет от роду по имени Адам Уэйн, уроженец Ноттинг-Хилла. Случилось так, что в семь лет его не взяли, как собирались, на море, и больше он из Лондона не выезжал: жил себе да жил в своем Насосном переулке, наведываясь в окрестные улочки.
Вот он и не отличал уличных фонарей от звезд небесных; для него их свет смешался. Дома казались ему незыблемыми вроде гор: он и писал о них, как другой будет писать о горах. Всякий видит природу в своем обличье; пред ним она предстала в обличье Ноттинг-Хилла. Для поэта – уроженца графства Камберленд – природа – это бурливое море и прибрежные рифы. Для поэта, рожденного средь Эссекских равнин, природа – сверканье тихих вод и сияние закатов. А Уэйну природа виделась лиловыми скатами крыш и вереницей лимонно-желтых фонарей – городской светотенью. Воспевая тени и цвета города, он не стремился быть ни остроумным, ни забавным: он просто не знал других Цветов и теней, вот и воспевал эти – надо же поэту воспевать хоть какие-то. А он был поэтом, хоть и плохим. Слишком часто забывают, что как дурной человек – все же человек, так и плохой поэт – все же поэт.
Томик стихов мистера Уэйна не имел ни малейшего успеха; и он, со смиренным благоразумием покорившись приговору судьбы, продолжал служить приказчиком в магазине тканей, а стихи писать бросил. Чувство свое к Ноттинг-Хиллу он, конечно, сохранил, потому что это было главное чувство его жизни, краеугольный камень бытия. Но больше он не пробовал ни выражать это чувство, ни вылезать с ним.
Он был мистик по природе своей, из тех, кто живет на границе сказки: и может статься, он первый заметил, как часто эта граница проходит посреди многолюдного города. В двадцати футах от него (он был очень близорук) красные, белые и желтые лучи газовых фонарей сплетались и сливались, образуя огневеющую окраину волшебного леса.
Но, как это ни странно, именно поэтическая неудача вознесла его на вершину небывалого торжества. Он не пробился в литературу – и поэтому стал явлением английской истории. Его томила тщетная жажда художественного самовыражения: он был немым поэтом с колыбели и остался бы таковым до могилы, и унес бы в загробный мрак сокрытую в его душе новую и неслыханную песню – но он родился под счастливой звездой, и ему выпала сказочная удача. Волею судеб он стал лорд-мэром жалкого райончика в самый разгар королевских затей, когда всем районам и райончикам велено было украситься цветами и знаменами. Единственный из процессии безмолвных поэтов, шествующей от начала дней, он вдруг, точно по волшебству, оказался в своей поэтической сфере и смог говорить, действовать и жить по наитию. И сам царственный шутник, и его жертвы полагали, что заняты дурацким розыгрышем; лишь один человек принял его всерьез и сделался всемогущим художником. Доспехи, музыка, штандарты, сигнальные костры, барабанный бой – весь театральный реквизит был к его услугам. Несчастный рифмоплет, спаливши свои опусы, вышел на подмостки и принялся разыгрывать свои поэтические фантазии – а ведь об этом вотще мечтали все поэты, сколько их ни было, мечтали о такой жизни, перед которой сама «Илиада» – всего-навсего дешевый подлог.
Детские мечтания исподволь выпестовали в нем способность или склонность, в современных больших городах почти целиком напускную, по существу же весьма естественную, а для него едва ли не физиологическую – способность или склонность к патриотизму. Она существует, как и прочие пороки и добродетели, в некой сгущенной реальности, и ее ни с чем не спутаешь. Ребенок, восторженно разглагольствующий о своей стране или своей деревне, может привирать, подобно Мандевилю[39]39
Может привирать, подобно Мандевилю. – Мандевиль Бернард (1670—1733), английский мыслитель и сатирик, автор басни о пчелах, в которой утверждает, что эгоизм и жадность созидают экономический прогресс.
[Закрыть], или врать напропалую, как барон Мюнхгаузен, но его болтовня будет внутренне столь же неложной, как хорошая песня. Еще мальчишкой Адам Уэйн проникся к убогим улочкам Ноттинг-Хилла тем же древним благоговением, каким были проникнуты жители Афин или Иерусалима. Он изведал тайну этого чувства, тайну, из-за которой так странно звучат на наш слух старинные народные песни. Он знал, что истинного патриотизма куда больше в скорбных и заунывных песнях, чем в победных маршах. Он знал, что половина обаяния народных исторических песен – в именах собственных. И знал, наконец, главнейшую психическую особенность патриотизма, такую же непременную, как стыдливость, отличающую всех влюбленных: знал, что патриот никогда, ни при каких обстоятельствах не хвастает огромностью своей страны, но ни за что не упустит случая похвастать тем, какая она маленькая.
Все это он знал не потому, что был философом или гением, а потому, что оставался ребенком. Пройдите по любому закоулку вроде Насосного – увидите там маленького Адама, властелина торца мостовой: он тем горделивее, чем меньше этот торец, а лучше всего – если на нем еле-еле умещаются две ступни.
И вот, когда он однажды собрался, не щадя живота, защищать то ли кусок тротуара, то ли неприступную твердыню крыльца, он встретил короля: тот бросил несколько насмешливых фраз – и навсегда определил границы его души. С тех пор он только и помышлял о защите Ноттинг-Хилла в смертельном бою: помышлял так же привычно, как едят, пьют или раскуривают трубку. Впрочем, ради этого он забывал о еде, менял свои планы, просыпался среди ночи и все передумывал заново. Две-три лавчонки служили ему арсеналом; приямок превращался в крепостной ров; на углах балконов и на выступах крылечек размещались мушкетеры и лучники. Почти невозможно представить себе, если не поднапрячься, как густо покрыл он свинцовый Лондон романтической позолотой. Началось это с ним чуть ли не во младенчестве, и со временем стало чем-то вроде обыденного безумия. Оно было всевластно по ночам, когда Лондон больше всего похож на себя; когда городские огни мерцают во тьме, как глаза бесчисленных кошек, а в упрощенных очертаниях черных домов видятся контуры синих гор. Но от него-то ночь ничего не прятала, ему она все открывала, и в бледные утренние и дневные часы он жил, если можно так выразиться, при свете ночной темноты. Отыскался человек, с которым случилось немыслимое: мнимый город стал для него обычным, бордюрные камни и газовые фонари сравнялись древностию с небесами.
Хватит и одного примера. Прогуливаясь с другом по Насосному переулку, он сказал, мечтательно глядя на чугунную ограду палисадника:
– Как закипает кровь при виде этой изгороди!
Его друг и превеликий почитатель мучительно вглядывался В изгородь, но ничего такого не испытывал. Его это столь озадачило, что он раз за разом приходил под вечер поглядеть на изгородь: не закипит ли кровь и у него, но кровь не закипала.
Наконец он не выдержал и спросил у Уэйна, в чем тут дело. Оказалось, что он хоть и приходил к изгороди целых шесть раз, но главного-то и не заметил: что чугунные прутья ограды венчают острия, подобные жалам копий – как, впрочем, почти везде в Лондоне. Ребенком Уэйн полуосознанно уподобил их копьям на картинках с Ланселотом или святым Георгием, и ощущение этого зрительного подобья не покинуло его, так что когда он смотрел на эти прутья, то видел строй копьеносцев, стальную оборону священных жилищ Ноттинг-Хилла. Подобье это прочно, неизгладимо запечатлелось в его душе: это была вовсе не прихоть фантазии. Неверно было бы сказать, что знакомая изгородь напоминает ему строй копий; вернее – что знакомый строй копий иногда представлялся ему изгородью.
Через день-другой после королевской аудиенции Адам Уэйн расхаживал, точно лев в клетке, перед пятью домиками в верхнем конце пресловутого переулка: бакалея, аптека, цирюльня, лавка древностей и магазин игрушек, где также продавались газеты. Эти пять строений он придирчиво облюбовал еще в детстве как средоточие обороны Ноттинг-Хилла, городскую крепость. Ноттинг-Хилл – сердце вселенной, Насосный переулок – сердце Ноттинг-Хилла, а здесь билось сердце Насосного переулка. Строеньица жались друг к другу, и это было хорошо, это отвечало стремлению к уютной тесноте, которое, как водится и как мы уж говорили, было сердцевиной уэйновского патриотизма. Бакалейщик (он к тому же торговал по лицензии вином и крепкими напитками) был нужен как интендант; мечами, пистолетами, протазанами, арбалетами и пищалями из лавки древностей можно было вооружить целое ополчение; игрушечный магазин, он же газетный киоск, нужен затем, что без свободной печати духовная жизнь Насосного переулка заглохнет; аптекарю надлежало гасить вспышки эпидемии среди осажденных, а цирюльник попал в эту компанию оттого, что цирюльня была посредине и потому, что сын цирюльника был близким другом и единомышленником Уэйна.
Лиловые тени и серебряные отблески ясного октябрьского вечера ложились на крыши и трубы крутого переулка, темного, угрюмого и как бы настороженного. В густеющих сумерках пять витрин, точно пять разноцветных костров, лучились газовым светом, а перед ними, как беспокойная тень среди огней чистилища, металась черная нескладная фигура с орлиным носом.
Адам Уэйн размахивал тростью и, по-видимому, горячо спорил сам с собой.
– Вера, – говорил он, – сама по себе всех загадок не разрешает. Положим, истинная философия ясна до последней точки; однако же остается место сомнениям. Вот, например, что первостепеннее: обычные ли человеческие нужды, обычное состояние человека или пламенное душевное устремление к неверной и ненадежной славе? Что предпочтительнее – мирное ли здравомыслие или полубезумная воинская доблесть? Кого мы предпочтем – героя ли повседневности или героя годины бедствий? А если вернуться к исходной загадке, то кто первый на очереди – бакалейщик или аптекарь? Кто из них твердыня нашего града – быстрый ли рыцарственный аптекарь или щедрый благодетельный бакалейщик? Когда дух мятется в сомнениях, надобно ли довериться высшей интуиции и смело идти вперед? Ну что ж, я сделал выбор. Да простится мне, если я неправ, но я выбираю бакалейщика.
– Добрый вечер, сэр, – сказал бакалейщик, человек в летах, изрядно облысевший, с жесткими рыжими баками и бородой, с морщинистым лбом, изборожденным заботами мелкого торговца. – Чем могу быть полезен, сэр?
Входя в лавочку, Уэйн церемонным жестом снял шляпу; в жесте этом не было почти ничего особенного, но торговца он несколько изумил.
– Я пришел, сэр, – отчеканил он, – дабы воззвать к вашему патриотизму.
– Вот так так, сэр, – сказал бакалейщик, – это прямо как в детстве, когда у нас еще бывали выборы.
– Выборы еще будут, – твердо сказал Уэйн, – да и не только выборы. Послушайте меня, мистер Мид. Я знаю, как бакалейщика невольно тянет к космополитизму. Я могу себе представить, каково это – сидеть целый день среди товаров со всех концов земли, из-за неведомых морей, по которым мы никогда не плавали, из неведомых лесов, которые и вообразить невозможно. Ни к одному восточному владыке не спешило столько тяжелогруженых кораблей из закатных и полуденных краев, и царь Соломон во всей славе своей был беднее ваших собратий. Индия – у вашего локтя, – заявил он, повышая голос и указуя тростью на ящик с рисом, причем бакалейщик слегка отшатнулся, – Китай перед вами, позади вас – Демерара, Америка у вас над головой, и в этот миг вы, словно некий испанский адмирал дней былых, держите в руках Тунис.
Мистер Мид обронил коробку фиников и снова растерянно поднял ее.
Уэйн, раскрасневшись, продолжал, но уже потише.
– Я знаю, сказал я, сколь искусительно зрелище этих всесветных, кругосветных богатств. Я знаю – вам, в отличие от многих других торговцев, не грозит вялость и затхлость, не грозит узость кругозора; напротив, есть опасность, что вы будете излишне широки, слишком открыты, чересчур терпимы. И если пирожнику надо остерегаться узкого национализма – ведь свои изделия он печет под небом родной страны, то бакалейщик да остережется космополитизма. Но я пришел к вам во имя того негасимого чувства, которое обязано выдержать соблазны всех странствий, искусы всех впечатлений – я призываю вас вспомнить о Ноттинг-Хилле! Отвлечемся от этой пышности, от этого вселенского великолепия и вспомним – ведь и Ноттинг-Хилл сыграл здесь не последнюю роль. Пусть финики ваши сорваны с высоких берберских пальм, пусть сахар прибыл с незнаемых тропических островов, а чай – с тайных плантаций Поднебесной Империи. Чтобы обставить ваш торговый зал, вырубались леса под знаком Южного Креста, гарпунили левиафанов при свете Полярной звезды. Но вы-то – не последнее из сокровищ этой волшебной пещеры, – вы-то сами, мудрый правитель этих безграничных владений, – вы же взросли, окрепли и умудрились здесь, меж нашими серенькими домишками, под нашим дождливым небом. И вот – граду, взрастившему вас и тем сопричастному вашему несметному достоянию, – этому граду угрожают войной. Смелее же – выступите вперед и скажите громовым голосом: пусть ворванью дарит нас Север, а фруктами – Юг; пусть рис наш – из Индии, а пряности – с Цейлона; пусть овцы – из Новой Зеландии, но мужи – из Ноттинг-Хилла!
Бакалейщик сидел, разинув рот и округлив глаза, похожий на большую рыбину. Потом он почесал в затылке и промолчал. Потом спросил:
– Желаете что-нибудь купить, сэр?
Уэйн окинул лавчонку смутным взором. На глаза ему попалась пирамида из ананасных консервов, и он махнул в ее сторону тростью.
– Да, – сказал он, – заверните вот эти.
– Все банки, сэр? – осведомился бакалейщик уже с неподдельным интересом.
– Да, да; все эти банки, – отвечал Уэйн, слегка ошеломленный, словно после холодного душа.
– Отлично, сэр; благодарим за покупку, – воодушевился бакалейщик. – Можете рассчитывать на мой патриотизм, сэр.
– Я и так на него рассчитываю, – сказал Уэйн и вышел в темноту, уже почти ночную.
Бакалейщик поставил на место коробку с финиками.
– А что, отличный малый! – сказал он. – Да и все они, ей-богу, отличный народ, не то, что мы – хоть и нормальные, а толку?
Тем временем Адам Уэйн стоял в сиянии аптечной витрины и явственно колебался.
– Никак не совладаю с собой, – пробормотал он. – С самого детства не могу избавиться от страха перед этим волшебством. Бакалейщик – он да, он богач, он романтик, он истинный поэт, но – нет, он весь от мира сего. Зато аптекарь! Прочие дома накрепко стоят в Ноттинг-Хилле, а этот выплывает из царства эльфов. Страшно даже взглянуть на эти огромные разноцветные колбы. Не на них ли глядя, Бог расцвечивает закаты? Да, это сверхчеловеческое, а сверхчеловеческое тем страшнее, чем благотворнее. Отсюда и страх Божий. Да, я боюсь. Но я соберусь с духом и войду.
Он собрался с духом и вошел. Низенький, чернявый молодой человек в очках стоял за конторкой и приветствовал клиента лучезарной, но вполне деловой улыбкой.
– Прекрасный вечер, сэр, – сказал он.
– Поистине прекрасный, о отец чудес, – отозвался Адам, опасливо простерши к нему руки. – В такие-то ясные, тихие вечера ваше заведение и являет себя миру во всей своей красе. Круглее обычного кажутся ваши зеленые, золотые и темно-красные луны, издалека притягивающие паломников болести и хвори к чертогам милосердного волшебства.
– Чего изволите? – спросил аптекарь.
– Сейчас, минуточку, – сказал Уэйн, дружелюбно и неопределенно. – Знаете, дайте мне нюхательной соли.
– Вам какой флакон – восемь пенсов, десять или шиллинг шесть пенсов? – ласково поинтересовался молодой человек.
– Шиллинг шесть, шиллинг шесть, – отвечал Уэйн с диковатой угодливостью. – Я пришел, мистер Баулз, затем, чтобы задать вам страшный вопрос.
Он помедлил и снова собрался с духом.
– Главное, – бормотал он, – главное – чутье, надо ко всем искать верный подход.
– Я пришел, – заявил он вслух, – задать вам вопрос, коренной вопрос, от решения которого зависит судьба вашего чародейного ремесла. Мистер Баулз, неужели же колдовство это попросту сгинет? – и он повел кругом тростью.
Ответа не последовало, и он с жаром продолжал:
– Мы у себя в Ноттинг-Хилле полною мерой изведали вашу чудодейственную силу. Но теперь и самый Ноттинг-Хилл под угрозой.
– Еще чего бы вы хотели, сэр? – осведомился аптекарь.
– Ну, – сказал Уэйн, немного растерявшись, – ну что там продают в аптеках? Ах да, хинин. Вот-вот, спасибо. Да, так что же, суждено ли ему сгинуть? Я видел наших врагов из Бейзуотера и Северного Кенсингтона, мистер Баулз, они отпетые материалисты. Ничто для них ваша магия, и в своих краях они тоже ее в грош не ставят. Они думают, аптекарь – это так, пустяки. Они думают, что аптекарь – человек как человек.
Аптекарь немного помолчал – видимо, трудно было снести непереносимое оскорбление, – и затем поспешно проговорил:
– Что еще прикажете?
– Квасцы, – бросил лорд-мэр. – Итак, лишь в пределах нашего священного града чтут ваше дивное призвание. И, сражаясь за нашу землю, вы сражаетесь не только за себя, но и за все то, что вы воплощаете. Вы бьетесь не только за Ноттинг-Хилл, но и за таинственный сказочный край, ибо если возобладают Бак, Баркер и им подобные золотопоклонники, то, как ни странно, поблекнет и волшебное царство сказок.
– Еще что-нибудь, сэр? – спросил мистер Баулз, сохраняя внешнюю веселость.
– Да, да, таблетки от кашля – касторку – магнезию. Опасность надвинулась вплотную. И я все время чувствовал, что отстаиваю не один лишь свой родной город (хотя за него я готов пролить кровь до капли), но и за все те края, которые ждут не дождутся торжества наших идеалов. Не один Ноттинг-Хилл мне дорог, но также и Бейзуотер, также и Северный Кенсингтон. Ведь если верх возьмут эти денежные тузы, то они повсюду опоганят исконные благородные чувства и тайны народной души. Я знаю, что могу рассчитывать на вас.
– Разумеется, сэр, – горячо подтвердил аптекарь, – мы всегда стараемся удовлетворить покупателя.
Адам Уэйн вышел из аптеки с отрадным чувством исполненного долга.
– Как это замечательно, – сказал он сам себе, – что у меня есть чутье, что я сумел сыграть на их чувствительных струнах, задеть за живое и космополита-бакалейщика, и некроманта-аптекаря с его древним, как мир, загадочным ремеслом. Да, где бы я был без чутья?








