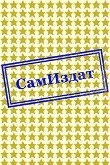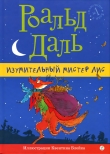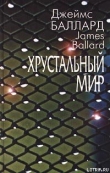Текст книги "Искатель. 1966. Выпуск №4"
Автор книги: Гилберт Кийт Честертон
Соавторы: Аркадий Адамов,Джон Бойнтон Пристли,Анатолий Днепров,Дмитрий Биленкин,Геннадий Гор,Сергей Жемайтис,Мишель Демют,Лев Эджубов,Маун Джи
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
РАЗМЫШЛЯЯ О ВРЕМЕНИ…
Стало почти очевидной истиной выражение: «Самое простое – самое сложное». Если под простым понимать то, к чему мы привыкли и над чем не задумываемся, хотя и встречаемся почти непрерывно, то под это определение «простого» подходит и знакомое нам всем время.
О времени можно рассуждать без конца именно из-за его кажущейся простоты, обыденности, неизбежности, одним словом, потому, что око якобы не содержит в себе больше того, что людям нужно в их повседневной жизни.
«У меня не хватает времени…», «Время промчалось незаметно…», «Это было хорошее время…», «Наступит время…»
Мы произносим эти фразы по нескольку раз в день, будучи уверенными, что понимаем всю глубину их содержания, не задумываясь над тем, что мы в действительности имеем в виду.
Эта кажущаяся простота понятия времени объясняется тем интуитивно воспринимаемым ощущением, что мы сами постоянно находимся в его непрекращающемся потоке, что оно «все время» с нами, мы чувствуем его бег, мы умеем просто и удобно его измерять при помощи часов, и что вся наша жизнь «расписана» по времени так, что наше сознание привыкло к нему как к чему-то естественному и неизбежному.
Субъективному ощущению времени в немалой степени способствует то, что ученые называют «биологическими часами», – физиологические процессы, связанные с определенным периодом, которые совершаются внутри живых организмов, в том числе и внутри человеческого организма.
О времени, его сущности и его природе рассуждали и писали с незапамятных времен философы и ученые, и не следует думать, что и сейчас вопрос о том, что такое время, окончательно решен. Как и всякое фундаментальное свойство мира, время обладает качествами и особенностями, которые непрерывно познаются со все большей глубиной по мере развития науки вообще. В конце прошлого столетия понятие времени было подвергнуто глубокому анализу Фридрихом Энгельсом, который на основе новейших достижений естествознания дал классическое определение времени как формы существования материи и, следовательно, объективной реальности, существующей независимо от познающего время «Я».
С тех пор стало ясно, что время, как и пространство, неотделимо от материи и что вне материи понятие «время» не имеет смысла.
Вечное, непрерывное движение, совершаемое материей, происходит во времени, и если бы представить фантастический мир, где вдруг исчезла бы материя и, следовательно, всякое движение, то говорить о течении времени в таком мире было бы совершенно бессмысленно.
Теория относительности показала, что время не обладает «универсальной» скоростью течения и что ход времени тесно связан со скоростью движения материи. Этот некогда парадоксальный вывод в настоящее время подтвержден прямыми измерениями времени жизни некоторых ядерных частиц, для которых оказалось, что их «время жизни» тем большее, чем быстрее они двигаются.
Таким образом время приобрело свойство относительности и перестало быть тем «абсолютом», который ввел в точную науку Ньютон.
Именно эйнштейновские рассуждения об относительности времени вдохновили Герберта Уэллса написать свою «Машину времени».
Знаменитый путешественник по времени рассуждал так:
«Пространство, как понимают его наши математики, имеет три измерения, которые называют длиной, шириной и высотой… Однако некоторые философские умы задавали себе вопрос: почему же могут существовать только три измерения? Почему не может существовать еще одно направление под прямым углом к трем остальным?.. Ученые, – продолжал путешественник но времени, помолчав для того, чтобы мы, лучше усвоили сказанное, – отлично знают, что Время только особый вид Пространства».
Для удобства описания явлений природы ученые – математики и физики – привыкли объединять пространство и время в единый четырехмерный мир, и это объединение породило надежду осуществить путешествие во времени.
Если можно передвигаться в любом направлении в пространстве, то почему нельзя перемещаться во времени? Ведь оно не менее реально, чем и само пространство.
Со времен Уэллса почти все писатели, которые увлекаются жанром научной фантастики, в различных вариантах писали о путешествиях по времени. В этих путешествиях рассказывается и о перемещении в Прошлое, и о перелетах в Будущее, и о том, как время полностью остановилось.
Научная фантастика – это не тот жанр литературы, который правомерно подвергать строгому научному анализу. Очень часто фантастический элемент придумывается писателем вовсе не для доказательства или опровержения научной идеи. Эта литература часто смыкается с обыкновенной сказкой, и обвинять писателей в прегрешении против научной истины можно лишь в той степени, в какой их произведения претендуют на научность.
Фантастическая литература о путешествиях во времени столь обширна и многообразна, что вполне имеет смысл подумать о реальной природе времени и всех тех понятиях, которые с ним связаны.
Непреложной и понятной для любого человека является истина, что время течет из прошлого, через настоящее в будущее. В отличие от пространства, которое является симметричным относительно прямого и противоположного перемещения, время имеет лишь одно направление. Если стрелкой изобразить течение времени, то эта стрелка всегда устремлена в одну сторону в будущее. Это свойство времени ученые называют однонаправленностью.
В отличие от пространства время обладает еще одним важным свойством, которое называется л и н е й н о с т ь ю. Действительно, для того чтобы определить положение в пространстве, нужно знать три числа, три координаты, соответствующие расстояниям данной точки от трех выбранных плоскостей. Для определения «положения» какого-либо события во времени достаточно только одного числа: значит, в отличие от трехмерного пространства время одномерно.
Из этих очень понятных свойств времени следует один очень важный вывод. Путешествуя в пространстве, мы можем попасть из одной точки в другую бесконечным числом путей. Эти пути могут быть выбраны таким образом, что ни при каком путешествии мы не будем дважды перемещаться через одни и те же пункты. Или, наоборот, пути из одного пункта в другой могут сколь угодно большое число раз пересекаться.
Ничего подобного в «путешествиях» во времени не может быть. Все события, совершающиеся в мире, лежат «на одной линии», и эта линия и есть единственный маршрут из прошлого в будущее.
Мы употребляем слова «прошлое», «настоящее» и «будущее» в таком смысле, будто они полностью исчерпывают свое реальное содержание.
Однако для более глубокого понимания сущности времени нужно разобраться, что же эти слова в действительности означают.
Прошлое – это то, что было, что уже совершилось вчера, позавчера, год, десять лет, миллиард лет тому назад. Прошлое либо «хранится» в нашей памяти, либо «запротоколировано» в сочинениях летописцев и историков, либо зафиксировано на объектах археологических или палеонтологических находок.
Прошлое нельзя вернуть и изменить. Его можно лишь изучать с тем большей точностью, чем большими материалами мы располагаем для того, чтобы его «воспроизвести» в будущем.
Для воссоздания прошлого в кинокартинах или в произведениях литературы авторы вынуждены скрупулезно изучать «протоколы» прошлого: записи, фотографии, рисунки, реликвии.
Именно в этом смысле для человека в е г о реальности прошлое тоже реально, хотя не существует способа зафиксировать прошлое во всех его бесконечных деталях. Но мы знаем, что эти бесконечные детали прошлых событий существовали, хотя нам известно лишь о некоторых из них. Уверенность в этом утверждается еще и тем очевидным фактом, что наше настоящее – это результат прошлых событий, или, говоря языком науки, следствие прошлого развития, а само прошлое является причиной настоящего и будущего.
Мы знаем, что в мире не существует беспричинных явлений и, значит, всякое событие, с которым мы сталкиваемся сегодня или столкнемся в будущем, причинно обусловлено прошлым.
Если перенестись в фантастическую обстановку, где, скажем, время остановилось, то в таком мире не существовало бы никакой причинно-следственной связи между событиями.
В реальной жизни такого, конечно, не бывает и не может быть.
Итак, прошлое реально и неизменно, а в силу однонаправленности времени и его одномерности путешествие в прошлое лишено всякого научного смысла.
Будущее тоже обладает интересными свойствами. Оно нереально в том смысле, что то, что должно совершиться, еще не совершилось.
Однако, зная законы природы и законы развития человеческого общества, мы тем самым можем в меру наших знаний предсказывать будущее и в известной степени влиять на него. Скажем, я утверждаю, что 1 января 1967 года солнце в Москве взойдет в 9 утра, С той же уверенностью я могу предсказать и другие будущие события, связанные с астрономическими явлениями. Я могу предсказать, что если завтра, в двенадцать часов дня я солью вместе две жидкости – раствор азотнокислого серебра и раствор хлористого натрия, то выпадет осадок в виде хлористого серебра. Я могу утверждать, что если я поверну через час выключатель, то загорится электрическая лампочка.
Лучший пример предвидения исторических тенденций на основе изучения закономерностей развития общества являет нам марксистский анализ капиталистической формации. Основоположники теории марксизма-ленинизма предсказали неизбежную смену этой формации более прогрессивной коммунистической и ее начальной ступенью – социалистической формацией.
Но в мире наряду с закономерными явлениями существуют еще так называемые случайные явления, которые отражают также объективную необходимость. Случайные явления кажутся нам «случайными», то есть якобы «беспричинными», потому, что мы либо не раскрыли все законы природы, либо знаем их недостаточно точно, либо количество причин, обусловливающих «случайное» явление, столь велико, что мы их в настоящее бремя не можем учесть. Например, мы можем с уверенностью сказать, что в будущем году в атмосферу Земли из космического пространства ворвется несколько метеоритов, но мы не можем точно сказать, когда это будет. В большом городе пока что происходят автомобильные катастрофы, и мы уверены, что они произойдут через два месяца, но мы не знаем точно, когда и какой автомобиль попадет в аварию.
Случайные события в будущем, непредсказуемость которых отражает меру нашего незнания объективного мира, создают у людей впечатление «неизбежной судьбы», «рока», хотя при этом забывают, что было время, когда «судьба» руководила и солнечными затмениями.
Из приведенных рассуждений следует, что будущее «создавалось» в прошлом и «создается» в настоящем, но его пока что нет.
Таким образом, путешествие в будущее так же фантастично, как, например, вселение в дом, который еще не построен и существует только в чертежах.
Любопытными свойствами обладает настоящее, то есть момент времени, в котором мы живем. Во всем потоке времени это единственный момент, в реальности которого никто не сомневается. Однако эта реальность особого рода. Она мгновенна, и то, что есть теперь, через мгновение оказывается в прошлом, а то, что секунду тому назад было в будущем, оказалось «теперь»… Реальный момент времени подобен мчащемуся по рельсам поезду, который находится возле данного светофора и одновременно проносится мимо него.
Настоящее можно зафиксировать в мгновенной фотографии или зарисовать, и тогда оно представится неподвижным и застывшим.
В настоящем мы наблюдаем вечное движение и изменение мира, и именно оно дает нам представление об объективном характере времени как формы существования материи.
Как говорят физики, настоящее – это «сечение» четырехмерного мира в фиксированный момент времени.
Поскольку поток времени линейный, сечение линии представляет одну точку, а точка, как известно, не имеет измерений. Поэтому настоящее не имеет никакой протяженности во времени.
Любопытно, что некоторые законы природы совершенно «безразличны» к тому, в каком направлении течет время. Например, все законы механики были бы справедливы, если бы время потекло вспять – из будущего через настоящее в прошлое.
Однако это касается только «простейших» законов. Можно на киноленте сфотографировать движение автомобиля, а после прокрутить эту ленту в обратном направлении. То, что автомобиль при этом поедет задом наперед, никого не удивит, потому что машина снабжена обратным ходом. Однако прокрученные наоборот кадры, изображающие, как упавшее на асфальт разбитое яйцо превращается в целое, заставят зрителя смеяться. Такого в реальном мире никогда не бывает.
В чем здесь дело?
Физика знает два вида процессов. Одни называются обратимыми, другие – необратимыми. Обратимые процессы таковы, что они могут с успехом совершаться в прямом и обратном направлениях. Обращение таких процессов допускается законами природы, оно им не противоречит.
Что касается необратимых процессов, то они однонаправленны, и их обращение не наблюдается.
Самым понятным для человека необратимым процессом является процесс старения.
Еще никто никогда не наблюдал, чтобы организм из старого превращался в молодой. Сам человек, рождаясь, непрерывно стареет, и как это ни печально, этот процесс всегда заканчивается смертью и полной деградацией вещества, из которого построен организм. Кстати, эта необратимость и неизбежность «судьбы» живого организма особенно остро заставляет чувствовать однонаправленность течения времени из прошлого в будущее.
Однонаправленность времени тесно связана с необратимостью некоторых физических процессов, а определение направления времени осуществляется путем его сравнения с необратимыми процессами.
Подводя итоги, нельзя не вспомнить об одной научно обоснованной (во всяком случае, еще не опровергнутой) «возможности» совершить путешествие в будущее, которая предсказывается теорией относительности. Эта «возможность» также используется писателями-фантастами.
Сейчас ученые довольно часто дискутируют так называемый эйнштейновский «парадокс близнецов». Если один из братьев-близнецов совершит путешествие на ракете, которая будет лететь со скоростью, близкой к скорости света, то, вернувшись домой, он окажется значительно моложе того, кто остался на Земле. Да и вообще согласно теоретическим выкладкам между двумя близнецами возникнут серьезные разногласия относительно времени и календаря. Тот, который летал на ракете, якобы окажется в будущем.
Отвлекаясь от серьезных затруднений, которые возникают при объяснении этого парадокса, нужно отметить, что речь идет не о путешествии в несуществующее будущее, а о возвращении в мир, где время текло быстрее, чем время в космическом аппарате. Пример аналогичного «путешествия» в будущее представил тот же Герберт Уэллс в романе «Когда спящий проснется».
Правда, субсветовой космонавт не будет все время спать, но, если верить теории, все физические и химические процессы на корабле, а также и в его организме будут столь замедленными, что аналогия если не со спящим, то с дремлющим человеком здесь вполне допустима.
Степень наших научных знаний о времени дает нам уверенность утверждать, что, совершаемые героями фантастических произведений путешествия во времени действительно фантастика. Машина времени, по-видимому, относится к таким «изобретениям» человеческого ума, которые никогда не будут реализованы.
А. П. МИЦКЕВИЧ, кандидат физико-математических наук
СЕРГЕЙ ЖЕМАЙТИС
НАЛЕТ «ЛАПОТНИКОВ»
Рассказ

От самой переправы через Дон широкая уезженная дорога взмывала вверх на меловые кручи. Стонали машины, одолевая бесконечный подъем, надрывались лошади, попарно впряженные в брички. По обочине дороги поднималась цепочка солдат. Они шли на передовую не спеша, часто останавливались, курили, глядели на придонскую равнину. С горы верхом на маленьком пегом коньке спускался толстый солдат с большой кожаной сумкой на боку. Он откинулся назад, туго натянул поводья и смотрел, как все кавалеристы и шоферы, с легким презрением на пехотинцев и на весь мир. Иванов помахал рукой.
– Здорово, Кульков! За почтой?
Кульков молча кивнул, но, проехав несколько шагов, обернулся и крикнул тенорком:
– Эй, старшой! Твой Степанов в зенитной батарее комвзвода. Вон там на пригорке возле леса!
– Спасибо, браток!
Почтальон звонко шлепнул лошаденку по крупу и заорал неестественно свирепым голосом:
– Куда несет тебя, тварь нерусская!
Кто-то из солдат сказал:
– Этого коня он, ребята, у венгерского генерала отбил! Чистых кровей скотинка.
Солдаты грохнули.
Ложкин улыбнулся, спросил:
– Нашел своего Кешку?
– Как будто. Зайдем. Посмотришь на моего дружка. Спасибо Кулькову! С виду воображает, а видно, парень душевный.
– Давай заглянем, – согласился Ложкин, – до вечера далеко, к тому же сибиряки народ гостеприимный.
– Встретит как надо! Чай организует. – Иванов покрутил головой, усмехнулся. – Чудно у нас с ним получилось, с этим Кешкой. Он из Черепановки, это в десяти верстах от наших Елагиных заимок. Знали мы с ним друг друга давно, еще по школе, но чтоб дружить, так этого не было. Встретимся, поговорим, покурим, и до новой встречи, словом, как говорят, шапочное знакомство. И тут, надо же случиться, влюбились разом в Соню Северьянову. Красавица, веселая… Сойдемся с Кешкой, в глазах темнеет, прямо хоть бери пистолеты и стреляйся из-за Сониных прекрасных глаз. Да скоро помирила нас Софья – выскочила замуж за Петьку Грохотулина. Парень под стать ей самой: гармонист и балагур. Обвел нас, чертяка, вокруг пальца. Смех! Мы через него ей записки передавали. Нашли наперсника! И вот на почве общей несчастной любви подружились мы с Иннокентием. Деревни наши не так чтоб уж рядом, а каждую неделю виделись, то он ко мне на мотоцикле примчится, то я к нему, рыбачили вместе, охотились. Было время! За два года перед войной он в военную школу ушел. Математик он замечательный! Для всего класса задачки решал. Ну и стрелок я тебе скажу… – Иванов стал рассказывать об охоте на перелетных гусей.
Они обогнали обоз. Ездовой, весь в белой, как мука, пыли говорил солдату, который шел рядом с бричкой:
– Сейчас там, ниже по Дону, арбуз солят. Ох, и арбуз! Только ножом ткнешь, а он хрясть – и расколется. Нутро у него как в серебре от сахара, возьмешь его…
Ветер уносил с дороги белую пыль. Под горой рычали машины. Собеседник ездового испуганно сказал:
– «Рама», вот язва! И зудит и зудит!
Снизу из сосняка застучали зенитки. «Рама» спикировала, спасаясь от разрывов, и ушла над Доном за линию фронта. Иванов спросил:
– Видал, как под самым брюхом врезали? Унесла ноги! Но они ее подсидят. Это еще Кешка со своей батареей не вступил, а то бы закувыркалась!
– В «раму» попасть трудно.
– Это почему?
– Она все время меняет курс.
– Доменяется. Ты Кешку не знаешь. Он белку в глаз бьет!
– Тут, видишь ли, другие принципы стрельбы.
– Он ей покажет принципы!
– Ну хорошо…
– Нет, совсем не хорошо! Какие, к дьяволу, принципы для фашистов – бей, и все!
– А вот это уже и есть принцип.
– Ну ладно, с тобой не сговоришь. Ты в споре как репей: его с рукава сбросишь, а он за штанину цепляется. Ну да ладно, я же знаю, к чему ты клонишь. Самолет, конечно, не белка, да и пушка эта не мелкокалиберная винтовка.
Они поднялись на меловую кручу. Дорога уходила в низкий густой лес, зеленой овчиной укрывавший нагорье. Зенитная батарея вытянулась в линию на опушке, в редком кустарнике. У орудий стояли расчеты, доносились слова команд.
– Кажется, не вовремя, – сказал Иванов, щурясь на солнце: туда были направлены стволы орудий. – Да ничего, подождем пока отстреляются. Интересно посмотреть со стороны, как другие воюют. Летят! Слышишь?
Ложкин лег на траву и стал смотреть в бледно-голубое жаркое небо. Оно еле слышно гудело.
– Идут на переправу, – сказал Иванов. – Солнцем прикрываются.
Ложкин закрыл глаза, спину покалывали сухие травинки. Глаза у него слипались. Сегодня они с Ивановым вскочили на рассвете, когда лейтенант Бычков с тремя разведчиками привел «языка».
– Сержант Ложкин, принимайте продукцию! – громко сказал лейтенант, входя в комнату.
Бычков был весел, возбужден и, как всегда, свежий и чистый, только сапоги запылились. Немецкий майор, высокий, гладкий, весь в желтой глине, жалко улыбался, стоя между Свойским и Четвериковым.
– Ну боров! – сказал Свойский, вешая на стенку автомат. – Не хотел, паразит, идти, полдороги тащили волоком.
– Пудов восемь, – заметил Четвериков.
Ложкин спросил пленного, не хочет ли он напиться после столь утомительного пути.
Майор выпил двухлитровый котелок воды и, захлебываясь, стал рассказывать, как его взяли в плен из-за нерадивого денщика Шульца.
– Что он там оправдывается? – спросил Свойский.
– Говорит, что попал в плен из-за растяпы денщика, который не вычистил его пистолет, и «вальтер» дал осечку.
– Это мы сейчас проверим, – Свойский вытащил из кармана новенький «вальтер», отвел предохранитель и поднял пистолет к потолку…
Сон перемежался с явью. Ложкин слышал и стрекот кузнечиков и уже совсем близкий гул самолетов, улавливал замечания Иванова и, заснув на миг, услышал смех разведчиков и приказание лейтенанта Бычкова отвести «языка» в штаб дивизии, увидел Свойского с пистолетом в руке и жалкое, растерянное лицо пленного.
«Что же он не стреляет?» – подумал Ложкин и тут же увидел, как дрогнула рука Свойского, почувствовал, как в уши что-то больно ударило, и проснулся. Сел. Зенитки вели частый огонь.
– «Лапотники» летят! – сказал Иванов. – Разбудили?
– Да, я немного вздремнул, – ответил Ложкин, глядя на самолеты с торчащими шасси, за что они и были прозваны «лапотниками».
– Карусель завели, сейчас пойдут. Переправу хотят раздолбать. А наши мажут!
Пикирующих бомбардировщиков было десять, они медленно кружились на километровой высоте, образовав кольцо. Белые разрывы появлялись возле них и висели, как детские воздушные шарики. Самолеты казались неуязвимыми и хвастались своей зловещей силой. Один внезапно накренился на крыло и с надрывным воем стал почти отвесно падать на узенький мост через Дон. На мосту застряла санитарная машина, а за ней растянулся длинный хвост подвод и грузовиков.
За первым самолетом стал пикировать второй, третий. «Лапотники» падали на переправу, окруженные облачками разрывов,
Первый пикировщик пустил черное облако дыма, донесся глухой гул.
– Видал? – закричал Иванов. – Прямое попадание!
Две машины прошли сквозь заградительный огонь и с воем продолжали пике, Снизу, из лозняка, по ним вела огонь скорострельная зенитная батарея. Шесть «юнкерсов» продолжали кружиться на той же высоте.
На мосту оставались люди, бежали к берегу санитары с носилками: уносили раненых из машины. Человек двадцать, навалившись на борт санитарного фургона, силились сбросить его с моста. Они будто не замечали падающую на них смерть.
Медленно поднялись толстые водяные снопы, закрыв собой переправу. Два бомбардировщика вышли из пике и на бреющем полете пронеслись над рекой.
– Промазали! – с облегчением сказал Иванов. Санитарного фургона на мосту уже не было, и через Дон цепочкой проносился обоз.
Шесть «юнкерсов» стали пикировать на скорострельные зенитки в лозняке у переправы.
Еще один «юнкерс» загорелся и врезался в землю недалеко от берега.
Иванов закричал возбужденно, размахивая руками:
– Это Кешкина батарея второго срезала! Смотри, как кучно бьют. У них разрывы покрупней, чем у скорострелок!
Лозняк заволокло желтым песчаным облаком.
Зенитки на горе выжидательно замолчали. Не стреляла и батарея в лозняке, «Лапотники» с хрюкающим воем носились над переправой, поливая из пулеметов и пушек. Из лозняка простучала зенитка, и в небе появилась гроздь белых шариков.
«Юнкерсы» пошли над полями, медленно набирая высоту. Батарея на горе открыла огонь, и еще одна машина, дымя, упала на пшеничное поле.
Иванов возбужденно спросил:
– Видал?
– Хороший выстрел!
– То-то!
Зенитчики на горе не дали «юнкерсам» повторить старый маневр: набрав высоту, выйти друг другу в хвост и образовать круг.
Иванов комментировал:
– Не получилась карусель! Сбили форс!
Пикировщики разделились: три атаковали батарею, а четыре – переправу.
– Нервничают, промазали, – сказал Иванов, когда внизу осела водяная пыль и земля.
– Мост цел, а зенитчиков накрыли.
– Да, замолчала последняя пушка. – Иванов вздохнул, полез за кисетом. – Нет, как хочешь, а смотреть, как другие воюют, не по мне, лучше уж самому… Дай-ка спичку! – Он потемневшими от ненависти глазами глядел вслед «юнкерсам». Они улетали, провожаемые трескотней пулеметов и резкими выстрелами противотанковых ружей.
– Пехота приняла. Нам передышка… Нет, отбою не было. Что-то Кешкины ребята пушки в другую сторону разворачивают. Не идет ли другая партия? Слышишь? Так и есть. Они. Пожиже только. Всего четверо.
Пушки открыли беглый огонь.
Ложкин осмотрелся.
– Сейчас они пойдут на нас.
Недалеко виднелась промоина в сером известняке. Он пошел к ней и стал на краю, глядя в небо. Четыре самолета, как коршуны, парили по кругу.
Иванов подошел к Ложкину.
– И эти с карусели начинают. Зачем эта канитель?
– Видишь ли, их военные специалисты считают, что легче убить человека, когда подавлена его воля. Для этого ученые психологи разрабатывают тактику, формы оружия, окраску его…
– На испуг берут?
– Да, стараются повлиять на психику.
– Что-то мажут наши, а те куражатся. Эх, под самым брюхом лопнула! Не знаю, как на кого, а на меня не действуют их фокусы. Может, где в других странах это и влияло, а у нас не очень. Правда, поначалу ребята-кадровики говорили, что кое-кто паниковал, как завоют «лапотники» или когда фрицы шли в рост в психическую…
Он замолчал, ощутив невольный холодок в плечах и на спине: прямо на них падал пикировщик. Иванов поборол в себе страх и остался стоять, впившись пальцами в приклад автомата, и ждал с гулко бьющимся сердцем, когда снаряд врежется в тупое рыло вражеской машины. Зенитки вели предельно скорый огонь, а он все падал и падал прямо на Иванова и Ложкина, так по крайней мере им казалось. Из-под крыльев отделились две черные капли.
Разведчики прыгнули в промоину; сидя на корточках, невольно вобрав голову в плечи, они вслушивались в нарастающий свист бомб. Этот свист не могли заглушить ни выстрелы зениток, ни рев самолетов. Бомбы взрывались где-то очень близко. Качнулась земля, и стало тихо. Пыль забивала глаза, нос, рот. Земля вся вздрагивала через равные промежутки времени. И было по-прежнему тихо, как в блиндаже в шесть накатов, и, будто через толстую крышу, доносились гул, стук и урчание «лапотников».
Слух постепенно возвращался к разведчикам. Теперь они слышали, как в прежнем ритме стреляли пушки. Пыль стояла густая, сизая. Над их головой, обдав тугой струей смрадного воздуха, прошел «юнкерс».
– Пошли на второй заход! – прокричал Иванов.
Звенело в ушах. Ветер унес пыль. Жарко палило солнце. Где-то над самым ухом пиликал храбрый кузнечик. Внизу, у переправы, застучали зенитки, автоматы.
– Ожили! – радостно сказал Иванов. – А мы-то думали… Наших так скоро не смахнешь с земли. Ишь садят! Оклемались. Наверстывают…
Ложкин смотрел в небо, прислушиваясь к гулу самолетов. Они ушли за лес и делали большой круг, заходя к солнцу. Батарея на опушке молчала.
Иванов сказал с усмешкой:
– Вот, брат, как в гости напрашиваться! В тишине резанул крик:
– Санитаров! Тамара! Скорей!..
Ложкин встал.
– Надо! – согласился Иванов.
Когда они подбежали к орудию, там снова вели огонь. Командир орудия сидел у ящиков со снарядами, прижав плечом к уху телефонную трубку, повторял слова команд и устанавливал дистанционные трубки; молниеносно поворачивал кольца на головках снарядов и передавал заряжающему. Увидав пехотинцев, показал глазами на груду пустых гильз. За гильзами лежал раненый и глядел в небо. В глазах его застыл ужас. Еще несколько минут назад он, как и все его товарищи, выполнял свое дело возле пушки и за горячей работой не думал о смерти. А сейчас он видел, как она летела к нему на желтых крыльях. Надежда внезапно осветила его лицо.
– Скорее, скорее… – беззвучно шептали его губы.
Ложкин взял раненого под руки, Иванов – за ноги, и они побежали с ним к промоине.
На средине пути раненый закричал:
– Стой! Бомбы! Ложись!..
Они опустили раненого и упали ничком на землю. Оглушенные, засыпанные землей, терновником, вырванным с корнями, они долго лежали. Выждали, когда стихнет бомбежка, подняли раненого и понесли в пыли и дыму.
В промоине они разрезали зенитчику сапог и перевязали ступню ноги, пробитую пулей.
Пикировщики разворачивались над лесом для новой атаки.
– Ну вот, скоро опять запляшешь, – сказал Иванов и предложил: – Закури!
– Некурящий, спасибо. Вы куда это меня притащили? Надо в пещеру под горой, там у нас санчасть. Пошли отсюда. Прямо по этой канаве. Тут недалеко. Я теперь сам, на одной ноге допрыгаю, только опереться на кого-нибудь.
– Берись за плечи, – сказал Иванов.
Промоина, заросшая колючим терновником, круто опускалась вниз. Идти в ряд было нельзя. Иванов сказал:
– Садись на закорки! Но-но, не мудри! Опять заходят…
В пещере, выдолбленной в известковой толще, видно под немецкий штаб, было просторно, хотя в ней находилось около двадцати раненых. Они лежали и сидели на сене вдоль серых стен. Возле одного лежачего стояла на коленях сестра. Услышав шаги, она обернулась, встала.
– Копылов? – спросила она усталым голосом. – Ну как у вас? Есть еще кто?
– Нету. Меня в ногу царапнуло. – Он счастливо засмеялся. – Хорошо, что не разрывной, пальцы уже шевелятся. Вот пехота выручила. Помогли… Спасибо…
– Положите его к стене, вот сюда. Вы и перевязали его?
В пещере сразу исчезло ощущение опасности. Все тело расслабло, хотелось лечь на прохладный пол и лежать бесконечно долго. Но Иванов и Ложкин стояли и слушали сестру.
– Здесь еще не все, – говорила она, глядя на свои окровавленные руки. – С КП удалось отправить в санбат… Там и командир и политрук, помкомбата убило… В четвертое орудие прямое попадание. Только Санько еще живой, без памяти…
– Им тоже дали! – сказал Копылов. – Пять штук ссадили… Одни мы троих спустили!
– Ну, уж это ты брось! – отозвался кто-то из темного угла. – Не много ли будет! Нам хотя одного оставьте.
– Я сам видел! Мы ударим, и валится! А то в клочки!
– Вот и врешь: когда в работе глаза пялить? Некогда.
– Это кто как, а я гляжу. Ну и наводчики у нас первые.
– У нас, значит, вторые?
– А комвзвода!
– Вот это да! Степанов – ушлый мужик, – согласился солдат из темного угла. – Он и по колбасе еще на учениях бил без промаха.
Иванов покрутил головой, усмехнулся.
– А мы к вашему Степанову в гости было шли…
– Извиняйте, не знали, – сказал солдат из темного угла. – Удачно выбрали времечко.