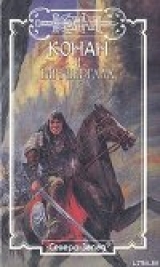
Текст книги "Бич Нергала"
Автор книги: Гидеон Эйлат
Жанр:
Героическая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
Нулан ухмыльнулся. Пленник заметно осмелел, даже перестал заикаться.
– Кто командир?
Родж ответил не сразу – взвешивал риск. Коренастого апийца не так-то легко провести, это он уже понял. И все-таки он солгал – опять же по наитию. Похоже, спасительная интуиция взялась за дело всерьез.
– Конан.
Сотник покивал. Это имя объяснило ему все: и наглое нападение на численно превосходящий отряд, и соблазнительный коридор из западни, чтобы охрана не слишком держалась за обоз, и навязчивое желание Бен-Саифа переманить к себе этого талантливого военачальника.
– Я так и думал.
– Ну да? – На грязном лице успокаивались веснушки.
Нулан снова кивнул. Видно, сама Иштар диктует ему выбор. Что ж, быть посему.
– Как тут оказался отряд наемников?
Родж ухмыльнулся, ноги расслабленно вытянулись на траве. Он поглядел в бледное лицо подошедшего когирского аристократа, в знакомые надменные глаза, и развязно ответил:
– Так мы, ваша милость, больше не наемники. Наниматели-то вон как пятки смазали, не угонишься. Мы теперь сами по себе.
Что-то дрогнуло в лице молодого барона, и он отвернулся, ничего не сказав.
– Конан, – медленно проговорил Нулан. – Киммерийский бродяга, профессиональный солдат, родившийся на поле сражения…
– Ты с ним знаком?
Степняк, погруженный в задумчивость, не обратил внимания на оттенок тревоги в голосе пленника.
– Нет. Однако наслышан о его подвигах. – Нулан сорвал сухую былинку, обкусил с двух сторон, зажал между зубами. – Скажи, он и правда в одиночку семерых укладывает?
Родж усмехнулся. Его бывший командир – парень, конечно, не слабый, но уж семерых… А впрочем, сколько он укокошил в Гадючьей теснине? Бритунец вспомнил огромного варвара с перекошенным яростью лицом, орудующего длинным кровавым мечом. А еще Роджу припомнился здоровенный кулак в кольчужной рукавице, въехавший в его собственную физиономию, когда под натиском апийских копейщиков Конан ревом и тумаками приводил в чувства оробелые ряды наемников.
– Ну, в байках чего не услышишь… Хотя… Зря, что ли, в нашем отряде песенку походную сложили: «Выходите на меня хоть вдесятером, ежли вы без топоров, а я с топором, выходите на меня, всех передавлю, ежли вы с похмелья, а я – во хмелю».
Куплет пришелся степняку по душе, он хлопнул себя по ляжкам и засмеялся с кхеканьем и повизгиваньем. У Роджа еще больше отлегло от сердца, чутье шепнуло ему, что самое страшное миновало.
– И долго он собирается торчать на мосту?
Беззаботный тон мигом насторожил Роджа. «Эге! – мысленно обратился он к сотнику. – Сдается мне, у тебя, браток, времени в обрез».
– Это тебе решать, – ответил он вслух.
– Ну да? – Сотник догадывался, что он сейчас услышит.
– Ага. Конан хоть сей момент уйдет, ежели ты с ним поделишься. Треть ему, остальное вези куда хочешь. Ну и меня, конечно, отпустить надо, а то он на сделку не пойдет. Наш командир не из тех, кто лучших друзей в беде бросает.
– Пошлина, значит. – Сотник выдернул из зубов травинку и метнул, как дротик, в сторону.
– Ну, считай, что пошлина.
Нулан поднялся, и у Роджа в груди шевельнулся страх – неужели апиец не согласится? Тот хмуро произнес:
– Мне надо поговорить с людьми. Подожди.
Бритунец уныло покосился на свои сизые кисти, притянутые к ободу колеса сыромятными ремнями.
– О чем разговор? Подожду, конечно.
Нулан отошел, перед пленником опустился на корточки барон Ангдольфо.
– Значит, Конан не пошел за Бен-Саифом?
Имя не сказало Роджу ровным счетом ничего, но он на всякий случай кивнул.
– Почему?
Бритунец пожал плечами. Чтобы успешно врать, надо хотя бы представлять, о чем идет речь.
– Я видел, как напали на обоз, – сказал Ангдольфо. – Я думал, все погибли, кроме Конана и людей Зивиллы.
Родж внутренне успокоился – смирная кобылка по кличке Полуправда всегда лучше ее норовистой сестренки Наглой Лжи. Тише едешь, дольше проживешь.
– Так нас к тому времени при обозе уже не было, ваша светлость. Мы же сразу с Конаном не поладили, обиделись маленько за парней, которым он глотки перерезал, и после Лафата своим умом решили жить. Надоело, что все дырки нами затыкают. Известное дело, наемник не человек, подохнет – платить не надо. Ну, и смылись по-тихому. А потом глядим, командир следом чапает, один, как султанский хрен в гареме. Весь отряд, говорит, порешили, вы уж, говорит, братцы, примите к себе и простите, ежели кого огорчил ненароком. И с тех пор мы одна дружная семья.
– Значит, простили?
Родж всматривался в продолговатое лицо барона и узнавал привычное высокомерие, холодную надменность аристократа, притаившуюся за маской равнодушия. «Ишь, голубая косточка! – с ненавистью подумал бритунец. – Скрутить бы тебе шею, павлин спесивый!»
– А чего ж не простить? Свой мужик, не дурак выпить и в бою лют, мы таких уважаем. Кабы с самого начала не ломал дров…
– А где люди Зивиллы? Он про них не говорил?
Родж напрягся – вот она, западня! Ну, кривая, давай, вывози.
– Ни словечком не обмолвился. Умеет язык за зубами держать, язви его. Кто его знает, варвара, может, сам порешил ваших приятелей.
– Моих приятелей? Ты что, знаешь меня?
Родж опешил, даже рассердился слегка.
– Вас, барон, часом, по темечку не били? Никак, память отшибло? Неужто не помните, как рыло мне чистили, когда в родовое гнездышко наезжали?
Барон опустил глаза, посидел несколько мгновений в молчании и неподвижности, затем кивнул. Родж тоскливо вздохнул и заговорил с мольбой:
– Да я, ваша светлость, обиды не держу. Это ж дворянская привилегия, морды челяди разукрашивать. На вашем месте я б еще не так озорничал. Вы б замолвили за меня словечко, а? Перед апийцами, ну, чтоб отпустили меня. Ляд с ними, с телегами, их и так пропустят, я все улажу, только вы попросите живоглотов, чтобы не кончали меня, ладно? Вас же не прирезали, значит, можно с ними договориться, а? С Конаном точно можно, а насчет пошлины… это я так, цену себе набивая, я ведь в отряде десятком командую, ребята за меня горой встанут, ежели киммериец заартачится. Вы своей дорогой езжайте, а мы своей поедем, степь широка, авось, никогда и не встретимся больше.
Он искательно смотрел барону в глаза, а тот размышлял о чем-то своем. Наконец когирский аристократ поднялся, кивнул, сказал «попробую» в отошел. Солнце припекало, в лицо пленнику лезли мухи, здоровенный слепень больно укусил в лоб. Родж тряхнул головой и выругался, но слепень и не думал отвязываться, сидел рядом на грязной деревянной ступице и ждал, поблескивая бисеринками глаз, когда жертва снова утратит бдительность.
До бритунца доносились взволнованные, сердитые голоса, но ему не удавалось разобрать ни слова, один бородач из толпы спорщиков, часто оглядываясь на пленника, злобно выкатывал глаза, скалил щербатые зубы и водил рукой у горла, как пилой. Апийцы решали судьбу Роджа, чуть в стороне от них Ангдольфо что-то втолковывал сотнику, а тот недовольно раздувал ноздри и двигал сросшимися бровями. Наконец сотник вернулся к своим людям, отрывисто и грубо произнес несколько фраз, крикнул «Решили, так решили!» и направился к пленнику с ножом в руке. «Мамочка! – безмолвно воззвал бритунец. – Спаси меня, чистая душа!»
Нулан склонился над ним, полюбовался круглыми от ужаса глазами, отвисшей челюстью и белизной, разливающейся под загаром и грязью, и перерезал путы. Родж услышал два глухих удара о землю, он совершенно не чувствовал рук, казалось, они так и останутся на траве, когда он встанет. Нет, они поднялись вместе с ним, безжизненные, как две тухлые рыбины. Нулан ухмыльнулся, а затем повернул Роджа лицом к мосту и толкнул в спину.
– Топай, договаривайся.
* * *
На жаре пегий иноходец быстро скис, и столь же быстро испарилось недоумение Зивиллы, с чего это вдруг Каи-Хан расщедрился на красивого, рослого скакуна. Дареный конь явно страдал животом, у него громко екала селезенка, из-под хвоста слишком часто сыпались зеленоватые катыхи, а на больших печальных глазах густела мутная поволока. «Ублюдок, отродье Нергала, – мысленно кляла Зивилла апийского соправителя, в коем предприимчивость уживалась с закоренелым пристрастием к мелким пакостям. – Ну как иметь дело с такими людьми?»
Трое рослых прихвостней Каи-Хана дружной стайкой следовали за знатной когирянкой, и она, оборачиваясь время от времени, всякий раз ловила их наглые, похотливые взгляды. В седле эти люди держались так, будто в нем и родились, а еще они превосходно выносили жажду и привыкли не замечать вечного пыльного ветра. Зивилла же давно ни о чем так не мечтала, как о громадной порфировой ванне в родовом замке, об изобилии теплой воды, и чтобы после мытья – легкий массаж с втиранием благовонных масел и, наконец, чистая мягкая постель под балдахином, не пропускающим ни единой мошки, ни единого комара, уже не говоря о жирных слепнях. Да отвернутся от нее небеса, если она хоть на однодневный пикник выедет из замка без шелкового исподнего! О, проклятые блохи!
Солнце клонилось к полудню, а голова пегого – к земле. До Когира еще полтора дня езды, но, конечно, не на таком коне. Зивилла снова оглянулась. У сопровождающих лошади низкорослые, зато широкогрудые и крепконогие, только такие и годятся для долгих степных походов. Кому-то из этих увальней придется отдать своего коня, и вряд ли он придет в восторг от ее идеи – для апийца конь что родной брат. Но несколько золотых монет из кошелька на поясе когирянки и две-три весомые угрозы, конечно, его убедят. Что ж, быть посему, и не стоит с этим тянуть, когда время решает все.
Она взмахом руки остановила эскорт, слезла с иноходца, для уверенности в себе выдернула из-за подпруги нагайку и повернулась к троим степнякам. Внушительные мужики – косая сажень в плечах, челюсти, что твои подковы, а глаза, как у диких кабанов, в сезон случки, – крошечные, налитые кровью. Бешеные.
– Кто из вас, благородные господа, согласится уступить своего коня даме?
Самый здоровенный из них громко фыркнул, встрепенулись вислые усы. Его приятели заржали, раздевая Зивиллу глазами. «Спокойно!» – сказала она себе, чувствуя, как ходят желваки.
– Или среди вас, – произнесла когирянка, – не найдется ни одного галантного кавалера?
– Хаммун, кажись, ты у нас самый галантный, – с усмешкой сказал вислоусый, и его приятель с длинными сальными волосами, заплетенными в дюжину косичек, осклабился и изобразил поклон. – Помирать буду, вспомню, как галантно ты распинал ту кхитаяночку.
– Надо ж было доказать плутовке, что и нам не чужда цивилизованность, – сообщил Хаммун. – Какой-нибудь некультурный северянин позабавился бы с ней, да сразу и прирезал, а у меня она две недели подыхала. И все воспитывала меня, воспитывала!
Зивилла мрачно кивнула. До чего же наглые подонки! Но жизнь научит и не с такими ладить.
– Что ж, Хаммун, я прошу о пустяковой услуге. Слезай с коня и садись на моего. Мы поедем дальше, а ты возвращайся в стан и скажи Кай-Хану, что я тебя отпустила.
– Ну, как отказать в такой вежливой просьбе? – Губы Хаммуна расползлись еще шире, открывая частокол зубов с черными проемами щербин. – Я бы непременно согласился, кабы не один должок за тобой, госпожа.
– Какой еще должок? – насторожилась дама Когира.
– Какой еще должок! – передразнил Хаммун, оглядываясь на своих приятелей. – Нешто забыла, радость моя, наше романтическое свиданьице у сральника? Недаром говорят, девичья память – что змеиная шкура, по семь раз скидывается.
Зивилла поморщилась, ей все меньше нравился этот разговор. Перевязь с прямым тонким клинком давила на плечо, кинжал оттягивал пояс, – сталь просилась на волю. «Не резон, – напомнила себе когирянка. – Совсем не резон. У Каи-Хана длинные руки. К тому же, слишком многое поставлено на кон. Один опрометчивый шаг, и все пойдет прахом».
– Ты что, Хаммун, рехнулся на солнцепеке? – спросила она недобрым тоном. – Мне недосуг тебя уговаривать, и едва ли кое-кто обрадуется, когда узнает, что из-за ослиного упрямства его слуги я не смогла сделать дело, ради которого послана в Когир. Сейчас же слезай с коня, или я сама попрошу Каи-Хана, чтобы он похоронил тебя и твоих дружков в той выгребной яме, с которой у тебя связаны столь яркие воспоминания. Даю десять золотых, а будешь канителиться, заберу коня даром.
Трое наездников расхохотались, хлопая себя по животам и ляжкам, затем Хаммун назидательно произнес:
– Вот что я тебе на это скажу, радость моя…
– Девять «токтыгаев».
– Девять? Ишь ты! На один, стало быть, меньше. Вот что я тебе скажу, радость моя. Уговаривать меня бесполезно, потому как мне шлея попала под хвост…
– Восемь монет.
– …И торговаться я не расположен. Это раз. Во-вторых, у нас в Апе нету ни хозяев, ни слуг, а есть только воины и вожди, и вождей мы выбираем сами.
– Семь.
– Кай-Хан, конечно, вождь что надо, но в последнее время мы его что-то плоховато понимать стали, а когда такое случается, мы, простые воины, устраиваем сход и маракуем: как быть дальше? Не пора ли выбрать нового соправителя? Благо, желающих хоть…
– Шесть золотых. И хватит молоть языком, а то останешься ни с чем.
– …Отбавляй. Мы б уже давно собрались и все уладили по-привычному, кабы нашему вожаку не пошел фарт. Такой добычи, как в этом походе, я сроду не видал. Вон, даже казну в Кара-Ал отправили, тяжело, понимаешь, при себе таскать. Ну, чего молчишь, заслушалась, что ль? Говори: пять золотых.
– Пять золотых, – сказала Зивилла, краснея от гнева.
– Не пойдет. – Хаммун явно решил поиздеваться всласть. – На кой ляд мне пять вшивых монет, когда вот тут, – он хлопнул короткопалой пятерней по замшевой седельной сумке, – в двадцать раз больше, а у нас еще впереди Бусара, и Самрак, и твой драгоценный Даис. Нет, красавица, не продам я тебе коня. А вот отдать могу. Хочешь, отдам?
«Подвох! – предупредил Зивиллу внутренний голос. – Эта мразь что-то задумала».
– Хочу, – процедила она сквозь зубы.
– Бери! – Хаммун расплылся в мерзейшей улыбке. – Бери, радость моя. Только одно условие. Ты меня сама с коня стащишь. Да губками, губками! Вот за него!
Степняк привстал на стременах, молниеносным движением приспустил кожаные штаны, и над передней лукой взвился сине-багровый детородный орган. Зивиллу чуть не вырвало, но она двинулась вперед, и кабаньи глазки Хаммуна заблестели торжеством, а кисти рук закрутились, наматывая повод – попробуй, стащи меня, радость моя!
– Моего возьми, красавица! – вскричал вислоусый приятель Хаммуна. – Это ж не конь – птица! Р-раз – и ты на седьмом небе!
– А меня зато стащить проще! – завопил третий. – Только дерни разок, а дальше сам ссыплюсь!
В глазах Хаммуна торжество вдруг сменилось беспокойством – ему не понравилась ухмылка Зивиллы. А в следующее мгновение ему еще меньше понравился яростный удар нагайкой – короткой плеткой с легким кнутовищем и оловянной пуговицей на конце сыромятного ремня. Степняк с диким визгом полетел с коня, держась за рассаженный предмет мужской гордости, а нагайка опять взметнулась и легла наискось на вислоусую рожу. Снова – жуткий вопль, а Зивилла резко оборачивается к третьему степняку, у того рука уже на эфесе, но сабля еще в ножнах, и олово прикладывается к незащищенной шее, прямо к кадыку, и апиец мешком валится с коня, а вислоусый все блажит, но боль не мешает ему схватиться за аркан. Зивилла замечает это слишком поздно, когда петля обвивает ее плечи. Молодая женщина успевает судорожным рывком высвободить правую руку, но нагайка не достает вислоусого, зато опускается на конский круп, и перепуганное животное с места бросается в карьер, и волосяной аркан тащит по земле, по острым камням и верблюжьей колючке, поверженную когирянку. Через несколько мгновений вислоусый останавливает коня и выхватывает саблю, когирянка поднимается на ноги, а степняк надвигается на нее, и надо защищаться, надо парировать мечом его удар и самой бить по конскому храпу, чтобы скакун взвился на дыбы и, может быть, сбросил седока, но правая рука вывихнута в локте, непослушным пальцам не ухватить рукояти, а левой с кинжалом не остановить сабли.
Тяжелый кривой клинок плашмя ударил по макушке, и дама Когира замертво рухнула под копыта широкогрудого коня.
Глава 7
Вдали, наконец, раздался долгожданный скрип осей. Угрюмая недоверчивость на лице высокого синеглазого атамана сменилась явным облегчением, он даже улыбнулся краем рта, взглянув на Роджа. Бритунец успел слегка отойти от пережитого ужаса; товарищи, с изумлением выслушав рассказ рыжего десятника, накормили его, напоили деревенской брагой и дали ему сапоги, одежду и оружие. Но в глубине души бритунца все еще дрожал дикий перепуганный зверек, чудом вырвавшийся из смертельной западни.
– Байрам, – окликнул киммериец седоволосого десятника, – отведи людей вон за тот бугор. – Он указал влево, на невысокий холм, усеченный береговым обрывом. – Возьми еще парней Роджа. Ждите там, если позову или сами заваруху почуете, чешите на подмогу что есть духу. Ямба, держи коней. Ты и ты, – он показал пальцем на двоих людей Ямбы, – под мост к костру. Остальные со мной. Родж, ты тоже.
Бритунец хмуро кивнул. Снова видеть эти косые рожи, снова слышать глумливые смешки! Сейчас бы забиться в какой-нибудь буерак, закрыть башку руками и сидеть, пока все не кончится… Сопливый молокосос Парсифаль, наверное, так бы и сделал. А вот Родж, вольный стрелок и солдат удачи, никогда.
Всхолмленная степь утопала в зное, над мостом из больших рассохшихся бревен с глухим жужжанием носились слепни, и мечты о прохладном ветерке вызывали печальную усмешку. Под мостом шептала о чем-то своем, вековечном, глубокая река, вылизывала сверкающими языками белое известняковое ложе, кое-где среди зарослей облепихи и ежевики гуськом сновали выводки кекликов, а покосившиеся опоры моста на берегу были обложены грудами хвороста, и двое парней из десятка Ямбы готовы были по первому приказу атамана сунуть в них горящие ветки из загодя разведенного костра. Если апийцы все-таки решили прорваться, им не поздоровится. Синеглазый атаман не был расположен шутить.
В полете стрелы от моста обоз разделился. Большая часть апийского отряда осталась при шести телегах, а три повозки двинулись дальше. Конь Нулана рысил пообочь передней, шестеро крепких парней с обнаженными клинками поперек седел охраняли сотника, всем своим видом демонстрируя решимость. Заметив сверкание стали, киммериец неторопливо достал большой меч, поставил острием на бревно и оперся на рукоять. Его люди тоже обнажили клинки и взвалили на плечи секиры, правда, заботясь о том, чтобы это выглядело не слишком вызывающе.
– Так это ты – Конан? – Взгляд командира апийского отряда обежал рослого киммерийца с головы до ног.
Синеглазый дезертир кивнул, и апиец удовлетворенно хмыкнул.
– Таким я тебя и представлял.
– Родж говорит, ты хочешь кое-что предложить.
Нулан кивнул. Тону вожака нехремских дезертиров явно недоставало дружелюбия, но это нисколько не смущало сотника. По рассказам Бен-Саифа он знал, что Конану вовсе не чуждо здравомыслие.
– Ну? – Атаман приподнял голову и выжидающе посмотрел апийцу в глаза.
Нулан перекинул левую ногу через холку коня, спрыгнул на сухие бревна. Из-под моста тянуло дымком, в стороне на холмике, обрезанном весенними паводками, маячили верховые. Значит, Родж не соврал – людей у Конана немного. Можно попытать счастья в рукопашной – вдесятером против шести или семи пеших, – но что толку, даже если прорвутся три телеги? Мост сгорит, и большая часть обоза безнадежно застрянет на берегу. А здесь, на этой стороне реки, на уцелевших людей Нулана обрушится полтора десятка всадников.
Сотник с тоской подумал о Кара-Апе, о родной глинобитной хижине на городской околице, о двух женах и пяти детях, которые ждут его возвращения с богатой добычей и славой. Добраться до Авал-Хана к урочному дню теперь можно лишь в мечтах.
Он неторопливо подошел ко второй телеге – бывшей телеге Роджа, – развязал несколько шнурков на заднике и правом борту, взялся за край холщового покрова и откинул. В повозке тесно, как яйца в гнезде, покоились широкие глиняные горшки. Нулан снял с одного из них крышку, запустил руку и извлек пригоршню сверкающих монет.
– Серебро.
Атаман нехремских дезертиров кивнул. Нулан посмотрел в синие льдинки глаз и поразился выдержке этого человека. Ни малейшего признака волнения! Сам он на месте киммерийца непременно загорелся бы азартом.
– Армейская казна, – пояснил Нулан. – Захвачена в Лафатской долине. Там, – он взмахом руки указал на шесть телег, – еще золотые украшения и самоцветы. И много другого добра. Его ждет Авал-Хан.
– Почему ты об этом говоришь? – Атаман праздно покручивал вправо-влево рукоять меча, острие буравило гнилое дерево.
Нулан посмотрел на своих людей. Мрачные обветренные лица, обреченность во взорах. Нелегко было втолковать им, что назад дороги нет.
– Потому что мы не хотим вести этот обоз к Авал-Хану. Мы тоже хотим жить своим умом. Я много слыхал о Конане, знаю, что тебе можно верить. Короче, у меня совсем простое условие: хочешь нашу добычу, бери и нас впридачу. Бери, Конан, не пожалеешь. У тебя мало людей, лишние двадцать сабель разве помеха?
«Мне-то можно верить, – чуть было не сказал вслух киммериец, – а вот тебе?» Он заглянул сотнику в зрачки, пытаясь проникнуть в самую душу. Заглянул, уже зная, что уступит, и ничего не прочитал в раскосых темных глазах. Медленно вздохнул и перевел взгляд на горшки с серебром. Такое сокровище просится в руки! Что-то возбужденно нашептывало ему изнутри: старый степной волк не хитрит, он и впрямь решился сменить стежку. Согласиться – значит, пойти на огромный риск, шуточное ли дело – иметь под боком два с лишним десятка коварных и бесстрашных убийц? Но если он откажется, значит, кровопролитной драки не миновать, и еще неизвестно, кто в ней победит, а его и так не слишком балует судьба, и близок тот час, когда парни спросят у атамана: сколько можно шататься дуриком по степи и гробить людей понапрасну? К тому же отчаянная нужда в пополнении… Нет, отказ – непозволительная роскошь.
– Твои сабли мне пригодятся, – кивнул он. – Я видел вас в драке, а у Роджа до сих пор штаны не просохли. Как тебя зовут? – спросил он, хоть и знал от бритунца.
– Сотник Нулан.
– Устав у нас несложный, Нулан. Что сотник, что простой солдат, – добыча на всех поровну. На привале можешь спорить со мной, ежели по делу, а в бою за неподчинение – башка долой. Из своих молодцов хоть веревки вей, а чужого тронешь, на ножах будешь с ним разбираться. Я слыхал, вы, апийцы, пленных не берете?
Нулан неопределенно пожал плечами.
– Мы берем, – заявил атаман. – Ради выкупа, ну и… Не век же по степям мотаться, скоро обживемся где-нибудь, холопы понадобятся, прачки… – Он ухмыльнулся. – Так что зря не лютуй. Захочешь на ком-нибудь душу отвести, спроси у меня разрешения. Ну как, все устраивает или возражения имеются?
– Годится, – согласился сотник, не раздумывая. Широкая ладонь северянина оторвалась от меча и двинулась к Нулану. Степняк протянул навстречу жилистую руку, и она хрустнула от пожатия бычьей силы.
– А коли годится, гони телеги вон к тем хибарам. – Атаман указал на несколько мазанок со сгоревшими крышами. – Нынче здесь заночуем, пировать будем – надо ж познакомиться. И добычу поделить. – Киммериец улыбнулся, и Нулан заметил-таки в синих льдинках нетерпеливый блеск.
* * *
В обморочную мглу настойчиво билась тупая боль. Волнами разбегалась по телу, кровавым вулканом взрывалась под черепом, мучительно медленно возвращалась в левую ногу – лишь затем, чтобы через мгновение ударить с новыми силами. Мгла распадалась на клочья, таяла; сознание, точно рыба, поддатая крючком, поднималась из спасительного омута в кошмарную реальность, и трепыхала плавниками.
Зивиллу снова приводили в чувство. В первый раз это сделали, чтобы изнасиловать по очереди и скопом – злобно, глумливо, изощренно. Потом ее решили прикончить и стали бить ногами, но прекратили, когда она лишилась чувств, – в вислоусом степняке, не только самом сильном из троицы, но и самом рассудительном, вдруг проснулась осторожность. Он вспомнил угрюмые наставления Каи-Хана – похоже, старшой не шутил, когда приказывал довезти девку до первого когирского патруля живой. Но он не сказал «целой и невредимой». Ладно, Нергал с ней, с этой подлой сучкой, пусть оклемывается. Они доведут дело до конца: пегую дохлятину убьют, а девка поедет дальше на хорошем коне, за спиной его хозяина.
Но «подлая сучка» не спешила «оклемываться». Видно, не стоило все-таки бить ее сапогами по голове. Но и Хаммуна можно было понять – это ж надо, изо всех сил плеткой по самому дорогому! Хаммун даже выл от боли, когда насиловал. Но продержался до конца – настоящий боец!
Третий воин хотел уложить молодую женщину поперек седла и связать ей руки и ноги под животом коня, но Хаммун гневно возразил: еще чего, отвязывать всякий раз, когда ей по нужде приспичит! Привести в чувство, да усадить охлопкой, а вздумает рыпаться, пускай пеняет на себя.
Жертва упорно не подавала признаков жизни, и тогда вислоусый прибег к испытанному средству – толстой стальной иголке. Пока он загонял ее под ноготь большого пальца на ноге Зивиллы, Хаммун держал у нее под носом свежий конский катых, щекочущий ноздри едкой вонью, этакий импровизированный заменитель нюхательной соли. Но обморок оказался слишком глубок, и вислоусому пришлось изуродовать молодой женщине еще два пальца, прежде чем степняки услышали первый стон.
Хаммун отшвырнул конский навоз и стал бить Зивиллу по щекам, и это вскоре возымело действие, – она открыла глаза и посмотрела на него с ужасом. На ее лице и шее уже багровели кровоподтеки, правая щека распухала, превращая глаз в щелочку, – скоро красивое лицо когирской аристократки обернется черной ритуальной маской.
Вислоусый удовлетворенно кивнул, вытер окровавленную иглу о штаны и спрятал в кожаный пояс. Хаммун взял Зивиллу за шиворот, рывком заставил подняться. У нее тотчас все поплыло перед глазами, она повалилась на примятую траву и получила болезненный пинок в бедро. Как ни странно, от этого сознание слегка прояснилось, и она смогла встать уже без посторонней «помощи».
Третий апиец, человек средних лет с мелкими, точно каракуль, и плотно прилегающими к черепу завитками черных волос, – небрежно протянул ей мех. Глоток нагретой солнцем воды застрял в саднящем горле, Зивилла едва не задохнулась, – Хаммун и тут пришел «на выручку», что было сил треснув ее ладонью по спине. Она упала на колени, и, ожидая новых ударов, пыталась отдышаться. Руки удержали мех; Зивилла снова медленно поднесла его ко рту и сделала несколько мучительных глотков.
Вислоусый с саблей в руке направился к ее пегому. Несчастное животное слишком поздно догадалось, какую ему уготовили судьбу, и пронзительно заржало, но очень скоро из рассеченного горла вытекли все силы вместе с жизнью. Апиец равнодушно отошел от издыхающего коня и швырнул Зивилле хурджин.
– А мое оружие? – Она не узнала собственного голоса, в нем звучали страх, надрыв, изнеможение. Так говорят взошедшие на эшафот, но в их голосах часто слышится еще и смирение с неизбежным. А тут вместо смирения была надежда.
Вислоусый отрицательно покачал головой, отдал ее меч и кинжал курчавому и забрался в седло.
– Садись, – буркнул он, указывая себе за спину.
* * *
Она ехала по степи, держась за заднюю луку седла, и внимала смачным воспоминаниям апийцев о том, как ее «ублажали». По всему телу кочевала боль, левый глаз так заплыл, что почти не видел, от вислоусого степняка нестерпимо воняло овчиной и потом. Но обморочный туман в голове рассеялся без следа, и причиной тому была жгучая ненависть.
И когда они спускались с крутого холма, Зивилла притворилась, будто утратила равновесие, подалась корпусом вперед и прильнула к спине апийца. Он ничего не заподозрил, лишь раздраженно мотнул головой, мод, держись крепче, сучка, нашла время обниматься, – и спохватился, лишь когда сабля с шелестом выскользнула из сафьяновых ножен.
Он крикнул – «Э, не балуй!» – не успев еще понять, что за спиной у него сидит сама погибель.
Отталкиваясь правой рукой от луки и соскакивая с коня, Зивилла молниеносным ударом сабли рассекла ему шею у основания черепа. Конь уносил мертвеца по склону холма, два других всадника не успели остановить своих скакунов на круче, а Зивилла приземлилась довольно удачно, только ушибла слегка колено, и бросилась не назад, к гребню, а прямиком на курчавого воина, который был совсем рядом. Тот уже выхватил саблю и развернулся, насколько позволило седло, но Зивилла сразу прыгнула влево, и курчавый понял, что в такой позиции ему отбиваться не с руки. Оставалось одно: быстрее спуститься на дно неглубокой, но широкой котловины, а там спокойно развернуть коня, налететь на когирянку и рубануть на скаку.
Он плашмя ударил саблей по крупу гнедого, но Зивилла сразу разгадала его замысел и в неистовом прыжке дотянулась до коня клинком. Острие сабли кольнуло гнедого под хвост, он с оглушительным ржанием рванул в карьер. Ничем хорошим для седока это кончиться не могло, он кувыркнулся из седла и размозжил голову о валун, а сверху его придавил гнедой со сломанной передней ногой и поврежденной шеей.
Остался один Хаммун, и он был далеко, и ему хватило сообразительности не останавливать лошадь, и надо было на дне котловины натянуть лук и продырявить подлую гадину, заходящуюся хохотом на середине склона, но не мог же он издали, как трус, пускать стрелы в бабу, пусть и вооруженную, пусть и лишившую жизни двух его товарищей? Нет, он спешился и с саблей наголо быстро полез вверх, а хохочущая девка и не думала удирать, все манила его свободной рукой и даже неторопливо спускалась навстречу, к довольно широкому плоскому уступу. Когда Хаммун поднялся на уступ, девка ждала его в позиции фехтовальщика: вес тела на правой ноге, левая отставлена; клинок служит продолжением правой руки, левая отведена назад и согнута в локте и запястье. Наверняка она знала всякие хитрые штучки-дрючки, но Хаммуну было наплевать, бабы учатся фехтованию на тонких легких рапирах, а вовсе не на кавалерийских саблях, массивный кривой клинок – оружие мужчины, и никакие финты не спасут от свирепого кабаньего напора.
Так он рассудил впопыхах и очень скоро обнаружил, что жестоко просчитался. Его яростные удары проходили мимо цели либо разбивались о глухую защиту, и довольно скоро он начал выдыхаться, а затем понял, что Зивилла может проткнуть его в любой момент, она просто играет с ним, как вендийский мангуст с полузадушенной змеей. Проклятая стерва уже перешла в контратаку, теснила его, похохатывая, к краю уступа, и он решил, что первая идея – насчет лука – была не так уж постыдна, и вообще, пора драпать, коли шкура дорога, – и вдруг покрылся холодным потом, сообразив, что все эти мысли когирянка свободно читает у него на лице. Она не отпустит его живым!






![Книга Конан и Бич Нергала [Бич Нергала • Черные колдуны • Алая цитадель] автора Гидеон Эйлат](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-konan-i-bich-nergala-bich-nergala-chernye-kolduny-alaya-citadel-258604.jpg)

