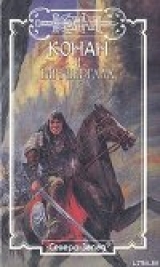
Текст книги "Бич Нергала"
Автор книги: Гидеон Эйлат
Жанр:
Героическая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
Глава 3
Каждый раз, когда Ибн-Мухур входил в Поющую Галерею, его сердце на миг восторженно замирало, а затем начинало биться в неровном праздничном ритме, как на шумном пиру среди друзей детства, после кубка-другого золотого аргосского вина. Подпружиненные плитки из оникса, благородного жадеита и драгоценного афгульского лазурита, подаваясь под стопой, шевелили крошечные колокольчики в полусферических полостях, которые усиливали звуки. Песня колокольчиков взлетала под своды зала и там повторялась удивительно звонким эхо – о сем позаботился талантливый зодчий, прославивший свое имя еще строительством зиккуратов Дамаста. Восхищал и узор мозаичного пола, особенно в солнечные дни, когда в Галерее бывало много гостей; шевелясь, плитки щедро разбрасывали по стенам радужные лучики.
Давно ушел в небытие тот знаменитый строитель – своей смертью, благодаря золоту Агадеи. Уже в преклонные годы соблазнился ои посулами коварного узурпатора и бежал из Дамаста, от сурового и своенравного владыки, к новому пришлому королю злосчастной Пандры. Но там он не задержался – Сеул Выжига отослал его за восточные кряжи Гимелианских гор, в благодатную Вендию, где на деньги, выколоченные правдами и неправдами из несчастных подданных, он купил целую провинцию, плодородную долину с кипарисовыми рощами и дуриановыми садами, с полями хлопка и деревнями трудолюбивых и покорных вендийцев. Туда Сеул рассчитывал перебраться к старости, а пока жал из пандрцев, доведенных до отчаяния, последние соки. В Вендии зодчий построил ему роскошный дворец; грандиозную родовую усыпальницу и неприступную сокровищницу; в Вендии, по замыслу неблагодарного шемита, должен был упокоиться и его прах. Но слуга Сеула Выжиги Тахем, бессердечный мытарь и хладнокровный убийца, приставленный к строителю, в последний момент не устоял перед мерцанием жемчуга и злата, и именитый старец, вместо того чтобы проглотить лошадиную порцию яда и испустить дух посреди кровавой блевотины, тайком уехал на северо-восток, а в могилу, уже вырытую для него, улегся глухонемой дурачок из ближайшего селенья.
Много таких историй поведал бы Ибн-Мухур, не лежи на его устах строжайший запрет властелина. К иным славным деяниям ануннак и сам приложил руку, и в глубине души надеялся, что когда-нибудь о его подвижничестве узнают все к вящей славе его древнего рода.
Галерея опоясывала дворец двенадцатиугольником. В плане загородная резиденция короля напоминала поперечный разрез апельсина. От центрального покоя нижнего, самого просторного, яруса радиально уходили перегородки между залами. Лишь темно-зеленая полусфера крыши придавала дворцу сходство с гигантской черепахой, неведомо чьей прихотью из тропической лагуны перенесенной в горную долину. «Черепаху» окружал ухоженный сад, в нем с растениями этих неласковых широт уживались экзоты, даже такие капризные, как магнолии и виноград. Садовники радели не за страх, а за совесть: мерзляков на зиму старались уложить на землю и засыпать палой листвой, а не получалось – стволы обмазывали топленым салом и окутывали соломой; по весне, едва лопались почки, их ежеутренне поливали водой и окуривали дымом.
Стоило ли удивляться тому, что человек, совершая прогулки по этому саду, обретал телесную бодрость? Любые раны здесь заживали быстрее, а хвори нередко исчезали без следа, когда их касалось дыхание дерев и лоз.
«Я напоен томленьем листьев и цветов. В меня вселился мир, и я склоняюсь пред бессмертием твоим», – начертал на папирусе великий кхитайский поэт Куй-Гу, гостивший почти целую луну у деда Абакомо. Теперь папирус хранится в дворцовой библиотеке среди прочих сокровищ человеческой мысли, а косточки непоседливого Куй-Гу белеют где-то среди боссонских топей, и одному Нергалу ведомо, что за нелегкая занесла богатого восточного философа, поэта и музыканта в такую даль. Но насчет бессмертия сада он, безусловно, прав – оно достойно поклонения. Бродя по этим аллеям, как будто заражаешься вечностью, и серые равнины отступают в сумрачную даль, суживаются до крошечного пятнышка в безбрежном океане бытия… Да простит их владыка невольное кощунство.
Ибн-Мухур отвел взгляд от сада, что навевал прохладу под арки Поющей Галереи. Бубенцы под его ногами зазвенели веселей, приободрилось и эхо под сводами. Ануннак не любил опаздывать.
Шагах в пятидесяти за его спиной раздавался точно такой же нежный перезвон. Ибн-Мухур задержался на мгновение, обернулся – позади шествовал невысокий полный человек в златотканом кафтане и меховой шапке с огромной серебряной кокардой. У Ибн-Мухура екнуло сердце, но не страх и не тревога были тому причиной. Волнение. Он узнал благородного Виджу. Ко двору Абакомо Виджа прибыл несколько лун тому назад и вмиг снискал себе редкую для посла репутацию записного гуляки. Разумеется, Ибн-Мухур сразу заинтересовался и велел двоим пажам заняться им; юноши взялись за дело ретиво, и вскоре Виджа обзавелся разудалой компанией верных друзей, готовых ради него и в огонь, и в воду, знающих толк в вине и девочках. Пристрастили его и к опию – кхитайскому зелью, над которым в Храме Откровения Инанны сейчас работало полдюжины алхимиков с подмастерьями. На одной из пирушек Ибн-Мухур даже подарил нехремцу кальян собственной конструкции (с такими же точно машинами наслаждения недавно отправился к апийским соправителям Бен-Саиф).
Уже через две недели Ибн-Мухур знал о Видже всю подноготную и мог без труда подцепить его на крючок, но не видел в этом необходимости. Новый нехремский посол устраивал его, как никто иной. Он не совал нос в чужие дела: Эрешкигаль свидетельница, какого труда стоило избавиться от его предшественника, твердолобого святоши, возомнившего себя радетелем отечества. Ануннак покраснел, вспомнив свой позорнейший провал.
Однажды подкупленный раб посла шепнул на ушко человеку Ибн-Мухура, что старичок весьма охоч до малолеток обоего пола; когда-то посол и сам любил с ними порезвиться, но с годами осознал, что это все-таки грешно, и теперь лишь изредка позволяет себе любоваться, как мальчики и девочки развлекаются друг с другом. Раб не солгал. В один погожий день на заднем дворе посольского особняка разыгралась премиленькая сценка: три юные парочки выделывали на ухоженной лужайке такое, что старый похотливый козел повизгивал от восторга, пускал слюни и сучил мосластыми ногами.
В разгаре представления отворялась дверь во двор, и на крыльце появился родной внук Токтыгая, гостивший в королевском дворце. Он внял совету красавицы Ланиты, одной из многочисленных фавориток Абакомо и любимой ученицы Ибн-Мухура, – видя, как молодой человек пожирает ее глазами, она изрекла загадочную фразу: «Котик, ты увидишь кое-что похлеще, если сейчас же наведаешься в посольство». И вот юноша в посольстве, и что же он видит? Совершенно невинные утехи в лучших традициях нехремской знати. Помилуйте, да у кого повернется язык упрекнуть за такой пустяк стареющего вельможу? Определенно, Ибн-Мухуру следовало бы получше изучить нехремские нравы, прежде чем строить дурацкие козни.
Ибн-Мухур передернул плечами, будто хотел стряхнуть раздражение, и ухмыльнулся. Если и надо злиться на кого-нибудь, то лишь на себя. Сам виноват, зеленорясый. Все учел, кроме того, что маячило под самым носом. Ничего, бывает. В конце концов, ты потом своего добился – старикашку отозвали за пошлую растрату. Уж этого-то «пустяка» Токтыгай ему ее простил.
Он еще раз посмотрел на Виджу. От посла прямо-таки веяло беспокойством, даже колокольцы под его сапожками из кожи стигийского крокодила позвякивали нервно, взбудораженно. «Неужто началось?» – подумал ануннак, зачарованно внимая сладостному щемлению в сердце. Неужели еще до первых осенних морозов на западе падут кровавые, развратные династии, и на опустевшие троны взойдут друзья Агадеи, и воцарится мир, ради которого тысячи и тысячи людей многие годы трудились не покладая рук, ради которого молодой властелин не спит ночами, лишь изредка позволяя себе развеяться на охоте или забыться в нежных объятьях одалиски?
Нынче отборные войска сосредоточены у границ, арсеналы ломятся от оружия, коего еще не видел свет, и лучшие маги и мудрецы страны корпят по ночам над картами сопредельных государств и донесениями многочисленных шпионов, – лишь бы предугадать любой возможный исход, лишь бы избежать больших потерь и напрасного кровопролития, способного оттолкнуть робких и щепетильных союзников. Ибн-Мухур не взялся бы вспомнить, когда он выспался в последний раз, однако румяное, жизнерадостное лицо бородача не носило явных признаков усталости. Чего нельзя было сказать о нехремском после – очевидно, тот провел ночь, полную треволнений, и не единожды раскуривал кальян, дабы горьковатым дурманом успокоить метущуюся душу. Что теперь этот слизняк скажет агадейскому королю? Чего потребует его устами Токтыгай, внезапно увидевший над своей головой щербатую апийскую саблю?
Рослый горногвардеец в летнем парадном мундире нового образца – темно-серых рейтузах, серебристом кафтане с мерлушковой оторочкой и островерхой каракулевой папахе с золотой кокардой в виде совы – бесшумно растворил перед Ибн-Мухуром дверные створки. Ануннак вошел в малый аудиенц-зал – холодная чинность столов из железного дерева, мягкие желтоватые отблески рассеянных солнечных лучей на люстрах и канделябрах слоновой кости, полусонное ворчание двух рослых мастифов, распластавшихся возле широкой софы. В кресле-качалке напротив софы восседал Абакомо, его стройные ноги в мягких туфлях с загнутыми носами проминали белую тисненую кожу пуфа. Над серебряным кубком в его руке вился парок, а рядом на столе высилась огромная серебряная чаша с пуншем и блюдо с фруктами – для гостей. Прохладный ветерок из растворенного окна шевелил длинные русые волосы монарха.
На креслах, стульях и пуфах сидело несколько человек, всех их Ибн-Мухур прекрасно знал. Сам он устроился прямо на полу, скрестив ноги, – ревматизм не пугал его нисколько. Вошедший чуть позже Виджа залебезил перед королем, запинаясь от волнения, но тот оборвал приветственную речь, гостеприимно указав на софу. Боязливо обогнув мастифов, нехремский посланник подобрал полы дорогого пестрого халата и опустил кургузый зад на белый сафьян. В зале, где господствовали ровные, мягкие тона, он походил на раскормленную тропическую птицу.
Абакомо кивнул писарю, тот расположился за столом, раскатал чистый пергамент, макнул в чернильницу новое изобретение инаннитов – тонкое металлическое перо. «Прощайте, глиняные таблички, – с улыбкой подумал Ибн-Мухур, глядя, как усердно клинописует узкоплечий монах. Еще год-другой, и пергамент тоже канет в историю, алхимики уже научились делать превосходные белоснежные листы из молотых корней некоторых деревьев».
Озаглавив документ и поставив дату, писарь шепнул королю, что готов, и тот, отхлебнув пунша, осведомился, что вынудило дражайшего посла в столь ранний час просить у него аудиенции? Виджа, ерзавший на софе, как пес, одолеваемый блохами, вскочил на ноги и зачастил:
– О достойнейший среди достойных! Не гневитесь на бедного Виджу! Его гложет тревога за судьбу наших добрососедских отношений! То же беспокойство снедает и моего любимого повелителя, да не сгладятся курганы над могилами его предков! Но он, как и ваш покорнейший слуга, нисколько не сомневается, что любое недоразумение между нами может быть лишь плодом несогласия… виноват, любое несогласие между нами может быть лишь плодом недоразумения! О мудрейший среди мудрых, сегодня ночью в мои покои ворвался гонец, он загнан трех лучших жеребцов и одного мерина, добираясь сюда. Он привез от моего властелина, – да продлит Митра его годы! – устное повеление явиться пред ваши очи и нижайше испросить, зачем вы, о смелейший среди смелых, вторглись в наши мирные пределы, зачем возглавили орды кровожадных демонов, не жалеющих ни старого, ни малого, жгущих и грабящих все на своем пут и наносящих невосполнимый ущерб нашей дружбе? Я прекрасно понимаю, о милостивейший среди милостивых, что столь дерзкими речами рискую навлечь на свою голову ваш гнев, но воля моего владыки, – да укрепят стихии его и без того крепкое тело! – непререкаема, а я – лишь жалкий червь, повторяющий его слова…
Все это Виджа излагал с вытаращенными от страха глазами, а под конец сообразил, что выглядит форменным шутом, и умолк. Абакомо внимал ему с добродушной улыбкой; вокруг звучали смешки; тщедушный монах, чтобы не прыснуть, закусил вислый ус. У Ибн-Мухура по телу разливалось блаженное тепло – он уже понял, что все идет как по писаному.
– Да хранит вас Нергал, любезнейший, – сказал Абакомо, и посла затрясло – агадейское пожелание доброго здоровья в ушах иноземца звучало страшнейшим проклятием, – но я ничего не понял из вашей обличительной речи. Какой мерин, какой червь, что за орды, что за демоны? И как вам могло прийти в голову, что я способен нанести нашей дружбе невосполнимый ущерб? Или вы забыли девиз, вырезанный на моей королевской печати, девиз, которому я следую с младых ногтей? «Иные копят злато – я коплю друзей». Давайте-ка успокоимся, выпьем по глотку пунша и попробуем разобраться, в чем дело.
Все это Абакомо высказал без тени насмешки; его приближенные попритихни, и нехремец взял себя в руки. Он благодарно кивнул, принял из рук слуги серебряный кубок, торопливо поднес к губам, поперхнулся и обрызгал слуге ливрею. Это сразу разрядило атмосферу: агадейцы теперь имели полное право хохотать до упаду, Виджи вторил им, истерически повизгивая, а когда смех унялся, он опустился на софу и повел более осмысленную речь.
Едва он закончив, Абакомо возмущенно вскочил с кресла.
– Ну и дела! При всем моем уважении к Токтыгаю, разгул его фантазии просто ошеломляет. Мы – с апийскими бандитами! Надо же такое вообразить! Заманиваем армии в подлые ловушки! Сжигаем села! Осаждаем города! Мы, миролюбивые агадейцы, не воевавшие на чужой земле больше века! Сущий бред, клянусь милосердием Инанны!
– Но во главе апийских выродков, – пискнул Виджи, – ваши люди!
– Кто!? – взревел Абакомо, отбрасывая кубок. – Приведите их ко мне, и, клянусь неумолимостью Эрешкигали, им не поздоровится! Я самолично придумаю для них наказание! Розги, вымоченные в соленой воде! Нет, это слишком мягко! Год тюрьмы, а потом – ссылка в захолустье!
– Мы бы, – Виджа нервно потер ладошки, – предпочли что-нибудь более действенное.
– Более действенное? – Король посмотрел на него, как невинное дитя на живодера. – Что может быть действеннее ссылки в горное ущелье, к неумытой, невоспитанной деревенщине?
– Ну… – Нехремец смущенно потупился. Почесывая за ухом мастифа, который перебрался к нему от софы и задремал, Ибн-Мухур перечислил:
– Зиндан с кобрами, мешок с тарантулами, прилюдное оскопление под рев зурны – еще неизвестно, что страшнее, – наконец, частичное свежевание с посолом ран. В разных странах – разные традиции, ваше величество.
Виджа смутился еще сильнее. Абакомо переводил потрясенный взгляд с него на Ибн-Мухура и обратно. Наконец он тихо сказал: «Ну, знаете…» и опустился в кресло-качалку.
– О гуманнейший среди гуманных! – заговорил Виджа. – Мой господин, да уберегут боги от выпадения его благородные седины, отнюдь не голословен. Увы, он не может выдать вам злодеев – они пока творят свои гнусные дела на свободе, а когда будут пойманы, праведвый гнев нехремцев не позволит оставить их в живых. Но уже сейчас я могу назвать их имена. Это некие Бен-Саиф и Лун.
– Бен-Саиф и Лун? – Абакомо помял подбородок. – Да лишит Нергал наш народ своего расположения, если мне хоть раз доводилось слышать эти имена. Впрочем, Бен-Саиф… Постойте, это не тот ли шустрый гвардеец, который больше увлекается ростом в чинах, нежели боевой подготовкой?
– Он самый, ваше величество, – сказал Ибн-Мухур, жестом подзывая слугу с кубком пунша. – Паршивая овца в нашем стаде. Вояка из него никудышный, зато интриган каких поискать. Чтобы не тянуть солдатскую лямку в горных гарнизонах, женился на двоюродной сестре вашей одалиски Феоны, ну и…
– Ах да, точно! – Абакомо хлопнул себя ладонями по коленям. – Как же я запамятовал! Сам его произвел в сотники – Феона прицепилась, как репей к ослиному хвосту, кстати, у нее еще одна сестричка есть – сущий вулкан, не хотите погреться, а, любезный Виджа?
– Никудышный вояка? – Нехремец предпочел не заметить игривого тона агадейского государя. – Этот никудышный вояка чуть ли не в одиночку разделался с тысячей гирканских всадников!
Абакомо неопределенно хмыкнул. Ибн-Мухур пожал плечами.
– Ну, он же все-таки горногвардеец…
– Так вы не скрываете, – зацепился Виджа за эту фразу, – что ваши горногвардейцы воюют на нашей территории? – Он испугался своих слов, но тут же успокоился – в лице агадейского короля не было ничего угрожающего.
– У меня нет оснований, – сказал Абакомо холодным тоном, – сомневаться в правдивости царя Нехрема. У меня есть основания сомневаться в верности моих гвардейцев. По-моему, мы имеем дело с обычным дезертирством. Уважаемый Ибн-Мухур, у вас есть какие-нибудь предположения на этот счет?
Ануннак осторожно опустил голову мастифа на пол, встал и оправил роскошную зеленую рясу.
– Ваше величество, боюсь, вы совершенно правы. Дело обстоит следующим образом. Приблизительно две луны тому назад сотник Бен-Саиф придумал новую интригу. Он решил скомпрометировать командира дворцовой стражи, добиться его смещения, ну и, разумеется, занять его место. С этой целью он взялся ухаживать за любовницей своей жертвы – из наложниц, как известно, получаются великолепные источники информации пикантного свойства. Но безупречная репутация доблестного тысяцкого оказалась ему не по зубам, а вскоре о шашнях Бен-Саифа с любовницей командира стражи узнала законная супруга и учинила страшный скандал.
В то время вы, осмелюсь напомнить, были заняты подготовкой к весенним Ристалищам Умов и не велели тревожить вас по пустякам. Поскольку возмущенный тысяцкий хотел вызвать незадачливого интригана на поединок, я, не желая подвергать напрасному риску жизни одного из наших лучших воинов и родственника вашей фаворитки, взял себе малоприятную роль. Я попытался замять скандал. В доверительной беседе я убедил Бен-Саифа послужить год-полтора в крепости Сам-Хтан на перевале, который чаще остальных подвергается атакам разбойников, неугомонных апийцев. Через два-три сражения, рассуждал я, из головы Бен-Саифа выветрится лишняя дурь, а когда при дворе поулягутся страсти, он вернется и займет прежнюю должность.
Во время этого разговора сотник не возразил мне ни словом, ни жестом, лишь уныло кивал, а наутро отправился в путь. Вскоре из крепости прибыл гонец и сообщил об очередном апийском набеге. На этот раз бандиты испробовали новую тактику – подобрались к крепости под видом богатого каравана. Но волчьи клыки нетрудно заметить даже под овечьей шкурой, я имею в виду жестокость в обращении с верблюдами и лошаками, – ну, в самом деле, разве настоящий караванщик станет без нужды истязать вьючное животное?
Вскоре навстречу шайке по ущелью подошел Бен-Саиф с конной сотней и, как требует устав, предложил бандитам убраться восвояси. Те согласились, но перед уходом разыграли оскорбленную невинность: мы-де к вам по доброму, как хорошие соседи, с подарками, а вы вас – в шею! Некрасиво получается! Однако Бен-Саиф стоял на своем, и будь у него хоть немного опыта общения с этим племенем, он бы не совершил роковой ошибки – не внял бы их приглашению на прощальный пир. Кончилось это тем, что ему и еще одному горногвардейцу из его отряда подмешали сонного зелья в вино. Надо заметить, апийцы редко берут пленных и никогда не оставляют их в живых; но заложники – это, с их точки зрения, не пленные. Бандиты не поверили обещанию Бен-Саифа, что им удастся целыми и невредимыми уйти с перевала, слово чести для них – пустой звук. Прикрываясь телами двух наших людей, они шарахались от каждого куста, пока не выбрались на равнину, – им всюду мерещились лучники и пращники, не знающие промаха. С тех пор и до сего часа я ничего не слышал об участи Бен-Саифа и второго… Как вы его назвали, достопочтенный Внджа? Лун? Редкое имя, похоже на монашеское. Признаться, я думал, что моих несчастных соотечественников давным-давно скормили домашним гиенам. Стало быть, заложники все-таки выторговали себе пощаду. Что ж, Эрешкигаль им судья, – а она, да будет вам известно, за измену по головке не гладит.
Виджа затравленно смотрел в благодушное лицо Ибн-Мухура, ровный, миролюбивый тон ануннака нисколько не успокаивал нехремского посла, напротив, от каждого слова между лопатками разбегались новые полчища мурашек. Верность агадейских горногвардейцев своему повелителю спокон века у всех на слуху, история не знает случаев измены. Ни единого.
В Лафатской долине апийские банды предстали обученной, дисциплинированной армией. Войско Дазаута – цвет нехремской регулярной армии – получила жестокий сюрприз. Вопреки обыкновению, апийцы не носились буйной толпой перед фронтом пеших мечников и копейщиков, пытаясь досадить им стрелами и дротиками, не бросались врассыпную под ударами конного «тарана» или гирканской лавы, – они хорошо стояли в обороне и лихо контратаковали, и у них даже было несколько сот пехоты, которую, правда, в ущелье почти без остатка вырубили наемники Конана и когирские дворяне Зивиллы. А главное, у них было оружие, о котором до сего времени мир только мечтал.
А что сейчас творится в окрестностях Бусары!
У Виджи стыла кровь в венах, когда он вспоминая рассказ полуночного гонца. Толпы вооруженных безумцев, истребленные своими же бывшими товарищами у городских ворот. Овраг невдалеке от крепости, набитый обожженными и растерзанными трупами гирканских наездников. Конница Дазаута, преданная своим командиром и обескровленная в нелепом штурме неприступного холма. Агадейские «ренегаты», в одиночку уничтожающие сотни отборных воинов Токтыгая, как будто сам Нергал – чудовищный бог загадочного горного народца – взалкал погибели благословенного Нехрема и обрек его непобедимому мечу своих слуг – зловещих всадников серых равнин.
Виджа перевел взгляд на агадейского короля, и уже не страх – могильный холод объял его. От монарха веяло сверхъестественной уверенностью, покоем каменного утеса, и у посла родилось небывалое чувство, которому, он сразу сумел найти определение: роковая безысходность. Теряя сознание, нехремец снова посмотрел на Ибн-Мухура и увидел блаженную улыбку. Внезапно кругом сгустился мрак, но за миг до падения на мозаичный пол Виджа уловил шевеление толстых губ ануннака. Посол никогда не учился читать по губам (во всем мире этим искусством владели только глухие стигийские колдуны и кое-кто из инаннитов), но сейчас у него получилось. «То ли еще будет, малыш», – вот что беззвучно произнес самодовольный царедворец.
* * *
Деревню они увидели на пологом берегу мелководной речушки; западный берег представлял собой обрыв голого столовидного холма, а на широкой излучине южного стояло полтора десятка хижин, две длинные общинные овчарни и водяная мельница; все это утопало в зарослях акации, дикой груши и барбариса. Наверное, тремя-четырьмя днями раньше зеленый оазис посреди голодной степи порадовал бы глаз, но сейчас он нагонял только уныние. Ячменое поле выгорело дотла, от овчарен несло падалью, в речушке у мельничной запруды покачивались разбухшие трупы селян. Посреди главной улицы на кольях, врытых в землю, чернели обожженные солнцем мертвецы; их рты были навсегда мученически распялены в немом крике. Конан, вдосталь навидавшийся покойников на своем веку, смотрел на них с мрачноватым спокойствием, а его спутников разбирала жуть. Они спустились с обрыва, перешли речушку по плотине и остановились на улице перед четверкой казненных. Видать, чем-то не угодили эти пастухи разбойничьему атаману – смерть остальных селян была куда легче, им попросту раскроили головы боевыми топорами, а трупы побросали в заводь. Сонго вдруг дернулся всем телом, скривил губы и прижал ладонь ко рту, а через несколько мгновений посмотрел на Конана.
– За что их так?
Темноволосый киммериец пожал плечами и неохотно произнес:
– Это не апийские шакалы поработали, – видишь, на мертвецах одежда осталась. Надо пошарить по селу, может, жратвы найдем или скотину уцелевшую. – Он опустился на корточки перед одним из казненных, дотронулся до его босой ноги. Ступня была сожжена до кости. – Плясал на угольках, – заключил Конан. – Вряд ли ради собственного удовольствия.
– Пытали? – Сонго устало сел на землю рядом с Конаном. – Но зачем?
– Когда в деревню приходят мародеры, у них обычно три намерения: пожрать, пограбить, поразвлечься, – назидательно произнес киммериец. – Местные бандиты просто так убивать не стали бы – не резон. Чужеземные – другое дело, но и они сначала повеселились бы, покуражились. Видно, они тут не все нашли, чего хотели.
– А что они хотели? – спросил Сонго.
Конан метнул в него хмурый взгляд – наивность молодого когирца начинала раздражать.
– Когда мы через речку шли, ты запруду видал?
Сонго кивнул.
– На покойничков обратил внимание?
Сонго опять кивнул, и опять его чуть не стошнило.
– Ну?
Снова озадаченный взгляд.
– Там ни одной девки, ни одной молодой бабы, – ровным голосом напомнил Конан. – Дети есть, а баб нету. А баба для мародера – первостатейное развлечение. Они обыскали дома и не нашли молодиц. Тогда стали пытать самых уважаемых жителей, куда попрятали дочерей и жен. Да только, сдается мне, зря. Крестьянин бандиту все отдаст: коня, хлеб, брагу – все. Кроме жены и дочки. Хоть ты жги его, хоть на кол нанизывай. Этих бедолаг прикончили дня два назад, не меньше, – решил он, еще раз осмотрев трупы. – Надо хорошенько поискать в домах, может, кое-кто из женщин вернулись, да увидали нас и по чердакам попрятались.
Когирцы разошлись по деревне, киммериец вернулся к реке. Когда он обыскивал амбар при мельнице, с противоположной околицы донеслись пронзительные крики. Он выскочил из амбара, ненароком свеся дверь с кожаных петель, и припустил по улице с мечом в руке; из других домов выбегали встревоженные телохранители Зивиллы.
Как выяснилось, Конан угадал – женщины возвратились в село, и коренастому балагуру Паако «посчастливилось» наткнуться на одну из них. В хлипкой лачуге на окраине он обнаружил огромный липовый чан с остатками браги; когда он, сложившись пополам, тянулся ртом к пахучей жидкости, тяжелый кетмень распорол ему правую ягодицу. Воин закричал от боли, но не поддался страху и гневу. Он в один миг обезоружил молодицу и вытащил ее, заходящуюся визгом, за волосы во двор.
Когда туда прибежал Конан, девушку держали двое когирцев, а Сонго хлопотал над пострадавшим. Рана была неглубока, но болезненна, и ее рваные края сулили уродливый шрам. Крестьянка не пыталась вырваться, лишь переводила круглые от ужаса глаза с одного чужеземного воина на другого; когда ее привязывали к плетню, заплакала с тихим щенячьим прискуливаньем.
Паако и еще один воин взялись сторожить пленницу, а остальные вновь разошлись по деревне. Теперь в дома заходили парами и не выпускали из рук оружия. К полудню на околицу согнали одиннадцать женщин, самой старшей было лет сорок, самой младшей не больше четырнадцати. Конан снова побывал на мельнице и набрал мешок муки, рассыпанной бандитами по полу амбара. Когирцы тоже нашли кое-какую снедь, выволокли во двор и злополучный чан с брагой. На костре заварили мучную болтушку, сдобрили ее толченым чесноком, и кунжутным маслом, потом в золе напекли репы. Когда накормили женщин, Сонго предложил их развязать, и Конан после некоторых колебаний согласился. Светловолосый когирец с успокаивающей улыбкой подошел к симпатичной темноглазой селянке и галантно предложил ей свободу в обмен на обещание не убегать. Девушка энергично закивала, подождала, пока он развяжет ей ноги и, улучив момент, метко двинула ногой в пах. Конан усмехнулся и посмотрел на Сонго, будто спрашивал: ну что, не передумал развязывать? А тот, держась за низ живота и закусив губу от боли, отрицательно покачал головой. Подойдя к неблагодарной красотке, Конан рывком поставил ее на ноги и отвесил такой подзатыльник, что девушка рухнула на плетень. Он снова заставил ее подняться и разорвал веревку на руках, нимало не заботясь о том, что причиняет ей боль. Затем, не оглядываясь ни на девушку, ни на Сонго, возвратился к костру, разломил обугленную репу и наполнил рот сладковатой желтой мякотью.
Прожевав, он все-таки оглянулся. Девушка сидела на земле, морщась и потирая висок, Сонго был рядом, на корточках, что-то терпеливо втолковывал, о чем-то пытался расспросить. Когирский воин протянул над огнем деревянную кружку с брагой, Конан поблагодарил кивком, глотнул – кислит, не дозрела еще, ну да не беда. Он покосился на Сонго и селянку. Молодой телохранитель Зивиллы добился своего, девушка отвечала – пока односложно, но было ясно, что она разговорится. Киммериец неторопливо допил брагу, вылил последние капли в огонь, посидел некоторое время в блаженном безмыслии, наслаждаясь тяжестью в желудке и легкостью в голове, встал и подошел к Сонго и девушке.
– Мы идем в Бусару, – произнес он, глядя в зрачки, расширенные страхом. – Мы из армии Токтыгая, свои. – Он знал, что Сонго уже сказал об этом селянке, но счел не лишним повторить. – Нам нужна еда, кое-что из одежды.
Девушка не отводила взгляда, страх на ее лице сменялся презрением. Конан усмехнулся.
– Да, вояки мы никудышные, раздолбали нас в пух и прах. Но мы не мародеры. Мы платим. Вот. – Он бросил ей на подол три монеты с профилем Токтыгая. – Настоящее золото. Это только тебе, остальные тоже внакладе не останутся.
Лицо девушки исказилось. Скрипнули зубы, набухли желваки. Конан удивился – что он такого сказал? Отчего она глядит на него с лютой ненавистью? Три монеты – жалованье пешего наемника за целый месяц, для крестьянки из нищей деревни это целое состояние. Хватит на новую хибару и два десятка овец.
– А еще похороним убитых, – хрипло пообещал он. – Кто из вас захочет, может идти с нами в Бусару.
– Правда, Юйсара, – ласково произнес Сонго и дотронулся до ее руки. – Пойдем. Женщинам тут опасно.
– Бандитов тьма тьмущая, – подтвердил Конан.
– Да. – Девушка криво улыбнулась и зло сверкнула глазами. – Кругом одни бандиты.
– Мы свои, – терпеливо повторил Конан. – Мы возьмем еды, но заплатим. По три золотых на каждую.
– Те тоже были свои, – глухо сказала Юйсара, – и тоже обещали по три золотых.
* * *
Шайка ворвалась в деревню на утренней заре. Пятеро всадников с тяжелыми копьями носились по единственной улице, двое пеших спустились с обрывистого берега к мельнице, еще десятка два воинов в доспехах из кожи и бронзы растянулись цепью вдоль околицы и стрелами и угрожающими криками загоняли перепуганных крестьян обратно в лачуги. Но их ждали. Еще вечером мальчишка-подпасок, сводный брат Юйсары, гнал с пастбища овец и заметил на обрыве вооруженных людей, они сидели в кустарнике и поглядывали на деревню. Они тоже видели встревоженного пастушка, но не пытались его остановить. И с полуночи Юйсары и еще десять женщин прятались в глубокой пещере в двух полетах стрелы к востоку от села, а вход в ту пещеру так зарос колючей дикой сливой, что пробраться в нее можно было только ползком, и хоронились там в самых крайних случаях, потому что там водились змеи, их истребляли время от времени, но они снова наползали, а мальчик сказал, что те люди, на обрыве, на апийцев не похожи, вроде свои, может, дезертиры? Ну, а коли не апийцы, то всем прятаться не резон, рассудили старики, а то шарить начнут по кустам и непременно доберутся до схрона. Вот кабы это были апийцы, тогда всем надо прятаться – у шкуродеров пощады не жди. А свои что сделают? Ну, покуражатся, цапнут, что под руку подвернется, да уйдут восвояси. Надо только девок да баб молодых убрать от греха подальше.






![Книга Конан и Бич Нергала [Бич Нергала • Черные колдуны • Алая цитадель] автора Гидеон Эйлат](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-konan-i-bich-nergala-bich-nergala-chernye-kolduny-alaya-citadel-258604.jpg)

