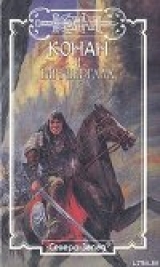
Текст книги "Бич Нергала"
Автор книги: Гидеон Эйлат
Жанр:
Героическая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)
Линялый фенек – не ахти какое лакомство, но Конан не рассуждал. Едва зверек высунул из чахлого окустья любопытную острую мордочку, тренькнула арбалетная тетива, и стрела-коротышка насквозь пробила хрупкий череп. Конан пошуровал по кустам, надеясь вспугнуть самку, и нежданно-негаданно поднял куропатку. Подбить ее навскидку не удалось, а разыскивая стрелу, киммериец наступил точнехонько на гнездо с яйцами. Отведя душу в забористом ругательстве, он перекинул трофей через плечо и зашагал к бивуаку.
* * *
В двух полетах стрелы от холма, на котором был разбит лагерь Каи-Хана, «таран» замер вновь. Справа вдалеке клубилась пыль, там наступала нехремская пехота, приближаясь к хилым рядам апийской конницы. «Это наковальня, о которую они стукнутся лбом, – говорил Дазаут в ставке, когда обсуждал с тысяцкими план сражения, – а мы саданем по затылку молотом. А что брызнет в стороны, подчистят гирканские молодцы».
Сейчас гирканский отряд где-то позади, движется в обход по длинному извилистому оврагу. Скоро Дазаут, не дожидаясь его появления на равнине, пошлет тяжелую конницу в атаку. Неудержимым селем бросится она на апийский стан, втопчет в сметет Каи-Хана со свитой и ринется дальше – на конный строй врагов. А тем временем вокруг них растянется гирканская петля. И все будет кончено. Ни один ни уйдет.
Дазаут скрипнул зубами, вспоминая свое бегство через Гадючью теснину, и с ненавистью глянул на склон холма, усаженный рогатками, как дикобраз иглами. Над кромкой угадывались очертания дюжины катапульт, огромных деревянных ложек, наполненных камнями и просмоленной ветошью. Как только нехремцы пойдут на приступ, они угодят под каменный град и огненный ливень. Вот только чего ради нехремцам штурмовать такую кручу? Почему не обойти ее с двух сторон, предварительно ссадив с коней пехотинцев с топорами, чтобы прорубили брешь в длинных рядах рогаток и собрали «чеснок»? Когда разведчики нарисовали во всех деталях схему апийских укреплений, предназначенных как раз на случай конной вылазки в тыл «осаждающим», Дазаут просто глазам своим не поверил. Бен-Саиф либо глупец, либо безумец; неужели практичные апийцы этого не видят? Или он их околдовал? Мыслимое ли дело, чтобы эти грязнули, презирающие труд, постигшие только ремесло разбойников, ишачили до кровавых мозолей? Добывали где-то колья, везли в голую степь, вкапывали в землю под острым углом. Затаскивали на холм катапульты – правда, топорной работы, годные всего на два-три десятка выстрелов, – но все-таки!
Если не рассматривать замысел Бен-Саифа по частям, он вовсе не покажется абсурдным: пока деморализованная нехремская армия видит перед собой огромный лагерь орды, она не осмелится атаковать. Самое большее, на что она отважится, это на отражение штурма – вооружит жителей, укрепит стены, реквизирует запасы продовольствия и фуража. И то вряд ли: после неудачи в Лафатской долине нехремцы боятся апийских головорезов, в кои-то веки показавших, что умеют побеждать и в открытом бою. Поэтому Дазаут не рискнет атаковать и даже защищаться, а оставит город – выход ему открыт. Оставит и двинется к столице, где Токтыгай рвет и мечет, но времени при этом не теряет и сколачивает новое войско. Да только не придет в столицу Дазаут. Где-то по пути его ждет засада: мощный кулак, львиная доля апийской дружины. А здесь, в лагере – только загонщики. И сам Каи-Хан, но пленные из его разведки, по беспечности слишком близко подъехавшие к крепости, признались под каленым железом, что Каи-Хан намерен завтра вместе со свитой отправиться в свою армию.
Подавленность, что гнела молодого полководца после Лафата, развеялась, он вновь гордился своей проницательностью. Когда он, оставив крепость под защитой надежного гарнизона, придет в столицу совсем другой дорогой и привезет на пиках головы атамана степных разбойников и агадейского советника, Токтыгай сменит гнев на милость и позволит загладить вину. И шайка, томящаяся в засаде, дождется нехремцев, но не с той стороны. И тогда будет видно, надолго ли хватит им смелости в бою с превосходящим по численности противником.
И все-таки непонятно, зачем им понадобилось так укреплять этот никчемный холм… Бен-Саиф на жаре повредился рассудком, так объяснил это Дазаут себе и подчиненным. Только сумасшедший додумается усаживать кольями крутой склон, обращенный чуть ли не в собственный тыл, – тогда как противоположный, пологий, совершенно беззащитен. Нет, Дазаут не такой осел, чтобы лезть на рожон. Era конница спокойно обойдет холм с юга, и тогда Бен-Саиф сообразит, какого свалял дурака. Но будет слишком поздно.
Прислонив ко лбу узкую ладонь в раскаленной солнцем кольчужной рукавице, Дазаут еще раз окинул взглядом дикобразий бок. На самой вершине холма застыл всадник; необычные чешуйчатые доспехи рассеивали лучи светила. Агадеец напоминал изваяние, серого каменного идола, которого можно встретить где угодно на степных просторах. Дазаут не мог разглядеть его лица, но вдруг почувствовал, что серый латник глядит прямо на него. В глаза. В душу. В самую глубину насторожившегося «я».
Грозный клин сверкающей бронзы ждал приказа. Слабый ветерок шевелил разноцветные перья на шлемах, кони, истекая потом, стояли неподвижно – не очень-то погарцуешь на такой жаре под тяжестью всадника в доспехах и собственной кольчужной попоны. Терпеливый тысяцкий, уперев короткое древко штандарта в бедро, свободной рукой невозмутимо оглаживал мокрые седые усы. Дазауту пот заливал глаза; несколько раз с силой сжав веки, он снова посмотрел вверх. На серое «изваяние».
В последний миг перед тем, как его оглушенное «я» сорвалось в бездну, он понял, почему Бен-Саиф укрепил этот склон.
Он понял все.
* * *
Бен-Саиф тронул поводья, стрекотнул звездочками шпор по незащищенному подбрюшью коренастого скакуна и подъехал к соправителю Апа. Здоровяк напоминал мешок сала, поставленный на седло, но внешность обманывала. В его роду умение держаться на коне впитывалось с материнским молоком, не слишком грациозная осанка Каи-Хана объяснялась просто: долгая верховая езда приучает держать позвоночник прямым, зато все мышцы – расслабленными. Опущенные плечи, голова точно тыква, свисающая с тына, внушительное чрево достает до луки седла, в глазах сонная поволока. Такую позу Каи-Хан мог сохранять круглые сутки.
– Еще раз говорю, – обратился к нему осипший от почти непрерывного крика Бен-Саиф, – до зеленых вешек можешь их гнать, а дальше – ни шагу.
– До зеленых вешек, – с ухмылкой пообещал апиец, – ни одна сволочь не добежит.
Бен-Саиф посмотрел ему в лицо. Маленькие глазки степняка маслились за веселым прищуром. Не было на этом лице и тени той изуверской жестокости, что явственно звучала в голосе. Человека с таким обликом легче вообразить на сельском празднике в окружении смеющихся детей, чем в свирепой сече.
– А лучше их вообще не трогать. – «Ерунду говорю», – тотчас упрекнул себя Бен-Саиф, но остановиться уже не мог. – Они ведь больше не вояки, так, видимость одна. Может, еще на своих нападут, панику посеют…
– Так мы ж не до смерти. – Ухмылка расползалась, и Бен-Саифа передернуло. – Мы ж ласково. Плашмя так сабелькой по шейке – и лежи, загорай. Ты ж пойми, нельзя их в лагерь пускать – набедокурят.
Прихвостни Каи-Хана заржали, улыбнулся даже сотник Нулан. Где это видано, чтобы гордый апийский наездник оставил в живых нечестивца?
– Я поехал. – Бен-Санф вновь царапнул коня шпорами. – Нулан, командуй.
– Хео-хей, любимые чада Иштар! – разлетелся над степью зычный голос старого рубаки. – Покажем гирканским выродкам, чего стоят в драке настоящие степные псы! Добыча и слава! За мной!
– Хео-хей! – браво откликнулась сотня. – Добыча и слава!
* * *
Лун не покидал своего поста. Справа и слева от него сражались апийцы, почти не неся потерь. Они нагружали щебнем и ветошью громадные ковши катапульт, посылали меткие слепящие стрелы во всадников, которые пытались удержаться в седлах на изрытой копытами круче, бросали в гущу пехотинцев глиняные бутыли с «нектаром Мушхуша», принимали на копья тех немногих, кому удавалось добраться до гребня. Удар бронзового клина пришелся точно в середку обрыва: Дазаут в самый последний миг переменил тактику, и никто из его людей не заподозрил, что у молодого воеводы помрачился рассудок. Вернее, был один – черноусый тысяцкий Охрон, но его протесты застряли в перерубленном горле. Сам Дазаут нахохлился в седле на безопасном расстоянии от штурмующих, его глаза налились кровью, под мертвенно-бледной кожей щек перекатывались желваки.
Первая атака захлебнулась, склон усеялся мертвецами и ранеными. Катапульты стреляли с поразительной точностью, тряпки, пропитанные горючей жидкостью, и огненные брызги оставляли на телах страшные ожоги. Почти каждая стрела находила цели – Бен-Саиф расставил на гребне отборных лучников.
От пылающих частоколов отползали изувеченные. Конница топталась в замешательстве – уже не классический нехремский «таран», а растерянная толпа. Кто-то спешил к раненым, кто-то ощупывал себя – цел ли? – и каждый бросал испуганные взгляды на командиров. Чаще всего на Дазаута.
А тот был неумолим. Поднеся к губам рожок, он снова протрубил сигнал «В атаку!» А когда никто не тронулся с места, истошно завопил:
– Вперед, скоты! Вперед, трусливая мразь! Докажите, что вы мужчины, а не дохлые слизняки!
Командиры переглянулись. В основном, это были люди бывалые, иные, как Охрон, годились Дазауту в отцы. Но до сих пор никто из них не понял, что происходит.
Они заставили людей построиться. Пехота уже не пыталась одолеть кручу бегом, размахивая мечами и секирами, – многие их товарищи за неосторожность поплатились жизнью. Прикрываясь узкими кавалерийскими щитами, они короткими перебежками двинулись к рогаткам.
Вражеские стрелки укладывали штурмующих десятками, но топоры не унимались; сухая щепа сыпалась на мертвых и впитывала кровь. Подрубленные колья падали один за другим, но в бреши тотчас летели бутыли с жидким пламенем. Нехремцы проклинали себя – рассчитывая на сечу, они не взяли метательного оружия, даже надежных больших щитов.
– Что вы стоите, шакалы? – крикнул Дазаут конникам, выжидающим, когда в огненном аду, что пожирал несчастную пехоту, появится хоть один проход. – Не видите – этот серый ублюдок смеется над вами?! Вперед! Больше повторять не буду! Принесите мне потроха Бен-Саифа или отдайте собственные!
Конница двинулась вперед, лошади падали, наступая на острые шипы «чеснока», шарахались от горящей ветоши; то один, то другой всадник выпускал из рук поводья и хватался за ослепшие глаза. Катапульты дружно осыпали их каменно-огненным дождем; но теперь после каждого залпа одна, а то и две из них отказывали. Апийцы несли потери; их сотника подобранное и брошенное кем-то из врагов копье искалечило в трех шагах от Луна. Серый всадник не шевелился. Не сводил с Дазаута бесцветных глаз.
Еще несколько мгновений, и десятки разъяренных нехремских всадников окажутся на холме…
– Назад! – завопил Дазаут, ее тут же спохватился – мало кто его слышит – и протрубил в рог. – Назад, доблестные исполины! В этот раз нам не повезло, но мы еще покажем апийским трупоедам, какого цвета их требуха! Отступайте, храбрецы! Мы уходим, но мы еще вернемся!
Конница во второй раз отхлынула от укреплений; вслед, проклиная все на свете, бежали пехотинцы. Один из командиров, молодой тысяцкий Палван, любимец Дазаута, диким взором окинул побоище, а затем посмотрел на воеводу. Дазаут злобно усмехнулся, встретив его взгляд.
Палван снова оглянулся на склон. Он был в числе тех, кто почти добрался до гребня. Он видел глаза апийского лучника – в них был страх неминуемой гибели. Он понял: сначала нехремскую конницу бросили на верную смерть, а затем у нее отняли победу.
Он стиснул зубы, поднял саблю над головой и помчался на Дазаута.
Тут бы ему и конец – если бы перед сотником был тот, под чьим началом он ходил в несколько сражений и кто владел клинком, как бог. Но сейчас на белом скакуне Дазаута сидел совершенно другой человек.
Этот человек носил доспехи и оружие, но фехтовать не умел. Да это ему и не требовалось.
Его научили одерживать победы, не обнажая сталь.
* * *
В тихую обитель, угнездившуюся неподалеку от Перевала Отшельника, Луна продали младенцем. Продали дорого: малыш был крепок и голосист, а родители, беженцы из Хаурана, в ту пору опаляемого междоусобной войной, выглядели плачевно: оборванные, изможденные, со стертыми в кровь ногами. Милосердные монахи спасли и родителей, отсыпав им горсть серебра, и мальчика, приютив его в своих стенах.
До двенадцати лет он не знал послушничества; жилось ему сытно и весело. Рядом всегда были друзья-погодки. Работой их не мучили, лишь от рассвета до полудня помогали они в обители старшим, а потом оборачивались вольными галчатами, сущей напастью для окрестных садов. Но из крестьян редко кто жаловался, ибо не раз выручал их монастырь в засуху, пуская из шлюзов огромного водоема влагу на их поля, или в уборочную страду, отряжая на работу зеленорясых послушников. Не один десяток лет минул с тех пор, как появилась в этом краю Пустынь Благого Провидения, а много ли времени нужно доброй традиции, чтобы завоевать себе местечко в людских умах?
Каждое утро до приснопамятного восхождения к Пещере начиналось с псалма. Дети ложились на пол, раскидывали руки, делали глубокий расслабляющий вдох и нараспев вторили младшему наставнику:
«Эрешкигаль, владычица мертвых! Подними суровый лик, проникни взором в душу раба твоего! Пусть этот взор створожит кровь в моих венах! Пусть он превратит мое сердце в камень, а глаза в лед! Камню не страшен кинжал, а льду – стужа! Я сойду в твой чертог, когда ты позовешь. Я приведу с собой, кого ты прикажешь».
Зловещие эти строки даже младшим пастырем – унылым колченогим послушником, приставленным к детям, – бормотались так буднично, что не пугали никого. Никто из ребят не пытался вникать, им хватало затей поинтереснее.
И вот однажды монастырские ворота распахнулись настежь и на брусчатку внутреннего двора въехал роскошный кортеж. Щедро убранную цветами повозку ануннака сопровождали десятки вооруженных всадников, молодых монахов в зеленых рясах. В толпе встречающих стояли и дети, умытые, нарядные, взволнованные. Лун заметил, с какой завистью смотрит на слуг ануннака младший пастырь: юноша буквально облизывал взором их оружие, одежду (лишь издали похожая на одеяние простого монаха Пустыни, она годилась и для похода, и для боя, и даже для парада), дорогую сбрую чистокровных скакунов. Храм Эрешкигали нищетой не страдал, – как, впрочем, и скромностью.
С откидной подножки экипажа сошел сам преподобный Ибн-Мухур, номинально – лишь рядовой ануннак Храма, в действительности – конфидент его величества, придворный советник и врач, воспитатель наследника престола, короче говоря, самый влиятельный священнослужитель если не в государстве, то в Храме Эрешкигали.
Увидев этого достойного мужа, невозможно было не проникнуться к нему симпатией: высокий благородный лоб, иссиня-черные завитки волос, патриархальная лопатка бороды, не скрывающая здорового румянца щек, смешливые карие глаза, кустистые брови, тронутые сединой по краям. Он был необычайно дороден, ступал царственно и вообще напоминал мудрых вождей, которые в незапамятные времена вывели с несчастной прародины мужественное племя агадейцев. Особенно Луну пришелся по душе его басистый хохот – развеселить Ибн-Мухура оказалось проще простого, видимо, настоятель звал об этом и заранее приготовил шутку, которую Лун расслышать не сумел. Ануннак смеялся так заливисто, так потешно всплескивал руками, что толпу монахов вмиг охватило нервозное веселье.
Ибн-Мухура ждали полторы недели назад, осчастливили крестьян, скупив у них уйму съестного и хмельного, вымыли, выскоблили всю обитель, срезали с клумб лучшие цветы, но в урочный день прибыл только гонец с вестью, что государственные дела вынуждают ануннака отложить приезд. С того дня настоятель и пастыри ходили мрачнее туч, даже простые послушники раздражались по пустякам и вслух поминали злокозненного Митру. И вот, наконец, кортеж Ибн-Мухура в стенах Пустыни, и под ноги знаменитому храмовнику летят цветы, увы, не такие красивые и благоуханные, как те, что неделей раньше отправились на помойку. Лун смотрел во все глаза, и странное волнение разбирало его каждый раз, когда ануннак поворачивался к нему лицом. Предчувствие новизны? Перелома в судьбе? Кто-то из пророков сказал: «Горе земному червю, коего узрело небесное око». В одно из таких мгновений Луну показалось, что гость обители заметил его, – что-то в некрасивом лице высокого полного подростка привлекло взгляд священника.
В ту ночь к мальчику долго не шел сон – бесконечная вереница впечатлений будоражила сердце. А наутро младший пастырь сообщил, что Лун и восемь его товарищей после завтрака отправятся в Пещеру Отшельника, и мысли о величайшем везении – постриге у самого Ибн-Мухура – подлили масла в костер восторга.
* * *
Остановив коня в четверти полета стрелы от вражеского войска, Каи-Хан стер пот с распаренного лица. Его щеки под мокрой кучерявой бородой горели юношеским румянцем, глаза задорно блестели – предводитель апийской орды уже не жалел, что поддался на уговоры чужеземного посланника, что заставлял свое войско трудиться без устали, заманивая неприятеля в капкан, а под конец пошел на страшный риск: разделил конницу на две неравные части и большую отправил в тыл, а меньшую бросил в бой с лучшими войсками Токтыгая. Захлебываясь восторгом, нарочный от Луна только что сообщил, что конница Дазаута уже растеряла зубы на укрепленном склоне холма, что через лощину, в которой скрылся Бен-Саиф с сотней Нулана, до сих пор не прорвался ни один гирканский шакал.
И теперь, с замиранием сердца взирая на пыльную тучу, взбитую сандалиями нехремской пехоты, Каи-Хан говорил себе: «Победа – в твоих руках». Обернись дело иначе, вопреки предсказанию Бен-Саифа, и ушлый братец Авал без тени огорчения подставил бы тебе шершавый кол под толстый зад. Но теперь мои псы вдосталь налакаются нехремской крови и разграбят Бусару, и вырежут Самрак, и повесят Токтыгая на его же кишках, и потешатся в Даисе, который нам подарит когирская шлюха, и уйдут с добычей, спалив и дворцы, и хижины, завалив колодцы голыми мертвецами, а потом я дружески обниму Бен-Саифа и скажу: ты славно потрудился, агадейский колдун, что бы мы делали без твоих чудес. И прижму его к пузу, и он спохватится, но будет поздно, не спасет волшебный доспех, мои железные пальцы промнут кольчугу и стиснут, раздавят печень. И он захлебнется воплем и околеет, и до чего же глупая будет у него рожа, когда он предстанет перед своим поганым Нергалом! И мы возвратимся в родные крепости, и затрубят рога, созывая народ на площади, и разыграется ритуальное действо: захмелевшие бабы и девки, разрядясь в кровавое тряпье с нечестивцев, будут изображать наши победы, избивая друг дружку палками и забрасывая какашками, и так раззадорят мужчин, что все завершится вселенским свальным грехом. А в разгаре потехи мы с Ияром и дюжиной крепких парней войдем в хоромы моего братца, возложим к его стопам дары – отрубленные головы Токтыгая и царских родичей с причиндалами, торчащими изо ртов, – и тогда Авал-Хан расплывется в мерзейшей улыбке, Но в его наглых глазах наконец-то мелькнет страх! Столько лет он измывался надо мной, из каждой моей неудачи выжимая свою выгоду до последней капли, выставляя меня выродком и полудурком, – и ведь надо же, я вернулся из гиблого похода героем нации, мое имя у всех на устах. И кто знает, станут ли упрекать меня старейшины родов, если в одну из теплых беззвездных ночей к Авал-Хану в спальню проберется оборванный мальчонка и полоснет по горлу засапожным ножом? Два правителя – не слишком ли много для вольного Апа, где спокон веку вождей держат в черном теле, не так уповая на мудрость людскую, как на снисхождение бога удачи?
Впереди кипела пылевая буря; из желтовато-коричневого облака вырывались безумные вопли, то и дело, крутясь, вылетало брошенное, точно палка, копье. Мельтешили неясные силуэты. Но Каи-Хану – степному волку – не раз доводилось рубиться в тучах пыли. Пыль – не потемки, врага от своего как-нибудь отличишь.
Он ободряюще рыкнул своим удальцам, и стая апийских волков вклинилась в обезумевшую толпу.
* * *
Правый раструб «ноздрей Мушхуша» давал великолепную струю, левый же то и дело захлебывался огнем – тем более обидно, что еще ни на одном испытании он не подводил. В отличие от правого – вчера Бен-Саиф полдня провозился с засорившимся отверстием подачи горючего. Судя по всему, механизм, состоящий из резервуара с горючим за седлом, впрыскивателей по бокам лошади и двух раструбов перед ее храпом, был далек от совершенства, впрочем, об этом сотника предупреждали еще на полигоне Храма Откровения Инанны, особенно подчеркивая ненадежность зажигания. Однако на последнем Ристалище Умов – ежевесеннем негласном празднике инаннитов, куда посторонние допускались лишь с ведома его величества, – «ноздри Мушхуша» настолько впечатлили Бен-Саифа, что он, отправляясь в чужие пределы с опаснейшей миссией, предпочел их даже «праще Ишума» – метательному оружию, которое состояло из емкости со сжатым воздухом и трех параллельных трубок, стрелявших с удивительной точностью шиластыми металлическими шариками. Яд, напыленный на шипы, убивал почти мгновенно, к тому же «праща» не знала осечек, однако весила изрядно и не годилась для боя с численно превосходящими воинами в доспехах. С одним противником Бен-Саиф разделался бы в два-три залпа, сначала умертвив незащищенную лошадь, а затем выпустив парочку бронзовых ос в лицо седоку. Но на всем скаку, да против целой лавы… Нет, тут, безусловно, гораздо надежнее драконье пламя.
Вконец изнервничавшись, Бен-Саиф оставил «ноздрю» в покое и, помянув в сердцах зловредного Митру, забрался в седло. Раструбы «ноздрей» заканчивались в локте от конского носа и смотрели чуть в стороны – чтобы не опалять морду скакуна, несущегося во весь опор. Еще одна незадача: когда «ноздри» выдыхают огонь, всаднику нельзя двигаться иначе, как по прямой, что не так-то просто на дне извилистой лощины. Перед отъездом из Шетры сотник узнал, что умники из Храма Откровения придумали негорючее рядно из какого-то волокнистого минерала, – еще бы неделя, и он бы разжился исподним, защищающим от ожогов, и маской для скакуна. Сам он однажды подал идею насчет забрала из тугоплавкого стекла, но монахи из стекловарни подняли его на смех. «Вообрази себе камешек из-под копыта удирающего врага, – сказал один из дюжих стеклодувов, – он тебя запросто оставит без глаза». Хотя кому-то из алхимиков мысль о прозрачном забрале понравилась. «Кварц – вещество многообещающее, – сказал сей достойный монах, – и разные добавки в расплав воспринимает по-разному. Меняет свой цвет, прозрачность, твердость… Стеклянные доспехи – это, конечно, смешно, однако, если они тебе необходимы, ты их получишь… года через четыре».
Но таким сроком Бен-Саиф не располагал. Никогда еще за пределами Междугорья не складывалась столь выгодная политическая ситуация, как сейчас; никогда еще Ибн-Мухур – известнейший маг, врач и мудрец, давным-давно приметивший в рядах горной гвардии смышленого и любознательного воина, – не ходил таким окрыленным. Все знаменовало скорую великую победу молодого агадейского властелина.
* * *
– Возвращаемся в Бусару, – крикнул Павлан растерянным соратникам, которые суетились у подножия горящего холма. – Боги отвернулись от нас, командир предал. Я подъехал к пехоте, там ужас что творится, в каждого будто демон вселился, они буйствуют и режут друг друга. В жизни такого не видал! Апийские трупоеды зарубили пять-шесть десятков и повернули назад, видно, испугались, что на них перекинется порча. Клянусь пресветлым Митрой, тут не обошлось без колдовства.
– И агадейской интриги, – добавил тысяцкий из знатного рода, издавна дарившего Нехрему военачальников и дипломатов. Родной дядя этого воина, бывший посол в Агадее, не так давно отошел от дел и немало поведал о чудесах этой маленькой горной страны; подчас в его голосе звучало восхищение. Тысяцкий, человек более практического склада ума, дядиных восторгов не разделял; традиционные причуды агадейских монархов внушали ему только тревогу. – Ты догнал Дазаута?
– Нет. – Павлан потупился, изображая пристыженность, которой не испытывал. – У него скакун из конюшен Токтыгая. Чистых туранских кровей.
– И гирканцев ни слуху, ни духу, – задумчиво произнес тысяцкий. – Неужели и они продались? – И сам же ответил: – С них станется. Та же порода, что и апийцы. Канюки степные. – Он вдруг напрягся и с тревогой посмотрел на Павлана: – Ты видел апийцев, которые напали на пехоту?
– Видел.
– Сколько их было?
– Сотня, может, чуть больше.
– А на холме – от силы полтораста. – Сотник помолчал, подсчитывая в уме. – Позавчера в лагере их было тысяч пять – значит, четыре с половиной ушли. Куда? В Ап?
Павлан вздрогнул и схватился за нагайку.
– К нам в тыл! Штурмуют крепость! Назад! Скорее!
Несколько минут вокруг него царила сумятица. Затем блистательная нехремская конница, самая дорогая и любимая игрушка Токтыгая, гремя тысячами копыт, понеслась к Бусаре, а следом, жалобно скрипя под тяжестью искалеченных солдат, двинулись боевые колесницы.
С вершины чадящего холма их провожал бесстрастным взглядом всадник в серых доспехах.






![Книга Конан и Бич Нергала [Бич Нергала • Черные колдуны • Алая цитадель] автора Гидеон Эйлат](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-konan-i-bich-nergala-bich-nergala-chernye-kolduny-alaya-citadel-258604.jpg)

