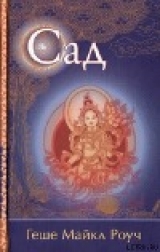
Текст книги "Сад.Притча"
Автор книги: Геше Майкл Роуч
Жанр:
Самопознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
Глава 5
ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЮ В СМЕРТЬ. ВАСУБАНДХУ
Теперь, после беседы с Дхармакирти, я точно знал: мать моя все еще жива. Знал, не потому что увидел ее своими глазами, а потому что увидел ее своим умом; не в том смысле, что смог увидеть ее своим мысленным взором, а в том, что смог доказать себе, что она по-прежнему существует; и это было столь же достоверно, как если бы я увидел ее собственными глазами. Кроме того, я чувствовал, что наши с ней судьбы тесно переплетены; я знал, что связан с ней такими узами, что должен отправиться за ней, куда бы она ни пошла. И на всех путях, какими бы я ни пошел, я всегда хотел отыскать и ее, мою златовласку.
Лучшее, что я мог для этого сделать, – это созерцать в поисках ответа. Но я знал, что ничего не получится без помощи Учителей, как знал почти наверняка и то, что помощь эта обязательно придет. Я решил еще раз вернуться в Сад; это решение далось мне без труда, ведь это священное место всегда было для меня местом ответов и решений, – местом, где царила радость.
Дело было зимой, и на этот раз путешествие отняло у меня больше времени – я вошел в калитку Сада около полуночи. Вместо полной луны на небе красовался тонкий полумесяц, в его волшебном свете морозный иней на траве сверкал серебром. Холод сковал мое тело и почти лишил меня терпения; я впервые сел на скамейку под чинарой не спиной, а лицом к калитке – я уже не просил, а едва ли не требовал, чтобы, ну хоть разочек, она пришла поскорее. Но ждать опять пришлось долго, и только последние, но зато очень крепкие нити моей веры привязывали мой пристальный взгляд к железным пикам над входом, между которыми я должен был увидеть голову любого входящего в Сад.
Когда эта голова наконец появилась высоко над калиткой, меня пробрала дрожь, ибо не было там ни золотого лика, ни золотых волос, ни солнечного света, ни тепла, а только голый череп и две темные глазные впадины, утонувшие среди мертвенно-бледных теней на страшном лице.
Похожий на привидение гость плавно и скоро преодолел расстояние от калитки до скамейки; его монашеские одежды волочились по земле, что еще больше подчеркивало его огромный рост. И вот он уже стоял передо мной, обратив ко мне свое лицо, которое, казалось, навсегда покинула радость. Это был Учитель Высшего знания Васубандху собственной персоной.
Мастер был худ и костляв; его конечности были длинными, но не тонкими, скорее сильными и рельефными; в его мускулистых жилистых руках чувствовались цепкость и твердость, несмотря на то что выглядел он лет на семьдесят. У него был низкий лоб, квадратная челюсть, а кожа так плотно обтягивала череп, что казалось, была просто нарисована на нем. Его губы были плотно сжаты, в щеки на концах губ врезались глубокие складки чрезвычайной серьезности. Я потерял дар речи, перестал слышать шум фонтана и шелест травы и ждал, когда он сам заговорит; он же продолжал стоять передо мной, уставившись на меня сверху вниз.
– Ты сегодня умрешь? – просто спросил он ни к селу ни к городу.
Если бы кто-то другой с такой внешностью в этом темном и уединенном месте задал мне такой вопрос, я бы, наверное, воспринял его почти как угрозу, но я всецело доверял его монашеским одеждам и поэтому также просто ответил:
– Я не знаю.
– А ты подумай, ты сегодня умрешь? – продолжал настаивать Васубандху.
– Могу, наверное, от этого никто не застрахован, всякое может случиться… но пока не случилось, поэтому хочется верить, что сегодня нет, не умру.
– Ты на тело свое посмотри, – скомандовал он. – Это то тело, что умрет?
Я взглянул на свои руки, на пальцы, совершенно окоченевшие от мороза, и вспомнил руки моей покойной матери в то утро, когда мы обнаружили ее мертвой, плавающей в собственной крови, – рак прогрыз ее до самого сердца.
– Да-да, это то тело, которое умрет.
– А когда придет смерть, – продолжал монах напряженным голосом, – тебе будет куда пойти? Ты знаешь хоть одно такое место, где смерть не настигнет тебя?
– Нет, такого места не существует. Ни неприступная крепость, ни корабль посреди океана, ни скит отшельника в глухом лесу, ни стальной склеп не защитят тебя. Смерть беспрепятственно проникает всюду.
– Но ведь ты так молод. А разве смерть не удел стариков? Разве смерть не выбирает свои жертвы исключительно по старшинству: сначала идут старые, а потом те, кто моложе?
Я думал над ответом недолго:
– Мы непременно должны умереть и ожидаем, что раньше умрут те, кто уже успел пожить свое. Но я не могу сказать с уверенностью, что порядок этот неукоснительно соблюдается, ведь многие мои друзья умерли совсем молодыми, – смерти, похоже, наплевать на порядок.
– Но ведь должны же быть какие-то средства, чтобы остановить смерть, ну там достижения медицины или какие-нибудь священные заклинания, известные только некоторым высшим иерархам церкви, ну хоть что-нибудь способное укрыть нас от смерти!
– Ну лекарств-то разных навалом, иногда даже кажется, что они могут отсрочить неизбежный конец, но в целом нет, ни одному доктору не удалось еще найти снадобья, чтобы навсегда остановить приближение смерти, и ни один служитель культа не нашел против смерти тех слов, которым бы она подчинилась.
– Но лекарства… Ведь если с умом их использовать, если приложить титанические усилия талантливейших людей, чтобы найти еще более здоровую формулу питания, еще более эффективные оздоровительные упражнения для тела, – разве так мы не сможем продлить свою жизнь?
Я задумался. Вообще-то и этот вопрос часто тревожил мой ум, да и мой на него ответ не успокаивал.
– Да, мы, конечно, можем все это сделать, и нам даже покажется, что продолжительность нашей жизни насколько-то там увеличится. Однако парадокс заключается в том, что даже в часы выполнения этих упражнений, в часы, которые мы проводим в поиске, приготовлении и тщательном пережевывании здоровой пищи, то есть даже в те часы, когда мы практикуем здоровый образ жизни, эти самые часы этой самой здоровой жизни неумолимо текут у нас как песок меж пальцев. В результате это время оказывается вычеркнутым из нашей жизни, а значит, как и любое другое потраченное время, приближает нашу смерть.
То на то и выходит. Прожили дольше, но эти годы истратили на борьбу за то, чтобы прожить дольше. Мы не можем остановить, мы не можем даже замедлить эту погоню жизни за смертью. Что день, то короче к могиле наш путь…
Васубандху стоял молча, а когда звук моих слов затих, я вдруг опять услышал журчание воды, вытекающей из фонтана за моей спиной.
Казалось, что этим Учитель хочет указать мне на сходство этого ручейка с моей жизнью, которая только кажется одним целым, – потоком между камней, – а на деле оказывается постоянным безостановочным исчезновением навсегда драгоценных и неповторимых ее моментов.
– Сколько часов ты сегодня провел в созерцании? – наконец спросил он.
– Ну это… Обычно я делаю это регулярно и почти не пропускаю, но сегодня надо было еще кое-что сделать сверх обычной работы в библиотеке, а потом я готовился к поездке сюда, то да се, наскоро перекусил в какой-то забегаловке, и…
– Отвечай на вопрос.
– Вообще не созерцал. Времени не было.
– Ну а вчера, когда у тебя было время, ты долго медитировал?
Сколько ты вообще уделяешь времени великому Пути, сколько времени ты уделяешь своему духу, а не бренному телу, раз уж оно все равно должно истлеть?
– Вчера-то я как раз медитировал. Почти час, утром.
– Всего лишь час за целый день? – спросил он.
– Да я всегда созерцаю где-то по часу. Иногда утром, иногда вечером.
– Всего час? – переспросил он.
– Почти час. Включая приготовления и все такое; а еще частенько надо подготовиться к предстоящему рабочему дню, да и другие часто мешают, то им то надо, то это. В общем, если честно, то, думаю, выйдет полчаса, а если совсем честно, то и все двадцать минут.
– Двадцать минут в сутки, в которых двадцать четыре часа? – снова спросил Мастер.
– Да-да, я созерцаю всего двадцать минут, – сказал я, глядя в мерзлую землю, – если вообще удается.
– А вот еда, сколько у тебя времени уходит на еду? – спросил он. – А сон, а болтовня с дружками-приятелями, а легкомысленные рассуждения на тему, что бы такого еще сделать, чтобы только ничего не делать? А сколько ты, наконец, в сортире просиживаешь? Ну скажи, сколько?
– Да я не считал. Это ж повседневные занятия. День прошел, и слава богу!
– Так жить нельзя! Ведь ты живешь, как будто уже умер. До смерти осталось так мало драгоценного времени, а ты его так бездарно тратишь, что его становится еще меньше. У тебя вообще не осталось времени. Я бы сказал, ты уже покойник.
Я молчал.
– А знаешь, – мягко спросил Васубандху, как будто вспомнил свой собственный опыт, – как выглядит в глазах семидесятилетнего старца прожитая им жизнь?
– Откуда? Я ж молодой еще! Он вздохнул.
– А вот представь себе сон – сон длиною в жизнь, порой наполненный приятными впечатлениями, порой омраченный минутами страшной боли, но в целом насыщенный и красочный.
– Ну представил.
– А теперь представь себе миг пробуждения.
– Представил.
– А теперь представь себе чувства человека, который только что проснулся и вспоминает этот свой сон.
Мне было знакомо это ощущение, потому что и самому часто снились такие сны. И меня всегда поражало, что весь сон казался коротким, укладывался в несколько мгновений, в несколько кадров, быстро пробегавших перед мысленным взором в никуда. Мастер кивнул и некоторое время молчал, а затем уже в который раз я услышал вопрос:
– Я тебя спрашивал – ты сегодня умрешь?
– Ну ей-богу, не знаю, – честно ответил я.
– Ну тогда я расскажу тебе одну историю, – негромко проскрежетал Васубандху. – Один человек здорово насолил одному влиятельному и опасному типу. И вот этот тип пригрозил, поклялся, что до конца этого месяца придет к обидчику ночью, ворвется в его дом и перережет ему горло.
Я затрепетал как осиновый лист, не то от ночного холода, не то от ощущения страха, которое опустилось вместе с этими его словами на мой ухоженный Сад.
– А теперь вопрос. Если этот человек захочет подготовиться к подобному ночному визиту – навесить замки на дверях, поставить задвижки на ставнях, придумать, как вовремя позвать соседей на помощь, – то когда это лучше всего сделать? В первый же вечер, или можно подождать денек-другой, а то и недельку, ведь неизвестно, когда именно придет убийца с кинжалом, в какую из оставшихся до конца месяца ночей?
– Тут и думать нечего, надо готовиться немедленно.
– Но ведь убийца может прийти и позже, в предпоследнюю или даже последнюю ночь месяца.
– Ну и что? Все равно, главное, чтобы все приготовления уже были сделаны: если отложить их на более поздний срок, а человек с ножом придет раньше, то все будет напрасно.
– Хорошо, что ты это понимаешь. Какова длина человеческой жизни?
– В наши дни лет семьдесят. Да, люди доживают до семидесяти.
– Нет-нет, я не спрашивал о средней продолжительности жизни. Я спрашивал: какова длина человеческой жизни? Как долго живет человек?
– Конечно, кто-то живет дольше, кто-то нет. Сейчас большинство доживает до семидесяти или что-то около того.
Мастер прочистил горло, в его глазах полыхнул гнев.
– Спрашиваю еще раз: какова длина человеческой жизни?
– Ну, если ты так ставишь вопрос…
– Как это так? – резко перебил он.
– Хорошо-хорошо. Я не могу сказать, мы не знаем, не существует фиксированной длины жизни человека. Жизнь не имеет определенной длины – некоторые умирают в маразме старости, некоторые в расцвете сил среднего возраста, иные уходят из жизни на заре своей юности, а ктото даже в раннем детстве или еще в материнской утробе.
– А умереть просто или трудно? – продолжал он свой безжалостный допрос.
– Думаю, что не очень просто. Вот я живу уже больше двадцати лет и пережил век крепкой телеги, или почти полжизни степного каменного дома, построенного на известковом растворе.
– Значит, тебе не приходилось слышать о людях, которые умирали от маленькой царапинки, куда попала инфекция, оттого что поскользнулись на ровном месте или оттого что получили неожиданный смертоносный удар кулаком в висок в случайной потасовке?
– Да сколько угодно! Вот у нас тут на днях случай был…
– Ну тогда ты, наверное, никогда не слышал о людях, которые были убиты как раз теми вещами, назначение которых было нести жизнь?
Скольких раздавило телегами; скольким снесла полчерепа разъяренная дойная корова; сколько поперхнулось своим любимым блюдом, заботливо приготовленным женой; сколько полегло от рук врачей, назначивших им лечение; сколько попадало с лестниц в собственных домах; скольким проломило голову кирпичами, упавшими с той самой крыши, которая призвана была защищать жизнь, а не безжалостно отнимать ее?
– Истинная правда. Так частенько бывает.
– А вот ты физиологию изучал – ответствуй, какова функция легких?
– Охлаждать тело, снабжая его воздухом и уравновешивая влияние более горячего элемента – желчи, – быстро отрапортовал я, как на экзамене.
– А печени?
– Производить желчь, способствовать пищеварению, следить за тем, чтобы пища обогревала тело и служила ему топливом.
– А что будет, если в теле недостаточно тепла, а элемент ветра в легких станет слишком сильным?
– Пациент умрет от пневмонии.
– А если элемент ветра ослабеет и тело перестанет охлаждаться?
– Пациент умрет от лихорадки.
– Итак, мы можем сказать, что наше собственное тело – это машина, которая представляется столь четко сбалансированной, отлаженной, а на самом деле работает до первого летального сбоя. Мы можем сказать, что функции внутренних органов распределены таким образом, что держат их в состоянии перманентной войны друг с другом, и победа одного из них – а ведь это неминуемая смерть всего организма – всего лишь дело времени. Так?
Мне было непросто осознать, что даже если ничего не убьет меня извне, то мое тело само с этим управится, но я был вынужден признать правоту наставника.
– Точно так.
– А разве не правильно будет сказать, что убить это тело очень просто? Разве мы не окружили себя предметами, назначение которых давать нам кров, кормить, одевать и развлекать, служить нам средством передвижения, окружать нас теплом и уютом, и разве не является каждый из этих предметов нашим потенциальным убийцей, только и ждущим своего часа? Если, конечно, собственное тело не убьет нас часом раньше.
Ведь так?
Мне становилось все неприятнее думать о тех вещах, о которых мы обычно предпочитаем не думать, но пришлось снова согласиться, и я молча кивнул.
– Пойдем дальше. Разве не правда, что обеспечение физических потребностей этого тела есть почти неизбежная деятельность, которая поглощает чуть ли не всю нашу жизнь? Разве большинство мужчин и женщин на этой планете не трудятся целыми днями в поте лица только для того, чтобы одеть и прокормить себя? Разве мало их так и умирают от нужды, не справившись с этой задачей?
– Все так, все так.
– Тогда ты должен признать, что мы рождаемся буквально для того, чтобы умереть. Не так ли?
Я опять кивнул.
Васубандху снова замолчал, и весь Сад затих вслед за ним, но это была не радостная тишина, которую разливала медитация Учителя Камалашилы, а страшное безмолвие смерти, безмолвие зимы. Казалось, в этом Саду, прежде наполненном жизнью прекрасных цветов и деревьев, остался только холодный камень ограждавших его стен.
Я искоса посмотрел на Учителя; он, задумавшись, смотрел куда-то вдаль, в темноту над южной стеной, что возвышалась справа от него.
Потом он снова опустил свой взгляд на меня, и меня поразило то, как сильно изменилось его лицо: каменный холод превратился в горячее сострадание, его полные слез глаза сияли.
– А если у человека есть родные и близкие – милые его сердцу люди, близкие по духу, партнеры и испытанные соратники по борьбе, друзья до гроба, верная жена, послушные дети, умудренные опытом родители и все те, кто прошагал с ним бок о бок всю его долгую, а может быть и даже скорее всего, недолгую жизнь, – то когда этот человек умирает, но еще не совсем умер, а лежит на смертном одре, то они ведь соберутся, все до одного, станут рыдать и хватать его за руки, прикасаться к его щекам и груди и кричать: «На кого ж ты нас покидаешь?» Знакомая картина?
– Да-да, я и сам все это видел, я и сам стоял у такого же одра.
– А заметил ли ты, что человек этот все равно умирает, как бы крепко его ни держали?
– Видел.
– Умирает один?
– Один-одинешенек. Хоть остальные и держат его, но никто не может ни удержать, ни пойти с ним вместе.
– Ну пусть никто не может с ним пойти, но хоть прихватить с собой кое-что он может? Какие-то дорогие его сердцу безделушки, ну хоть чтонибудь из того, что он скопил за всю жизнь, что заработал праведным трудом, что ревностно оберегал в стенах дома, который он все еще называет своим?
– Нет, когда потеряна сама жизнь, то любой объект, даже любая часть этого объекта, даже крохотный медяк, любая собственность – всевсе, что нажито непосильным трудом, все для него пропадает, полностью.
– И даже тело? Даже это драгоценное тело, которое мы холим и лелеем превыше всего прочего? Даже это тело, которое мы так вкусно кормили все эти годы; которое мы заботливо укутывали, одевали и по погоде и по моде; эти волосы, которые мы стригли, завивали, причесывали и укладывали чуть ли не ежедневно; эта кожа, которую мы мыли и увлажняли; это лицо, которое всю жизнь приветливо смотрело на нас из зеркала; и даже сама наша индивидуальность?
– Мы ничего не можем взять с собой, ничего – ни тела, ни даже имени; мы полностью одиноки, мы совершенно одни.
– Кого же зовут прийти на помощь в этот последний момент, в смертный час? Разве есть такой близкий друг, который мог бы помочь, или могущественный правитель, или богатый благодетель, власть и капитал которых способны спасти умирающего, или доктор, знания которого пригодились бы в самый момент смерти?
– Нет, все бесполезно. Некого позвать, не осталось никого, да никого уже и не зовут.
– Итак, можем ли мы, наконец, в заключение сказать, что мы непременно должны умереть?
– Да, – я едва смог поднять на него глаза, – да, чему быть, того не миновать.
Во взгляде наставника, обращенном на меня, вспыхнул праведный гнев, как будто он только что уличил предателя, причем такого, чье предательство привело к страданиям и гибели множества невинных людей.
– А ты можешь представить мне, – требовательно спросил он, – хотя бы крупицу доказательства того, что когда умирает тело, то умирает и ум?
– Легко. Когда тело умирает, человек перестает двигаться, перестает говорить и, похоже, точно так же перестает и думать.
– А откуда ты знаешь, что он перестал думать, разве ты можешь это видеть?
– Нет, ум нельзя увидеть, ведь он не такой, как тело, он из другого материала сделан; ум – это что-то невидимое и осознающее, не то что эти кожа да кости, которые можно потрогать, разрезать и измерить. Но мы можем судить, о чем думает ум по выражению лица и по звукам голоса.
– Итак, ты хочешь сказать, что если тело повреждено настолько, что человек не может двигать языком, а мышцы его лица парализованы настолько, что его выражение не меняется, то эта невидимая и сознательная вещь, именуемая умом, прекращает работу только потому, что не может выразить себя словами и гримасами?
Я понял, что он имеет в виду: это все равно что признать всадника мертвым только потому, что умер загнанный им конь; все равно что руку, держащую топор, следует объявить мертвой, тогда как всего лишь сломалось топорище. До меня начало доходить, что эта идея, состоящая в том, что невидимый и неописуемый ум должен умереть, когда умирает инструмент, через который он себя выражает, была одной из тех идей, в которые мы верим просто потому, что в нее верили наши родители. Я понял, что эта идея была одной из тех ложных концепций, которые мы принимали на веру только потому, что все вокруг в нее верили, только потому, что и мы верили в нее с пеленок. Мне стало ясно, что и наши дети будут верить в нее лишь из-за того, что мы сами в нее верим, – проще говоря, без всякой разумной на то причины. У меня не нашлось ни одного доказательства, чтобы убедить Васубандху, что ум должен умереть потому, что умерло тело, потому, что мы перестали наблюдать влияние деятельности ума на это тело.
– Я знаю: ты успел увидеть безошибочным взором своего рассудка, что ты уже жил прежде. Возможно, тебе неизвестны детали, но от тебя не требуется, чтобы ты их знал, – это нелегко да и необязательно. Важно, что, отбросив непростительные заблуждения, окружавшие нас с раннего детства, при помощи холодной логики ты понял, что ты жил прежде.
Полностью следуя той же логике, делаем вывод о том, что твой ум должен продолжиться в будущее, что он вовсе не разрушается только потому, что разрушается твое теперешнее тело.
– Предположим, что это так… – заговорил я с некоторой надеждой, ибо мы наконец подошли к тому, зачем я и приехал в Сад, то есть найти известия о моей матушке и узнать о своем собственном будущем – будущем, в котором мы будем с ней вместе.
– Тогда, ясное дело, ум должен отправиться дальше, – буднично заявил Васубандху.
– А, точно, – заторопился я, – я слышал разговоры об этой, как ее, реинкарнации, и о том, как мы должны разыскать среди ныне живущих людей тех, кто в прошлом был нами любим, а еще о том, как некоторые находят провидцев, которые могут сказать точно, куда после смерти ушли их близкие, вот! – Я с надеждой взглянул на Васубандху, чтобы понять, сможет ли его мудрость помочь мне в моих поисках.
Он смотрел мне прямо в глаза, и на этот раз слезы свободно текли по его каменному лицу, а голос прерывался от волнения.
– Неужели ты думаешь, – спросил он мягко, – что человеческое рождение – ту жизнь, которую живешь ты и которую прожила твоя мать – так легко обрести? Неужели ты думаешь, что каждый ум входит в такое тело и в такую жизнь?
– Да, но ведь утверждается именно это, – ответил я, продолжая упорствовать, не желая услышать от него то, что мог сейчас услышать.
Мастер посмотрел вдаль, потом снова на меня.
– Ты действительно считаешь, что тот мир, который мы видим перед собой, – единственный? Задумайся хоть на мгновение! Ты действительно можешь представить себе, что каждая из возможных сфер бытия со всевозможными формами жизни – вот тут перед тобой?
Вдумайся, ты же способен рассуждать здраво! Разве сам факт существования того мира, который ты здесь видишь, не наводит тебя на мысль о том, что есть и другие миры и что их много, очень много – и не сосчитаешь! – что есть почти бесконечное количество миров, о которых ты не имеешь ни малейшего представления?
Я задумался. Мне хватило краткого мига, чтобы – взглянув на холодное зимнее небо над его плечом, усыпанное мириадами звезд, представив микрокосмосы живых существ, которые видимо и незримо существовали внутри каждой травинки и ручейка моего Сада, окунувшись в закоулки моего собственного ума, как уже знакомые, так и совершенно пока неизвестные, – признать, что мир, который я знаю, есть всего лишь огромный осколочек гораздо более громадной вселенной, состоящей из бесконечного разнообразия миров. И вслед за этой мыслью пришла другая, полная отчаяния мысль: я никогда не смогу отыскать свою мать.
Он почувствовал мои мысли и заговорил мягко, но настойчиво:
– Я кратко расскажу тебе о мирах и сферах бытия – необязательно принимать мои слова на веру, однако эти вещи могут быть доказаны, и они будут тебе доказаны в свое время – их можно увидеть, и ты тоже сможешь увидеть их своими глазами; забегая вперед, должен тебе сказать, что ты точно увидишь их, когда придет твой черед.
Есть такие сферы… такие сферы, куда попадает ум, в которых ты впервые открываешь глаза, будучи уже вполне взрослым индивидом. И первое, что ты видишь, – это другие существа, вооруженные кто ножом, кто дубиной, с яростью приближающиеся к тебе. Ты инстинктивно шаришь по земле, хватаешь все, что попадается под руку, – камень, палку, и какая-то злая сила подхватывает тебя и бросает в атаку. Вот так и живете вы, всю свою жизнь проводя в яростных сражениях, в нескончаемых убийствах себе подобных, то убивая других, то погибая сами в этом нескончаемом кровавом кошмаре. Но даже и гибель не приносит освобождения, страшное и странное проклятие довлеет над обитателями этого ада: они не могут умереть, а должны через несколько минут воспрянуть и снова вступить в бой, сражаться и страдать от ран, умирать и вновь воскресать, страдать снова и снова, и так на протяжении тысячелетий.
Есть сферы, где, чуть только открыв глаза, ты видишь, что весь объят пламенем. Ты не можешь умереть. Ты горишь. Ты чувствуешь агонию умирающего в огне тела. Ты стонешь и корчишься от боли и кричишь непрестанно, тебе просто больше ничего не остается как кричать, ничего не в силах делать что-либо другое в этом огненном аду. Ты горишь, но не сгораешь.
А то еще есть сферы, где бегут, только бегут, спотыкаются, встают и снова бегут, чтобы спастись от огромных ужасных собак с железными клыками, которые впиваются в твои ноги, терзая и разрывая их на части.
От них некуда скрыться, и нет этому конца, и остается только бежать, бежать и бежать.
Есть голодные сферы – такие области, где духи, мучимые голодом и жаждой, стенают и рыскают в тщетных попытках удовлетворения своих желаний, ищут хоть какого-то успокоения. Голод и жажда так велики, что утолить их невозможно, и все это продолжается бесконечно и безнадежно. Это те сферы, которые ты сейчас увидеть не можешь.
Он замолчал и снова посмотрел вдаль. Я вдруг почувствовал, что лицо мое мокро от слез – слез, которые лились из его глаз.
– Вот взять хоть этот мир, хотя бы те сферы, которые ты можешь видеть… – сказал он тихо. – Представь, каково это быть животным в этом мире. Знаю я вас, людей, и все мысли ваши знаю: вы считаете, что звери живут в естественной гармонии с природой, в каком-то там общении с деревьями, водоемами и горами. А теперь я тебе расскажу, как все это устроено на самом деле, а ты меня перебьешь, если я начну заговариваться. Как ты думаешь, почему птицы вздрагивают и разлетаются при твоем приближении? Как ты думаешь, почему рыба стрелой уносится прочь, как только тень человеческой руки падает на поверхность воды? А ты никогда не задумывался, почему олень стремглав убегает при виде человека, равно как и лисица и тем более мышь; почему все в ужасе бросаются прочь от тебя?
Да потому, что жизнь животного – это жизнь, полная ужаса; в жизни животного есть только одна забота, одна цель, и состоит она в том, чтобы не стать пищей для другого животного. Или ты съешь, или съедят тебя!
Итак, сильные едят слабых, слабые едят слабейших. Они убегают от тебя, потому что не хотят быть съеденными. Они проводят всю свою жизнь с оглядкой, в постоянном ожидании опасности, а ты и есть та самая опасность, потому что ты более сильное животное. Ты самая большая опасность. Ведь ты же зверь, который поймает их, да еще и заставит на себя работать, а может, попросту сдерешь с них шкуру себе на одежду, а мясо зажаришь и съешь.
Пойми же теперь, что такое на самом деле быть животным. Пойми, каковы на самом деле даже те сферы бытия, которые ты можешь видеть.
И никогда, – говорил он почти сердито, – ты слышишь, никогда не обманывай сам себя, не воображай, что твой собственный ум не может принять такую форму жизни: «Чей угодно ум может там оказаться. Мой – нет». Не будь столь самоуверенным, столь бездумным. Думай головой, осознай уже, что твой ум не стоит на месте, осознай, что он куда-нибудь да направится после смерти, пойми, что, раз умы других попали в эти сферы бытия, значит, и твой ум не застрахован от такой же участи. Ум не кончается. Ум нельзя остановить. Ты не можешь остановить свой ум, даже если бы тебе очень захотелось. Ум должен двигаться дальше, а ты должен помнить, что существуют такие сферы бытия, которых ты себе и в страшном сне не представишь, сферы немыслимого страдания, куда он вполне может попасть.
К концу своей пылкой речи наставник стоял почти не дыша – впервые за эту ночь мне показалось, что его почтенный возраст и зимний холод наконец возымели на него свое действие. Он смотрел на меня, печальный и усталый.
– Ты не должен попасть в эти низшие сферы, я не хочу, чтобы ты туда попал. Раньше мы говорили, что никто и ничто не сможет помочь тебе в момент твоей смерти. Но это не так, ибо тебе поможет знание, тайное знание, знание духовных истин. Этим знанием ты можешь овладеть, и ты им овладеешь. Однако все время вспоминай то, чему я научил тебя этой ночью. Это три принципа смерти: первый, что приход ее неизбежен; второй, что время этого прихода неизвестно; и третий, что ни одна мирская вещь не поможет тебе в твой смертный час.
Перечитывай эту главу, размышляй, медитируя над всем тем, о чем мы говорили, над каждым пунктом, чтобы доказать самому себе неизбежность смерти и прочие связанные с ней истины. Мы называем это памятованием о смерти и медитацией на смерть.
Я говорю все это не для того, чтобы тебя расстроить. У меня нет желания напугать тебя. Назначение размышлений о смерти не в этом. У человека, который ничего не слышал о такой медитации и никогда ею не занимался, есть причина – очень серьезная причина – бояться смерти; в свой смертный час он будет охвачен ужасом. Но если ты научишься этому созерцанию и как следует освоишь его, а потом добавишь к этому умение правильно уйти из этой жизни, то сможешь умереть без всякого страха, в полной уверенности – ведь ты заранее спланировал свое путешествие, ты знаешь, куда идти дальше, ты знаешь дорогу к высшим сферам бытия.
Безжалостный мститель с ножом придет еще до конца этого месяца, чтобы убить своего обидчика. Закрой все двери на замок и готовься; изучай то, что необходимо, и не тяни с этим делом. Начни прямо сейчас!








