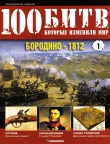Текст книги "Бородино"
Автор книги: Герхард Майер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
И можно было сказать, что ветер время от времени приносит дожди, затяжные дожди, в том числе и на Праценские высоты, от этого памятники покрываются мхом, лишайниками.
А когда снова прояснится, то тут, то там лопаются коробочки мака, семена которого не успокаиваются, пока не породят новые растения с такими же коробочками, и те снова начнут лопаться.
«Биндшедлер, примерно в восьми шагах к югу от могилы Юлии находилась могила Лины. В ответ на предсказание, что они когда-нибудь станут соседками, там, за вязами, они определенно сказали бы: „Невероятно!“ Глядя при этом на Юрские горы, покрытые первым снегом, который, если стоять вот здесь, всегда заставляет меня вспомнить Линду, Ханса, школьную комнату третьего класса, школьный двор с имперским желтым фасадом мебельного магазина, с ласточками в небе; они щебечут, а ветер приносит что-то вроде аромата шиповника. Потом, Биндшедлер, этот фасад стал для меня той самой ареной Ронды, которую испанцы считают не просто национальным архитектурным памятником, а местом, где в восемнадцатом веке был придуман классический бой быков. С тех пор бесчисленные тореадоры на деле доказывали то, что сказал однажды Педро Ромеро, виртуоз этого смертельного ритуала: „Страх наносит больше ран, чем бык!“» – сказал Баур, улыбаясь мне.
Дойдя до асфальтовой дорожки, ведущей к ритуальному залу, Баур остановился, указал на груду убранных могильных камней и сказал: «Там лежит ангел с розой, который был свидетелем того момента, когда прах майора кавалерии; подхваченный ветром, уносило из дырявой урны».
Когда мы проходили мимо дома священника, на память пришел «Художник Нольтен» [16]16
Новелла Эдуарда Мёрике (1804–1875).
[Закрыть], ведь давно было пора его основательно проштудировать. Затем мы свернули на дорожку, которая шла вдоль изгороди, за которой сплошь были неожиданные находки.
«В этом доме около семидесяти лет назад жили мои предки. Так что по этим плитам наверняка проходили и мама, и Гизела, а также Юлия, Иоганна и Бенно.
А там жил кузен Альберт, тот самый, у которого часы. На южном фасаде еще висит табличка с его именем. Сейчас там живет проповедник, у которого, кстати, сын – писатель. В Берлине живет. Мы с Катариной там два года назад были. Ранней весной. Посетили дворец Шарлоттенбург, обедали в зимнем саду, под тихую музыку, перед глазами – вся панорама замка, как у Юлии – все родственники на семейном фото. В павильоне Шинкеля по соседству есть полотна Каспара Давида Фридриха. Так что я первый раз в жизни, нет, второй (первые оригиналы я увидел в Цюрихе на выставке „Искусство из Дрездена“), стоял перед картинами моего любимца. Среди прочих полотен там были пейзажи острова Рюген, невероятная пластика.
Съездили и в Восточный Берлин. Пограничные формальности нас немного смутили, как и гигантский памятник солдату – в районе Кепеника, по-моему. На балконе виллы в стиле модерн, закусывая и глядя на Шпрее, я почувствовал, что смущение переросло в печаль. Незадолго до того я прочитал „Штехлин“ Фонтане, где описана Шпрее и корабли на ней. Кстати, жили мы в Тиргартене, где стоят особняки знаменитых архитекторов. Накануне возвращения, это было чудесное мартовское воскресенье, мы еще раз прошлись по Тиргартену, выпили кофе в уличном кафе, прогулялись в тюльпановом цветнике, разбитом при дворце, где частенько прогуливается федеральный президент, наткнулись недалеко от колонны Победы на монументальные бронзовые фигуры, изображающие кайзера и полководцев, которым довелось выстоять в бойне под Берлином.
С тех пор случается, Биндшедлер, что мне чудится, будто я в Тиргартене, пью кофе, а вокруг зеленеют кусты, и ясное небо висит над кайзером и над полководцами», – сказал Баур. Мы перешли через линию пригородной железной дороги, и Баур показал на какой-то куст, говоря, что это дикая роза. Его взволновало, что в Амрайне, посреди деревни, обнаружился такой роскошный розовый куст. Мол, в вагоне поезда он всегда садится так, чтобы видеть эту розу из окна. А когда куст цветет, то это для него важное событие, ведь, в конце концов, речь идет о той самой полевой розочке Гёте, от которой у гимназисток, говорят, глаза расцветали небесным цветом.
Потом пошли вдоль яблоневого сада, в котором он, Баур, несколько раз сталкивался со своей мамой, а если говорить точнее, то по воскресеньям в январе или феврале, когда деревья подергивались фосфоресцирующим зеленым налетом, дул альпийский фён, солнце ранней весны все это освещало, и яблоневый сад превращался в священную рощу, и в ней из аромата возникала призрачная мамина фигура.
Вот справа дом одного архитектора, отец которого некоторое время был любовником вдовы Альберта Баура. А там – бывшее жилище тети Ханны, недалеко от железнодорожной насыпи, где они с Катариной (это он говорит для Катарины) каждый год собирали летний букет из шалфея, маргариток, скабиозы, герани, эспарцета, но теперь это время позади, весь этот летний сбор, потому что даже вдоль насыпи уже ничего подобного не растет, наверное, из-за ядовитых веществ в осадках.
Остановились на мгновение, обернулись, увидели на коньке крыши, под которой жили когда-то предки Баура, голубей, сидящих ровной шеренгой, на одинаковом расстоянии друг от дружки, и все головки повернуты на юг. Баур заметил, что эти голуби всегда кружат вокруг домов Иоахима Шварца, Альберта Баура и его родственников, и еще обычно вокруг ресторана, где принято справлять поминки.
Ступая по лиловым лужам, прошли через короткий подземный переход, на той стороне стали взбираться вверх по крутой улочке, добрались до отвесной стены основного подземного перехода, за которым приветливо глядело на нас здание магазина «Кооп», чем-то напоминающее корабль – современный, разумеется. Раньше там стояла красная гостиница, магазин промышленных товаров, «Павлин», в котором, одурманенная, сидела дочка хозяина. Молочная лавка потеснила крестьянский двор, где стоял каштан, тень которого ложилась на желтый островерхий фронтон дома, обращенный, в свою очередь, к красной гостинице, дружелюбно глядящей из-за крестьянского сада, который летом заполонен цветущей живокостью, а осенью – георгинами, и с южной стороны которого неустанно журчит вода, вытекающая из деревенского колодца, плеск которой прерывается разве что порывами ветра или жаждущими прохожими. Разумеется, воробьи тоже утоляют жажду именно здесь, хотя поручиться за это было бы слишком смело.
С восточной стороны от этого дома стояло грушевое дерево, очень старое, за ним – мастерская шорника. Между нею и крестьянским двором, чуть сзади, виднелся торговый дом мебельщика, который слегка прихрамывал, много пил, однако мебельную торговлю в руках держал крепко.
Этот мебельный магазин позже перестроили в католическую часовню, но на фасаде, обращенном к улице, до сих пор не до конца стерлись надписи, предлагавшие шкафы, постельное белье, перины.
Итак, в сопровождении неустанного плеска воды гимнасты из Инквила показывали индейские, негритянские и цыганские танцы, а электропианино с правильными интервалами посылало музыкальные звуки вверх, к кронам каштана и груши, пока руководитель группы гимнастов громким распевным счетом сдерживал танцевальные ритмы своих подопечных.
Развернувшись, можно было увидеть старый мост для перехода над путями, дом тети Ханны, подворье у самых путей, затем маленький домик, принадлежащий закройщику, который был заядлым стрелком.
«Биндшедлер, вон там над самым обрывом стоял дом портного, который был еще певцом и орнитологом», – сказал Баур, на ходу подбирая с земли игральную карту – восьмерку.
По пути я смотрел на ту улицу, где мы шли вчера за детской карнавальной процессией. При этом мой взгляд скользил по бывшему мебельному магазину, в котором Бенно покупал свои шкафы.
Баур остановился. «Видишь ли, Биндшедлер, в этом доме живет теперь дочь хозяина „Павлина“. Все елки, которые тут растут, она посадила в один день: в тот самый, когда снесли „Павлина“. Вот так примерно выглядел тот крестьянский дом, который стоял напротив красной гостиницы, во всяком случае, у него была такая же островерхая крыша.
Однажды мы ходили сюда в гости. Был воскресный вечер. Не успел я оказаться в гостиной, как ударил по клавишам пианино, и раздался расплывчатый, не слыханный ранее, но, возможно, давно желанный звук – такой дальний,что ли. И потом, Биндшедлер, я невольно подумал о твоемБолконском, которому впервые только на Праценских высотах открылось небо, величие, тишина, бесконечность звездного неба, – проговорил Баур, почесывая себя за ухом, в этот момент – за правым. – Я окружил этот звук двумя-тремя другими звуками, они шли один за другим. Эти звуки затерялись в комнатных растениях, в портьерах, в безделушках. Так что получилось что-то вроде звуковой картины мира».
Ель зашевелилась. В ее верхушке застрекотала сорока, обратившись в сторону мебельного магазина, а у меня тем временем перед глазами поплыли санкт-галленские кружева, сплетающиеся в цветы, которые не источали аромата, но зато от них исходил удивительный покой, и украшены ими были королевские подушки, что – как говорится обычно в рекламе, – конечно, отнюдь не преувеличение, потому что подушки эти выходят за рамки обыкновенных вещей, это просто-напросто королевское украшение, причем редкие цвета ткани, оливковый и цикламеновый, подчеркивают особенность этих подушек самым отчетливым образом. И я подумал, что в восточнопрусских имениях, конечно, тоже висели занавеси с цветочным узором, которые то и дело пытались упорхнуть, по крайней мере, когда открывали окна или на сквозняке.
«А там еще есть печка в форме скульптуры, которая при желании производит тепло, да вдобавок еще запахи и звуки, и которую при сильном нагревании пронизывает дрожь. Эта печка стояла раньше в пивной, при пивоварне.
На столике у двери лежал том прозы Пушкина. Над пианино висела картина поперечного формата, в черной рамке, изображающая пейзаж, такой мрачноватый, пронизанный ветром. В углу над диваном висели увеличенные портреты хозяев „Павлина“. На внутренней стороне двери бросался в глаза портрет того столяра и члена кантонального парламента, который в соседнем городишке занимался строительным бизнесом и в свое время построил дом Фердинанда в Верденбурге. На этой фотографии топорщились легендарные усы, а сам их владелец смотрел в тот момент куда-то наверх, наверное, на своих столяров.
Так вот, значит, в гостиной стоит еще масляная печка из того ресторана, где обычно справляли поминки, например, после похорон Лины, отца, матери, Юлии, и всегда стол накрывают в малом зале ресторана, перед которым была сделана фотография гимнастического общества, где с западной стороны стоят два каштана, а над входом – балкон все с теми же коваными чугунными перилами, правда, кое-где они схвачены проволокой.
Биндшедлер, когда мы уходили, можно было напоследок заглянуть в сад сквозь кухонное окно. Там видны были березы и орешник. Там были подснежники и белоцветники», – сказал Баур.
По переулку мы вышли на главную улицу и пересекли ее. Баур показал на здание, у восточной стены которого видны были остатки плинтуса и паркета.
«Это дом Линды, знаешь, той самой, у которой отец был пекарь и гимнаст-виртуоз. А видишь беседку? Напротив нее мясная лавка, и там знаменитый разделочный стол из мрамора с золотом», – сказал Баур, сворачивая на улицу, ведущую мимо пожарного водоема. Прошли мимо дома с пристроенной к нему мастерской, где жил один из братьев пекаря – столяр; его четвертый по старшинству сын некоторое время выполнял роль почтальона – между Линдой и отцом. Позже он упал с крыши беседки и разбился насмерть.
На перекрестке остановились.
«Там старая больница, – сказал Баур, – а за ней новая. Посередине – бывший морг, там еще внизу был свинарник. И случалось, что свиньи начинали визжать, когда шло прощание с покойным.
Я вспоминаю, как строили старую больницу. Я даже помогал собирать продукты для прежней деревенской больницы. Она сегодня стоит пустая, то есть не совсем, иногда там военные квартируют, летом обычно там курсы живописи, рисунка, моделирования. Обнаженную натуру пишут в специально оборудованном помещении на чердаке. Там девушки – стоят или лежат. А те, кто их рисует, трудятся над их силуэтами, напоминающими отчасти горные цепи, низменности, тундру. Сейчас стена вся увита диким виноградом, он доползает до самой крыши. Отдельные плети проползают между кирпичей на чердак и потом снова прорастают усами наружу».
В небе кружили два коршуна.
Один из них кричал.
Придя домой, поднялись наверх, где висела гравюра с изображением замка Бехбург, над которым по вечерам распускаются хризантемы.
Катарина принесла суп-лапшу, потом жаркое из говядины, картофельное пюре, овощной салат. Она хитро улыбалась.
«Вообще-то Ханса Бютикофера там тоже не было», – сказал Баур. Я в этот момент как раз приступил к жаркому, перед глазами – заснеженные ели, долина Юстисталь.
В травинках отражался большой участок торговца яйцами.
Катарина принесла кофе.
«У бригадира Ребера доброе лицо старого индейца, – сказал Баур, заставив меня вздрогнуть, и тут же продолжил, назидательно подняв кверху указательный палец: – Биндшедлер, я тут на Рождество книгу в подарок получил, от Катарины, называется Как вздох буйвола зимой [17]17
Т. С. McLuhan. Wie der Hauch eines Büffels im Winter, 1971. Немецкий перевод книги «Touch the Earth: A Self-Portrait of Indian Existence».
[Закрыть]».
Баур принес книгу, показал обратную сторону обложки. Там было написано: «Что такое жизнь? Это свечение светлячка в ночи. Это вздох буйвола зимой. Это маленькая тень, скользящая по траве и исчезающая на закате» (Кроуфут, предводитель черноногих индейцев, незадолго до своей смерти в 1890 году).
Из Амрайна вновь стали доноситься звуки труб, барабанная дробь. Возможно, та парочка с коляской снова в пути, так что имеются субстанции, способные противостоять разрыву времен.
Баур между тем открыл обращение вождя Ситла, произнесенное в 1855 году при передаче своей земли губернатору Стивенсу. Баур читал:
Мой народ стал малочисленным. Он как отдельные деревья на равнине, терзаемой ураганом… Когда-то эта земля была населена нашим народом. Мы подобны волнам взбудораженного ветром моря, пробегающим над усеянным раковинами морским дном. Но то время давно прошло, оно миновало вместе с величием моего народа, которое осталось теперь только в воспоминаниях, наполняющих нас тоской и печалью…
Для нас священны кости наших предков, и место их упокоения – обетованная земля. Вы уходите далеко от могил ваших отцов, и похоже, что уходите без сожаления. Ваша религия начертана вашим богом железными пальцами на каменных скрижалях, ибо иначе вы позабыли бы его законы. Красный Человек никогда не мог понять вас и вашу веру и поэтому не мог чтить ваши заповеди. Наша религия передана нам нашими предками; она живет в сновидениях наших стариков, и великий дух передает им ее в священные часы ночи. Она дает нашим военачальникам силы, чтобы сражаться, потому что она укоренена в сердце нашего народа.
Ваши мертвые перестают любить вас и землю вашего рождения, они становятся чужаками, как только переходят через ворота смерти и уходят странствовать за звездные пределы. Их скоро забудут, и они никогда не вернутся. Наши мертвые никогда не забывают тот прекрасный мир, который дал им жизнь…
Когда последний Красный Человек уйдет и воспоминание о его народе у Белых Людей превратится в миф, невидимые мертвые из моего племени населят эти берега, и если дети ваших детей будут думать, что они одни в поле или в лавке, в магазине или в тишине непроходимых лесов, то на самом деле они будут не одиноки… Ночью, когда улицы ваших городов и деревень молчат и вы думаете, что они покинуты, на них будут тесниться вернувшиеся толпы тех, кто некогда там жил, тех, кто по-прежнему любит эту прекрасную землю. Белый Человек никогда не будет одинок…
Да будет он справедлив и дружелюбен к моему народу, ибо мертвые не бессильны. Я сказал: мертвые? Смерти нет. Есть только смена миров.
Все единодушно решили устроить послеобеденный перерыв, потому что прошлая ночь оказалась для нас слишком короткой, и договорились собраться опять около трех часов.
Я уединился в нижней гостиной. Со стороны Амрайна доносился какой-то треск. Над Юрскими горами тянулись разрозненные облачка. Я пробежался взглядом по их контурам, думая при этом о тех девичьих телах, которые пытаются отобразить любители рисования и живописи на чердаке бывшей больницы каждым летом. Я сказал себе, что Толстой в «Войне и мире» самым проникновенным образом показал, как жизнь, история, течение времени неуклонно продолжаются, даже если преходящие судьбы людей уже свершились. Можно считать, что он показал, как все зарастает травой и как она снова прорастает, эта трава. Наташа, например, вышла замуж за Пьера, это Наташа-то, которая по уши влюблена была в князя Андрея Болконского, перехватившего у убитого адъютанта знамя, чтобы возглавить атаку против французов, Болконского, который позже, в другом сражении – в Бородинской битве – был ранен настолько тяжело, что жить ему оставалось недолго. Та самая Наташа, эта молодая, цветущая, восхитительная женщина, вышла замуж за Пьера, друга Болконского, родила детей, погрузнела, заботилась о своем муже и своих детях, ела суп-лапшу, жаркое из говядины, картофельное пюре, овощной салат, и над русской степью тянулись сезоны летних отпусков, и где-то там в глубине – Москва, которую предварительно сожгли, когда он, героический тенор,выпустил в нее свою армию, в то время как Пьер бродил по Москве и носился с мыслью убить Наполеона. Затем его схватили, после того как он спас ребенка из огня и заступился за русскую женщину, ограбленную французскими солдатами и прилюдно обвиненную на площади. Он был арестован как поджигатель и чуть было не казнен, оказался в отступающем обозе вместе с французскими войсками, ему пришлось перенести немыслимые тяготы русской зимы как военнопленному Наполеона, он был освобожден русскими войсками, вернулся домой, встретил Наташу, женился на Наташе, да, на той самой Наташе, которая потом вместе с ним, Пьером Безуховым, с их детьми и другими среди прочего ела лапшу с блинами, жаркое из говядины и так далее, стала старше, мягче, проще, а тем временем летний курортный сезон…
Из Амрайна доносились удары барабанов и литавр, но появились еще и сигналы трубы, которые все учащались. По-видимому, маскарадная суматоха началась снова, пока ветер бороздил лиловые лужи.
Я подумал: «Может быть амрайнцы затеяли карнавальное шествие по городу? Оно ведь должно проходить по тому маршруту, который обычно использовали золотари Иоахима Шварца». Я представил себе процессию с машинами, украшенными бумажными розами, рисунками, изречениями, персонажами на злобу дня, по следам последних событий.
Я прилег, но заснуть не мог. Я видел, как мы с Бауром стоим за домом, под звездным небом, рассматривая луну, молодой серп, пронзающий пик Гюггель. Я встал, взял альбом репродукций Каспара Давида Фридриха, нашел картину «Ступени жизни», на которой изображено что-то вроде острова мертвых с надеждой на жизнь, узнал ее формат, 72,5 × 94 см, а также местонахождение – в Музее изобразительных искусств в Лейпциге; добрался до картины «Большое поле у Дрездена», где показан момент перехода, перехода от лета к осени, от вечера к ночи, от жизни к смерти; натолкнулся на картину «Вечер на Балтийском море», напомнившую мне мать Баура, которая вот здесь, в углу, где стоит кушетка, провела свои последние мучительные дни, постоянно опекаемая Гизелой, Юлией, Иоганной, которые, стеная, гладили ее руки, а Иоганна в перерывах вставала в позу протеста против смерти. Я вновь переключил свое внимание на голубые, зеленые, бежевые оттенки облаков, в которых мне чудилось спиралевидное движение, рассмотрел два парусника на переднем плане, три-четыре других – на заднем, костер, у которого стоят два рыбака, а справа в море врезается узкий мыс, образуя гавань, в которой встал на якорь один из кораблей. Эта картина, написанная в 1831 году, находится в Дрездене.
Я отложил книгу и стал прохаживаться взад-вперед, причем по тому самому маршруту, по которому за день до этого прохаживался Баур, рассказывая мне о флагах, развевающихся на улицах гарнизонного городка, а самый большой – швейцарский – флаг то и дело вставал по ветру горизонтально. Я попытался представить себе зал, который в его воображении превратился в глыбу льда, с вмерзшими внутрь лицами и фигурами, смотрел, как он непрерывно ест, подумал о Вилли Бютикофере, Пауле Шааде, Иоганне Лемане, которых я очень любил, слышал голос фельдфебеля Крэтли, видел близко лицо бригадира Ребера, которое действительно, особенно в профиль, напоминало лицо индейца (только перьев не хватало, пусть даже это были бы не перья последнего из могикан), решил, что в ходе времени есть нечто сюрреалистическое, а еще сообразил, что Баур в те далекие времена вполне мог садиться на придорожный камень и сидеть там дни, недели напролет, чтобы уловить этот ход. Я встал у камина, перенес тяжесть тела на левую ногу, скрестил руки на груди, направил взгляд на одну точку в саду, попытался представить себе Гизелу, Юлию, Иоганну на общем семейном фото, но одновременно еще и пятилетнего Баура, и Филиппа, и Бенно, и Фердинанда; увидел, что мать Фердинанда держит в руках розовый бутон, мать Баура – распустившуюся розу, Юлия – букет роз; на мгновение задержал взгляд на отцовской стрижке ежиком; сказал себе, что из этих людей остались, собственно говоря, только Баур, Гизела, Иоганна, создавая теперь для меня тот самый фон, который некогда виднелся за спинами этих людей на фотографии.
Я отошел от камина и со скрещенными руками стал ходить взад и вперед, всякий раз видя впереди за окном ветку форзиции, на которой теперь появились отдельные цветки.
«Придуманное Карлом (Марксом), возглавленное кастой интеллигенции (во всяком случае, на Западе), продвигающееся в направлении рая шествие, Биндшедлер, напоминает мне вчерашнюю процессию под предводительством внука вдовы столяра, человека с барабаном и в полумаске, который – когда пришел – прислонился к каштану, взглянул на сияющий день, полный запахов карнавала», – сказал Баур, щелкнув пальцами, большим и безымянным.
По большому участку торговца яйцами прогуливалась ворона, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, клевала что-то, поглядывала вокруг, опять клевала, потом взлетела – и опустилась на яблоню в том месте сада, где Баур когда-то наткнулся на необыкновенно крупные незабудки.
Конечно, многие на Западе знают, сказал я, вспомнив рассказ одной полячки, что жизнь при коммунистах была не сахар. Но истинную меру этого несчастья представить себе невозможно, потому что самоотречение и нужду мы измеряем по своим западным масштабам. Например, люди по десять, по пятнадцать лет добивались, чтобы им дали квартиру, а тем временем ютились в тесной квартирке еще с несколькими семьями. Царила постоянная нехватка продовольствия. Что-то купить означало отстоять очередь – занимали с трех часов утра, невзирая на дождь и снег. А если посчастливится что-нибудь купить, то уж запасались сразу основательно, чтобы потом произвести обмен с друзьями: сигареты на туалетную бумагу, шампунь на сыр – это была борьба всех за все. Не хватало школ, учителей и материалов. Ученики последней смены возвращались домой в девять часов вечера. С другой стороны, было слишком много людей с высшим образованием. На вступительных экзаменах в университеты дети рабочих и крестьян пользовались льготами – шла скрытая дискриминация интеллигенции. Членство в партии, взятки и связи – вот что определяло профессиональное продвижение. Каждого могли уволить без объяснений. Социального обеспечения не существовало. Безработному приходилось полагаться на свою семью и друзей. Для поступления на новую работу требовалась характеристика от начальника с прежнего места работы. Все руководящие посты занимали только партийные.
Все знали, что все будут получать равное количество злотых вне зависимости от того, делают они что-то на работе или нет. Зарплата не зависела от достижений. Кроме того, рабочий знал, что его труд изначально не имеет никакого смысла – потому что продукция выпускалась без учета рыночного спроса или потому что товар испортится раньше, чем дойдет до рынка. Предприятиям между тем предписывалось выполнение заранее невыполнимых пятилетних планов. Вследствие этой клоунады халатность расцветала пышным цветом. Деморализация такого рода – неизменная составляющая коммунистического общества… Между тем ворона снова слетела на землю, что-то клевала, глазела, сделала несколько прыжков, опять посмотрела вокруг – и улетела в направлении Юрских гор.
«Биндшедлер, мне кажется, нас сегодня не столько беспокоят общественные проблемы, сколько вакуум бездуховности, который увлекает нас, что называется, на край космической пропасти», – сказал Баур с улыбкой. Я предложил обратиться в качестве примера к финалу Четвертой симфонии Шостаковича, которую он, впрочем, запретил исполнять в декабре 1936 года, незадолго до премьеры, как написано на конверте к пластинке. О решении композитора не допускать эту вещь до исполнения существует много домыслов. Лишь четверть века спустя, 30 декабря 1961 года, измененную версию симфонии все-таки исполнили. Среди сочинений композитора Четвертая во многих отношениях является кульминацией. Согласно партитуре оркестр должен состоять более чем из ста двадцати человек. Умелое вовлечение композитором такого огромного числа исполнителей достойно восхищения. Только после знакомства с посмертно опубликованными воспоминаниями композитора раскрывается противоречие между неистовым, почти невротическим беспокойством, с одной стороны, и глубокой меланхолией – с другой. Чтобы в полной мере ощутить стереоэффект, мы расположились в середине гостиной. Баур сразу вручил мне фотоальбом «Древнерусская архитектура» со словами, что у него заведено воскресными вечерами, когда он слушает Шостаковича, листать этот альбом, открывая его в определенных местах, поэтому теперь он воспринимает Шостаковича и эти строения – вместе с пейзажем, разумеется, как нечто неразделимое.
Вот и я открыл фото «Вид на купола церкви Преображения Господня и Онежское озеро». Вступил фагот – после громкого зачина. Кресты отбрасывали тени на купола, которые на протяжении столетий переносили холод и жару, дождь и снег. Онега была неспокойна, окрашена синими тонами, пестрела островами, а по небу плыли летние облака, легкие, белые. Ударили колокола, зазвучала их перекличка, и в ответ запел ветер, зашумел в кронах деревьев. Вступили басы, за ними – высокие голоса скрипок, но вот и Наташа, и князь Андрей, вместе в одной лодке, которая плывет к острову. Наташа положила ногу на ногу, руки на коленях, она смотрит на остров, с которого доносится шум. Блузка облегает грудь. Князь Андрей смотрит то на одно, то на другое весло, потом снова на купола церкви Преображения Господня.Временами весло у него повисает горизонтально над водой, а он смотрит на облака, которые равнодушно плывут мимо, словно газовые платочки, только не развеваются на ветру.
В это небо вписана история России: ее морозы и пожары, победы и поражения. Лодка пристала к берегу, мягко воткнувшись в песок. Князь Андрей оставил весла, снял ботинки и носки, закатал штанины, перенес Наташу на берег.
Наташа засмеялась, склонилась над песчаной лилией(во всяком случае, этот цветок походил на лилию, хотя бы верхушкой, потому что листья скорее напоминали остролистный падуб), держа лилию в руке, указала на заросли шиповника у кромки леса, потом – на церковь Преображения,деревянную дранку которой уже было не разглядеть, повертела стебель лилии между большим и указательным пальцами, а блузка ее трепетала на ветру; и коршун, который давно уже кружил между островом и церковью, взмыл и там, в вышине, в пространстве, где не было облаков, парил, превратившись в маленькую лежачую восьмерку.
Князь Андрей повернулся к Наташе, погладил ее по щеке. Песчаная лилиявяло повисла на фоне Наташиной черной юбки. Коршун камнем упал вниз, схватил рыбину, которая блеснула в его когтях.
Наташа и князь Андрей шли к опушке леса, прошли сквозь перелесок и оказались на лугу. Луг пестрел маргаритками, геранью, скабиозами, шалфеем. Бабочки садились на цветы, качались на них, отталкивались лапками и взлетали вверх, особенно много было белых.
Наташа легла на мундир Андрея и закинула руки за голову. Андрей, опираясь на локоть, гладил Наташину шею и подбородок. В глазах Наташи стояли облака. По травинке взбирался муравей. Травинка склонилась к земле. Муравей переполз на лист земляники и исчез под ним.
Князь Андрей вскочил, зашагал к лесу, наклонившись, сорвал лисичку, рассмотрел, понюхал, стал прислушиваться к ветру, который гулял в вершинах деревьев.
Возвращаясь, Андрей раздавил ножку гриба между пальцами, подбросил шляпку левой рукой, пнул, как мячик. Запах гриба распространился вокруг. Наташа поднялась и все смотрела на лес, не замечая, впрочем, ни бабочек, ни шума деревьев.
На песке Наташа обнаружила еще одну лилию, заглянула в венчик. Андрей писал что-то на песке. Ветер тем временем поутих.
Они сели в лодку. Блузка трепетала на ветру, но совсем чуть-чуть. Наташа опустила правую руку в воду и так держала ее некоторое время. В воде стеклянным подвижным отражением стояла церковь Преображения.Наташа представляла себе свадьбу и поклялась, что еще много раз будет плавать на лодке по Онеге, летом, когда цветут песчаные лилии…
Я читал у одного туриста, говорил я по дороге на вокзал, что поле Бородинской битвы сплошь покрыто памятниками. Есть там и Музей воинской славы. В музее с потолка свисают русские полковые знамена с двуглавым царским орлом. Знамя 8 -го полка императора Наполеонаразвернуто в особой витрине. Там выставлены мундиры и множество оружия. Можно увидеть карманный компас маршала Нея, столовый прибор Кутузова, его четырехместную коляску. Панорама поля битвы прежде всего поражает невероятным множеством задействованных войск. 26 августа 1812 года в Бородинском сражении участвовало на треть больше солдат, чем три года спустя в битве при Ватерлоо. Школьников, которые приходят сюда целыми классами, подводят к сцене, и, когда поднимается занавес, можно увидеть в действии напичканный артиллерией редут Раевского: клубится пороховой дым, из стволов орудий вырывается огонь, слышен оглушительный грохот битвы. Меньше удалась музейщикам увязка сражения 1812 года против Наполеона с боями 1941–1942 годов против немцев в той же местности. В витрине были выставлены искореженные немецкие стальные шлемы, пулемет, унтер-офицерские погоны, железные кресты.