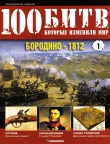Текст книги "Бородино"
Автор книги: Герхард Майер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Герхард Майер
Бородино
Роман
«Я не хотел отвечать, Биндшедлер. Потом пришло повторное приглашение. Речь шла о юбилейной встрече. Мобилизовали нас как раз сорок лет назад. Многих и в живых-то уже нет. А встретимся еще раз, годика через три, допустим, так еще меньше останется…» – сказал Баур, шагнул к окну, вернулся к камину, опять к окну, заметил паутинку на ветке форзиции, вновь встал у камина.
«Значит, надо встрепенуться, надо включиться в процесс, освободить 11 ноября, оценить возможность поддержать отношения с друзьями, обменяться воспоминаниями.
И ровно в тот день, Биндшедлер, то есть именно когда была встреча, небо прояснилось. Установился восточный ветер, чем-то вроде запаха истории повеяло над местностью, и понеслись звуки труб, правда, неслышные. Настал ясный день», – сказал Баур. Он притулился к керамической облицовке камина, которая спереди, над топкой, образовывала каминную полку, где стояли три фарфоровые подставки, в двух торчали огарки свечей, в средней свеча полностью догорела.
Солнечные пятна на персидском ковре тем временем слегка побледнели.
«11 ноября я довольно рано прибыл в гарнизонный город. Стал слоняться вокруг техникума (ты же в курсе, я там высотному строительству обучался). К круглому фонтану отправился, к тому, который позади Липовой рощи. Погрузился взглядом в окно гимназии по эту сторону рощи, в котором, как нарочно, отражалось небо. Напомнил себе, что за таким же точно окном наверняка то и дело декламируют стихи, в том числе хрестоматийный стишок Гёте про розочку, и смотрят в глаза гимназистки, отражающие небо, небо над пустошью, где росла та самая розочка», – сказал Баур, заложив руки за спину и уставившись в какую-то точку в глубине сада.
«А потом, Биндшедлер, я зашагал по направлению к Городскому дому – месту нашего заседания. Дойдя до него, я развернулся и вновь направился к техникуму. Не без труда разминулся с целым отрядом бывших. Пересек кампус Высшей технической школы. Пошел своим когда-то обычным маршрутом, когда на переменках гулял. Но обсерватории по пути уже не встретил. Приблизился к вилле торговца сырами. Перед нею встал надолго. Полностью погрузился в мир фонтанов, с трех сторон окруженных фигурами Серебряного века. Лестницу обрамляли каменные ангелы, и я переводил взгляд с одного на другого.
Подумал о как минимум пятидесяти летних курортных сезонах, которые эти ангелы здесь выдержали, не состарившись и даже поз своих не поменяв», – сказал Баур, слегка скрестив ноги.
Я подумал о княжне Марье, о том месте из «Войны и мира» Толстого, где она решается отправиться в странствия. Потом перед глазами поплыли Праценские высоты, где князь Андрей Болконский (ее брат) лежал, истекающий кровью, сжимая древко знамени. И где он впервые в жизни обратил внимание на небо, на высоту, тишину, бесконечность небесного свода. Где он лежал, освободившись от страданий, желаний, надежд, открытый таинствам этого мира.
Я сидел нога на ногу. Смотрел через окно вдаль. Потом стал наблюдать за Бауром, который в данный момент ходил взад и вперед, то и дело посматривая за окно на ветку форзиции, которая вот-вот распустится.
«Когда я вернулся обратно к Городскому дому, Биндшедлер, туда как раз входила группа бывших. Я опознал только одного: Эрнст Шютц, ну помнишь, с которым мы еще вместе школу рекрутов заканчивали.
Поздоровались.
Я стал прикреплять юбилейный значок на воротник с левой стороны. Шютц мне помог. Кто-то протянул мне руку, представился, назвал меня по имени.
„Да-да, привет, Шаад“, – сказал я с радостной улыбкой, а про себя подумал: как бедняга изменился!
Вошли в холл гостиницы. За столиком сидел Фриц Цуллигер, он раздавал пригласительные билеты – за деньги. Фурье стоял рядом с ним, наш любезный служака из третьего полка. Он постарел. Носил усы.
Стояли все вместе, одной толпой.
Привыкали к именам.
„Фриц Хабеггер здесь?“ – спросил я. Мне сказали, что он уже внутри. И ротные пришли, и командиры взводов, вахтмейстеры, капралы, и майор Босхардт – тоже.
Пошли наверх в парадный зал. Столы были составлены в четыре ряда. Впереди – площадка для оркестра. На возвышении – стол в торце наших рядов, там сидели начальники. Третий взвод расположился за столами вдоль окон. Командир взвода Маттер пришел, вахтмейстер Эггер, Яун из стрелковых частей, который, казалось, пережил десятилетия, словно ангелы торговца сырами. С краю за столом обнаружил Фрица Хабеггера. Поздоровался. Подошел к нему. Положил ему руку на плечо. Сказал: „Фриц Хабеггер, стоит мне завести речь про действительную службу, как ты тут же приходишь на ум. Я говорю тогда, что вот тебя-то я бы без проблем всегда узнал, и ночью, и в лесу, и в любом другом месте, да на любом расстоянии, ей-богу. Всегда бы узнал тебя по бряканью котелка, по шагам или по кашлю. Да-да, ей-богу!!“
Хабеггер посмотрел на меня… Произнес: „Я тебя не знаю“.
Оркестр заиграл марш.
Фельдфебель Крэтли изображал бурную радость по поводу того, что собралось (последовало зову) так много бывших (168, по моим подсчетам). Он поприветствовал офицеров: капитана Ребера (теперь он – бригадир-полковник), капитана Амманна (теперь – подполковник), майора Босхардта (теперь он – полковник). Командир полка явился позже, высокий, худой, старый-престарый полковник Бахман, который когда-то принимал у нас присягу на пехотном полигоне. У него утром встреча была с однополчанами еще с Первой мировой», – сказал Баур и принялся прохаживаться туда-сюда.
«Биндшедлер, прекратив обороняться, мы дни напролет отступали на запад, шли ночами. Вдали громыхала гроза. „Они стреляли из Толстой Берты (гигантская немецкая пушка времен Первой мировой войны)“, – сказал я.
Пулеметчик Зуттер расслышал что-то о „толстых“ ружьях. И с тех пор его легкий пулемет стали называть толстым», – сказал Баур, прислонясь к камину.
Перед глазами у меня замаячили цепи гор, над которыми бушевала гроза. Я сказал Бауру, что у меня в памяти тоже запечатлелось то недоразумение во время ночного марша. И что пару лет назад я снова прошел весь тот маршрут.
«Итак, фельдфебель Крэтли выступил перед нами с приветственным обращением. Стали подавать еду: суп-лапшу с блинами, жаркое с картошкой, овощной салат. Лейтенант Маттер заказал красное вино. Ели. Чокались. Пили.
Биндшедлер, а для меня весь этот зал превратился в одну ледяную глыбу, в которую вмерзли лица, фигуры. Причем лед этот не казался местным, из наших ледников, это был лед русской тундры.
И с каждым взглядом, с каждым куском жаркого, с каждым глотком красного вина ледяная глыба подтаивала. Чем больше глотаешь картошки и мяса, тем отчетливее, тем живее, тем достовернее становятся люди за четырьмя столами.
Так что я лопал без остановки.
Таяние льда сопровождалось какими-то особенными звуками, какой-то свист воздуха, что ли, слышался, ветерка, гулявшего по каменоломням, где, бывало, упражняешься, занимаешься самоподготовкой, а от границы в это время доносится рокот орудий», – сказал Баур, опять уставившись в какую-то одну точку за окном, закинув руки за спину. Солнечные пятна тем временем уже немного сдвинулись. «Биндшедлер, мне не хватало Вилли Бютикофера, дояра из Винигер-Берге. Йохана Лемана мне не хватало, смешливого батрака из Эмменталя. Пауля Шаада, изготовителя циферблатов из Верденбурга, – мне даже показалось было, что я с ним поздоровался, – не хватало тоже. И еще много кого», – сказал Баур.
Я посмотрел в окно, за большой выгон, принадлежавший торговцу яйцами. Увидел, как Наполеон смотрит за Неман, в подзорную трубу, разумеется, используя пажа в качестве штатива. Утверждают, мол, Наполеон решил, что видит вдали русские степи, посреди которых и находится Москва. Какой-то уланский полковник, поляк, в безумном порыве воодушевления от присутствия Наполеона, ринулся со всем своим отрядом форсировать реку, и во время переправы сорок уланов из пятидесяти утонули вместе с лошадьми. Говорят, что Наполеон, не очень-то одобрив в целом этот показной героизм, позже наградил полковника орденом Почетного легиона – легиона, которым распоряжался лично. «Солнце сияло по-прежнему, хотя оно и было холодным, если можно так выразиться. Во время передышек, когда не надо было напрямую контактировать с ледяной глыбой (в которой происходили упомянутые изменения, сопровождаемые теми звуками), я смотрел в окно, где в поле моего зрения попадали, по крайней мере, три или четыре флага, висевших над улицей на натянутой веревке. Их трепал легкий восточный ветерок. Они были исполнены благородства и словно погружены в размышления, исторического толка, разумеется, – причем один из них, самый большой, флаг Швейцарской Конфедерации, вытягивался по ветру и реял почти горизонтально, потом опадал и начинал трепетать.
И я тогда подумал, слышь, Биндшедлер: „Вот они, флаги-то…“»
«Помнишь, как Болконский пошел со знаменем в руках навстречу французам (неважно, что знамя было не швейцарское), когда его земляки уже побежали от французов, и он практически остановил это бегство, бегство, которое разворачивалось прямо на глазах главнокомандующего Кутузова на Праценских высотах», – произнес я, прерывая Баура. Я уже не сидел, закинув ногу на ногу, я оперся на руки, готовясь вскочить, но все же остался сидеть.
Баур улыбнулся, посмотрел прямо перед собой.
«Да! Стало быть, там, в том зале, мне суждено было наблюдать практически воскресение из мертвых, овеваемое воздухом каменоломен, а на улице развевались флаги, благородно паря над домами на летнем курортном ветру», – промолвил Баур, снова скрестив ноги. Те самые ноги, которые, можно сказать, носили бравого пехотинца Баура вокруг всего света.
Баур подошел к окну, указал на ветки форзиции со словами: «Еще два-три дня, и они распустятся, я имею в виду – цветы. Я так рад, честно. Я люблю форзицию, она вся желтая такая. И знаешь, ветки, когда цветут, покачиваются так иногда, совсем как флаги».
У меня перед глазами снова встал Неман, за которым громоздились башни облаков, словно кто-то ставил театральные декорации, ожидая выхода героического тенора.
«Да, Биндшедлер, и тут как раз прибыл председатель городского совета. Он попросил чашечку кофе, за счет города, разумеется. Фельдфебель Крэтли сказал, что дождевая вода стекала за воротник офицерам. И что тем не менее целая группа стрелков (Фриц Цуллигер, еще трое и он, Крэтли) стреляли так метко, что завоевали штандарты. И он специально съездил в Лис эти штандарты забрать, чтобы они украшали нашу сегодняшнюю встречу. Вот, вывесил их здесь, стрелковые штандарты. А борьба была нелегкая. Но как бы то ни было, они победили. И лицо Цуллигера сияло. А фельдфебель словно куском подавился. Потом началось поминовение павших.
Фельдфебель Крэтли сказал, что шестьдесят пять наших товарищей (если я не ошибаюсь) оказались призваны в Великую армию усопших.Некоторые из них отправились туда еще во время действительной службы (кое-кто – по собственному почину, как тебе известно, Биндшедлер).
Он зачитывал погребальный список: Шаад Пауль… Бютикофер Вилли… Леман Йохан (который вроде, говорят, повесился)…
По сигналу Крэтли сто шестьдесят восемь человек встали, чтобы почтить память умерших.
Издали зазвучало „Мы шли под грохот канонады…“ в исполнении трубача, которого Крэтли, по-видимому, укрыл где-то позади зала, в коридоре», – сказал Баур, на ходу трижды хлопнув в ладоши, одарив меня улыбкой, которая затем исчезла с его лица.
«В четыре часа дня (по-моему, так) мемориальное заседание горной стрелковой роты было объявлено закрытым. В головах бродило вино. На улице еще светило солнце. Над улицами реяли флаги.
Я распрощался с товарищами из третьего взвода, с лейтенантом Маттером, впоследствии командиром полка; с капитаном Ребером, который позже стал бригадным офицером и, между прочим, выступил с докладом об обеспечении своевременной боеготовности, классный был доклад, кстати, если сравнивать с отдельными формулировочками фельдфебеля Крэтли, которые порой то в краску вгоняли, то в обморок – внутренне, конечно. Я попрощался и с Бахманом, этим длинным, худым, старым полковником. Упомянул к случаю, что когда пришел на встречу, то спрашивал, жив ли еще старина Бахман. Причем добавил тогда, что годика два назад вроде бы видел его издалека в Берне, но, правда, не поздоровался с ним. Офицер на входе заверил: нет-нет, Бахман давно умер.
Бахман разулыбался.
„Вот вам мой приказ, – сказал он, – в следующий раз подойти и поздороваться. Тогда мы с вами выпьем вместе чашку кофе или бокал вина“.
А организаторов, Биндшедлер, я проигнорировал, включая того самого вахтмейстера, которой отправил нас обоих через ледник Алеч без страховочной веревки.
Я его недавно видел на рынке. Он продавал какой-то женщине ветку форзиции».
Баур стоял у камина, неподвижно уставившись в одну точку в саду. Я сказал себе, что мы не виделись уже два с четвертью года со времени нашей прогулки по Ольтену; и что в Амрайн я, собственно говоря, приехал впервые в жизни; что, вполне возможно, мне (думал я, сидя на стуле, закинув ногу на ногу) суждено было находиться ровно в том месте, где в свое время стоял Баур, держа в руках коричневые полуботинки, а это, в свою очередь, напомнило Меретлайн – правда, та вместо полуботинок держала в руках череп ребенка и белую розу.
Ушли из гостиной, отправились в бывшую столовую, где раньше висела картина, изображавшая двух охотников во время утиной охоты, в тот момент, когда собака рвалась с поводка, поднятая выстрелом, второй охотник, не удержавшись, опрокидывался назад, падая из лодки в воду, утка падала вниз, а тот первый, с ружьем, покатывался со смеху, наблюдая всю эту сцену. Мы пошли наверх обедать, чтобы потом, после обеда, успеть поглазеть на детский маскарад.
Пройдя вперед, до поворота дороги, вспомнили о лепестках цветущей вишни, осыпавших траурную процессию. В привокзальном переулке помянули кузину Баура Иду, которая, заглядевшись на какого-то мужчину, неловко повернулась да и упала. Прошли через привокзальную площадь и, взглянув на пути, увидели другую кузину, Мину, которая стояла у окна вагона и с улыбкой приветствовала родственников, что могло создать в душе Баура впечатление, будто Мина только для того и родилась на свет, чтобы проездом через Амрайн поприветствовать своих родственников.
Всюду на привокзальной площади были разбросаны конфетти, преобладали лиловые, напоминая плац гимнастического союза, обсаженный отцветающими вишнями – японскими, конечно. Солнечный свет был белесого оттенка.
Мы прошли через подземный переход под железной дорогой. Стали попадаться первые детские маски. Баур сказал: «Ты знаешь, на карнавале, особенно в первые дни, время словно хочет закончиться. И мне кажется, что детские маски, особенно белые, с бубенцами на костюмах, способствуют тому, чтобы этого не случилось».
Ребенок в маске, которого вела за руку мама, нес трещотку, но вертеть ее был явно не в состоянии. Над нами взлетела целая стая голубей. «Биндшедлер, вон там ресторан, где обычно справляют поминки после похорон одноклассников, едят копченую колбасу и хлеб, пьют вино. И где на следующий день, ты ведь помнишь, остатки этой трапезы еще раз всплывают, рядом, в канализационной канаве. А напротив стена с плакатами, навевающими разноцветные партитуры греческих скал, от которых вздымается эгейский ветер, приносящий стрекот цикад», – говорит Баур.
Ребенок в маске перед нами отпустил руку матери, переложил трещотку в правую руку, стал ею размахивать. Вновь появилась стая голубей, на этот раз они полетели на восток. «Вон там жил Иоахим Шварц, ну тот, помнишь, который дерьмо из туалетов откачивал», – сказал Баур. Я глянул на этот двор, на каштаны, на то место, где стоял дом. Ребенок по-прежнему крутил трещотку. Я подумал, что в следующем доме жил майор кавалерии. И правда, западная стена походила на бугорчатый ковер, словно делящий фасад на лоскуты, за которыми рождались, жили и умирали – иногда и насильственной смертью.
«И ты знаешь, Биндшедлер, когда я вижу такую вот детскую колясочку на высоких колесах – вся белая, обода деревянные, – я невольно начинаю подозревать тут астральные субстанции, которые явно свидетельствуют, что прервалась нить времен», – сказал с улыбкой Баур, указывая на супружескую пару в масках и с коляской, только что свернувшую налево, за угол, и там, сразу за поворотом, приятели обнаружили целую толпу детей в масках, образовавшуюся перед рестораном «Медведь». Кто-то из масок уже прилип к игровым автоматам в ресторанном садике, другие гудели, визжали, швыряли конфетти.
«Этот ресторанный балдахин – видишь? – расписывал мой бывший одноклассник, Георг, он сейчас в Австралии живет», – сказал Баур. Посмотрели на балдахин.
Я вдруг увидел князя Андрея, как он, тогда, вечером 25 августа, лежит, облокотившись на руку, в разломанном сарае, на краю расположения своего полка, и в отверстие сломанной стены смотрит на стоящую у забора березу с обрубленными нижними сучьями, и размышляет о своей жизни, которая представляется ему тесной, тяжкой и никому не нужной [2]2
Л. Н. Толстой. Война и мир. Т. 3, гл. XXIV.
[Закрыть]. Мне вспомнилось, что он, тем не менее, так же, как и семь лет назад в Аустерлице накануне сражения, чувствовал себя взволнованным и раздраженным; что его, князя Андрея, мучили в особенности три главных горя его жизни: утрата Наташи, смерть отца и французское нашествие на его страну. Я припомнил тот момент, когда князь Андрей, выпроводив всех своих посетителей (несколько офицеров и Пьера), вернулся в сарай, лег, растянувшись на покрывале, но не мог уснуть. Одни картины в его воображении сменялись другими, и на одной из них он надолго остановился. Когда Наташа однажды вечером в Петербурге рассказывала ему, как она минувшим летом, пойдя за грибами, заблудилась в большом лесу. И как она несвязно описывала ему и глушь леса, и свои чувства, и разговоры с пчельником. И как она, всякую минуту прерываясь, говорила, что не может рассказывать, что она рассказывает не так, что он ее не понимает. И как он, князь Андрей, всякий раз уверял, что прекрасно ее понимает. И как он действительно понимал все, что она хотела сказать. Больше того, именно эту-то силу и открытость душевную он и любил в ней, искренность души, которую как будто связывало тело [3]3
Л. Н. Толстой. Война и мир. Т. 3, гл XXV.
[Закрыть].
Баур потянул меня в сторону. Я огляделся. Суматохи вокруг прибавилось. Я сказал, что меня только что посетило видение при виде того расписного балдахина: я воочию наблюдал, как Наташа рассказывает князю Андрею о случае в лесу, когда она собирала грибы. Баур расхохотался. Кругом свистели, вопили, трещали. На деревьях болтались бумажные змеи. Парочка с коляской остановилась немного поодаль. В юго-восточном углу ресторанного садика на мачте вяло шевелился флаг. Статуя сирены на крыше пришкольной постройки походила на гриб.
«Биндшедлер, смотри, вот там, на первом этаже, был парикмахерский магазин, – сказал Баур, указывая на дом напротив. – Хозяйничал в нем долгое время один автогонщик по имени Кепеник, курил как паровоз. На затылке у него вечно были фурункулы. Прямо над ним жил Бенно, мой родной брат, он тогда на металлургическом заводе работал, гимнастикой увлекался, а летом все по грибы ходил.
Бенно жил в постоянном страхе, что жена его обманет; например, вернувшись домой, он тайком шарил в платяном шкафу или вызывал специального агента, чтобы при свидетеле поймать свою Розу с поличным. А в свободное время ходил за грибами и больше всего любил лисички собирать. Я иногда ходил с ним за компанию, с превеликим удовольствием. И когда я сегодня вижу лисички, ну, скажем, на базельском рынке, перед глазами сразу встает моя мать, которая склонилась над плитой, трещат в топке дрова, а она помешивает в сковородке лисички, и запах жареных грибов, наполняя дом, опять-таки напоминает о Бенно, который хотел поймать Розу с поличным. Вот так оно и идет все по кругу, Биндшедлер», – добавил Баур. Возникло такое чувство, что нить времен все-таки не порвалась, вернее, что опасность разрыва миновала. Но, с другой стороны, мгновение стало восприниматься как нечто долговечное.
Под ресторанным балдахином маски кружились в хороводе, съезжали с горки, размахивая трещотками и бумажными змеями. В магазине напротив – ну там, где раньше заправлял своим парикмахерским салоном Кепеник, висели в витрине модели самолетов и громоздились картонные коробки. Япопытался представить себе, как выглядел этот самый Кепеник, заядлый курильщик с фурункулами на затылке, и решил, что у него наверняка была привычка носить шейный платок, даже за рулем гоночной машины.
«Биндшедлер, видишь вон того барабанщика? Я ведь его еще раньше спросил, умеет ли он вообще барабанить. Он с улыбочкой кивнул. Сдается мне, он забыл, что маску на лицо напялил, смотри, груша вместо носа. Этот парень, лет ему вроде около сорока пяти, он внук вдовы столяра, мы с Катариной ее время от времени навещали, ходили к ней в этот столярский дом, и там, на парадной половине дома, в гостиной, висела ее свадебная фотография, под которой она обычно в кресле сидела, и эта самая фотография с каждым разом темнела, деталей уже было не разобрать. Он на складе работает, этот внук, на штабелере ездит. Жена от него сбежала. Дети тоже куда-то подевались. А живет он ровно там, где раньше скорняк жил, который, к слову, тоже работал на металлургическом и гимнастикой увлекался, и в детстве я ему все кроличьи шкурки таскал и всякий раз боялся, что они ему не сгодятся.
Для внука вдовы столяра это великие дни, Биндшедлер, дни карнавала-то. В Амрайне всегда бывали люди, для которых карнавал – главное время. Люди, которые исключительно в такие дни и становились, собственно говоря, понятны другим», – сказал Баур.
Человек этот как раз тут и начал барабанить. Дети в масках выстроились в колонну следом за ним. Сразу вспомнился гамельнский крысолов. Пошли за ним на некотором расстоянии. Последними в карнавальном шествии шагали наши старые знакомые с детской коляской, у которой, судя по тихому покачиванию, обода были кривые. На площади перед «Медведем» кругом виднелись лиловые лужи. Ветер то и дело спускался вниз с балдахина и бороздил эти лужи.
Перед моими глазами встала Наташа, как она вместе с братом и дворней ехала в маске на санях к дяде в соседнее имение, участвовала в охоте на волков, и с охоты ее встречала балалайка. Оказалось, что это – распоряжение дяди, всякий раз встречать охоту балалайкой, а слуга-балалаечник сидел в охотнической.
Детская карнавальная процессия миновала бывшее подворье майора кавалерии, прах которого, говорят, был развеян из дырявой урны по ветру в буквальном смысле этого слова. Прошла мимо бывших угодий Иоахима Шварца, которые прежде тоже находились по ту сторону местной речки, текущей сейчас где-то под тротуаром. Оставила слева ресторан, где Баур с одноклассниками в память о погибших школьных товарищах вкушали копченую колбасу с красным вином и хлебом. У края дороги, в ветвях, извивались бумажные змеи. Конфетти продолжало сыпаться прохожим в лицо или за шиворот. Парочка с коляской немного подотстала. Слышался как будто скрип колесных ступиц. Многие дети сдвинули свои маски на затылок, и казалось, что они пятятся задом. Барабанщик во главе колонны вовсю обрабатывал, обстукивал пластиковую мембрану. Глядя на стену, увешанную плакатами, я попытался представить себе белую детскую маску с бубенчиками под костюмом, которой приходилось в одиночку шагать по Амрайну, потерявшись под вечер первого дня карнавала. Именно в этот момент опять показалась стая голубей, летящая на запад. Через несколько минут голуби пересекли детскую маскарадную процессию в восточном направлении. Пройдя через подземный переход, вышли на площадь, на которой рядком стояли сплошные магазины. Здесь барабанщик остановился. Море масок заполонило площадь. «Вон там, Биндшедлер, стояла красная гостиница, ее потом снесли! – сказал Баур, кивком головы указывая на торговый центр „Кооп“. – В красной гостинице была штаб-квартира духовой музыки. Слышишь, Биндшедлер, по весне, когда ее снесли, окрестные каштаны ночи напролет проводили в сомнениях, растить ли им и нынче из своих почек новые голубиные крылья. А осенью, когда они все-таки вырастили из почек листья, они лежали, сброшенные, голубым эхом – подобные мертвым птицам». Баур улыбнулся, провел рукой по лбу. Над торговым центром стояло белое облако. Я перенес тяжесть тела с правой ноги на левую, прислушался к трещоткам, трубам и тамбуринам.
«Красная гостиница была построена в конце того века, типичный фин-де-сьекль. Вход в ресторан, пара ступенек наверх, располагался на северо-западном углу. С восточной стороны к гостинице был пристроен мясной магазин, собственно, филиал конторы Иоахима Шварца. Дальше шла еще одна пристройка, универмаг, теперь все это как раз и называется „Кооп“. Там работал один управляющий, он еще фигурирует на снимке с гимнастами, который висит у моей дочери над столом, ну, ты знаешь, тот самый снимок, который под определенным углом зрения отливает перламутром, а сделано фото перед пивоварней. Раньше здесь главная улица проходила, потом вела через железнодорожные пути, и, стоя перед барьером, когда опускался шлагбаум, можно было причаститься колбасному магазину, впрочем, только вприглядку, через сетчатку, – тому самому колбасному магазину, владелец которого одним из первых в Амрайне завел себе автомобиль, причем не обыкновенный какой-нибудь, а такой очень спортивный, практически гоночный. А в ветвях могучей липы, которая до сих пор стоит, запутывалось небо, особенно осенью, когда над Амрайном задувал драконий ветер, превращая телеграфные провода в струны арфы и разучивая зимнюю песню, поначалу совсем тихим голосом.
Эта площадь была своего рода эпицентром карнавала. Приезжие общества гимнастов, и среди них самый активный – кружок из Инквила, выступали здесь с танцевальными программами, показывали танцы – негритянские, индейские, цыганские. В цыганских во время танца ударяли в тамбурины кулаками, били по локтям и коленям. А потом неделями напролет мы пытались передать мальчишкам искусство цыганских, индейских и негритянских танцев, стремясь подражать образцам в одежде, вооружении и музыкальных инструментах. И то же самое вооружение мы использовали осенью, в пору традиционных сражений, под звуки арфы драконьего ветра», – рассказывал Баур. Он подвергся нападению в виде пригоршни конфетти, которую, проходя мимо, бросила ему прямо в лицо дама с детской коляской, сделав вид, как будто так и надо. И вправду, теперь было хорошо слышно: ступицы и оси детской коляски требовали смазки. И еще вблизи отчетливо видно было покачивание коляски, вызванное кривыми ободами, зато из поля зрения ускользнуло ее содержимое, о котором у Баура уже сложилось свое мнение. Парочка с коляской удалилась в сторону пивоварни, подтверждая подозрения Баура, что именно паре с детской коляской и детской маске с лошадками или санками под белым костюмом предстояло выступить на карнавале в одиночку, одиноко или, так сказать, потерянно.
Продвинулись на несколько шагов вперед. Баур стряхивал с плеч конфетти. Торговый центр походил на теплоход: вот первая палуба, вторая, третья, – но до парохода с Миссисипи явно не дотягивал.
«А здесь, вот на этом самом месте, каждый раз в понедельник вечером, устраивали грандиозный спектакль. Маски плыли по площади, танцуя, жестикулируя, крича, они двигались от гостиницы к „Павлину“, от „Павлина“ – к гостинице, причем обслуга „Павлина“ перемещалась в гостиницу и работала там – и наоборот. Ресторан „Павлин“ находился к югу от красной гостиницы, и вместе они образовывали прямой угол в северо-западном направлении. В ресторане красной гостиницы стояло электрическое пианино. Музыку задавала картонная лента с дырочками. То была музыка фин-де-сьекль, звуки которой время от времени, и прежде всего в дни карнавала, роем устремлялись из красной гостиницы, взвиваясь вверх, и терялись в кронах каштанов, листья которых ложились на землю, словно мертвые птицы», – сказал Баур и втянул в себя воздух, присвистнув высоко и низко. Между тем какой-то ребенок в маске встал перед Катариной, чтобы поздороваться с ней. Катарина протянула ему руку, низко поклонилась, похвалила самодельную маску. Все по-прежнему было пронизано белесым светом. Никакого ветра в тот момент не чувствовалось.
«Здесь я однажды прогуливался в наряде пекаря, вместе с Линдой. А распорядитель по костюмам, его звали Остервальдер, так до сих пор и стоит на своем стуле, овеваемый время от времени перламутровым глянцем, слева, в самом заднем ряду, там, где все почетные члены, в темном костюме, из-под расстегнутого пиджака виднеется двухцветная лента гимнастического общества. Этот коллективный портрет гимнастов, как ты знаешь, долго хранился у нас на чердаке, заслоненный пружинным матрасом, в коричневой рамке, немного запыленный, разумеется», – сказал Баур, оглядываясь вокруг, словно занимаясь подсчетом отсутствующих каштанов.
«А вот тут недавно прошагал мимо один человек, пружинистым шагом, словно был обут в мокасины, можно было подумать, что его задача – явиться или уйти незамеченным. Этот человек пятьдесят лет назад был одним из устроителей ночного натюрморта в дни Амрайнского карнавала: комнаты в „Павлине“, распахнутая дверца кассы, в детской кроватке дочка хозяина – с комком ваты на лице», – сказал Баур.
Внук вдовы столяра, громко барабаня, зашагал в сторону Юрских гор, выбеленные вершины которых высились на севере, а контуры, если глядеть отсюда, то и дело прерывались стоящими кругом объектами недвижимости, но все равно можно было догадаться, что контуры эти мягко растворяются в небе, наподобие музыки Чарлза Айвза, теряющейся в молчании, в тишине. Между тем дети в масках вновь построились в колонну и зашагали следом за барабанщиком, причем девочка в самодельной маске бежала с мамой за руку позади всех. Мы пошли за ними на некотором расстоянии.
«Биндшедлер, вот здесь тоже открывалась возможность кое-чем поживиться, и опять только вприглядку», сказал Баур, указывая на мебельный магазин, стоявший напротив здания школы. Прежде он был покрашен в желтый Имперский цвет, и это неизгладимо врезалось в память. В первые два года учебы это созерцание мебели их особенно развлекало. У них была учительница, которая всегда ходила в коричневых полуботинках, она первая однажды принесла в школу бананы и засахаренный бернский лук. А на полуботинках у нее были настоящие индейские шнурки. Эта учительница переехала потом в Берн. Позже она умерла от атеросклероза, так что ее никто с тех пор не видел.