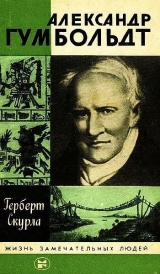
Текст книги "Александр Гумбольдт"
Автор книги: Герберт Скурла
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
Второй Колумб 1797-1804
Долгожданная независимость
14 ноября 1796 года в Тегеле умерла г-жа Мария Элизабет фон Гумбольдт. Младший сын ее не был особенно огорчен этой потерей. «Ты же знаешь, дружище, – писал он Фрайеслебену, – с этой стороны меня не мог постичь сокрушительный удар, мы всегда были чужими друг другу».
В конце 1796 года обербергмейстер Александр фон Гумбольдт подает в отставку. Хлопоты по разделу наследства г-жи фон Гумбольдт между ее сыновьями (Вильгельмом, Александром и их сводным братом Фердинандом фон Холльведе) взял на себя Кунт. При его посредничестве в июне 1797 года в Дрездене состоялся окончательный и официальный разговор на эту тему. Александр вместе с ценными бумагами и наличными получал ипотеку на Тегель (переходивший во владение Вильгельма) и еще одну солидную ипотеку на поместье в Рингенвальдс, которую нельзя, правда, было реализовать до 1803 года. В общем и целом после раздела имущества он оказался обладателем состояния в более чем девяносто тысяч талеров.
«Мое решение готовиться к путешествию – непоколебимо, – писал он Вилльденову перед отъездом из Байрейта. – Несколько лет уйдет на сборы и поиски подходящих инструментов, год-полтора я пробуду в Италии, чтобы основательно познакомиться с вулканами, а потом отправлюсь через Париж в Англию, где, возможно, проведу примерно год (спешить мне некуда: важно прибыть на место хорошо подготовленным), а потом на английском судне – в Вест-Индию».
Первым делом Александр решил навестить брата в Йене и несколько месяцев провести у него.
Вильгельм сам долго не был в Йене, он только что возвратился туда после продолжительных разъездов, ибо ему пришлось бывать в Берлине и в разных местах на севере Германии, а также дежурить у постели больной матери в Тегеле. Свою йенскую квартиру он снял еще в феврале 1794 года по соседству с домом Шиллера. В эти дни в Йене находился и Гёте, дописывавший «Германа и Доротею», так что Александру предоставлялась хорошая оказия повидаться и с ним.
Среди дневниковых записей Гёте, сделанных за три года до этого (в 1794 г.), была такая: «Столь долгожданный Александр фон Гумбольдт, едва приехав из Байрейта, втянул нас в беседу на общие темы естествознания». Годом позже Гёте отмечал благотворное влияние Александра на свои занятия по анатомии. И вот теперь, когда в конце февраля 1797 года Гумбольдт-младший появился в Йене, они часто и охотно виделись друг с другом, вместе ходили на лекции профессора Лодера по анатомии. Гёте проявил живейший интерес к Гумбольдтовым изысканиям по части «мускульной раздражимости» и охотно участвовал в его гальванических экспериментах. В какой мере Гёте был одним из тех «многих», кто, как говорилось в гордом письме Александра Фрайеслебену от 18 апреля 1797 года, захвачен его «Опытами по стимуляции жизненных сил химическими средствами, по усилению и торможению раздражимости» и якобы с воодушевлением поддерживает мнение, что Гумбольдт «закладывает фундамент новой науки (витальной химии)», покрыто завесой тайны. Из Веймара, куда Гёте вернулся в начале апреля (и где его потом навестил Александр), он писал Шиллеру 26 апреля 1797 года: «С Гумбольдтом я провел время с большой приятностью и пользой; мои естественно-исторические работы благодаря его присутствию разбужены от зимней спячки».
Сорокавосьмилетнего Гёте и двадцатисемилетнего Гумбольдта объединяла не только общность интересов в области естественной истории, анатомии, геологии и ботаники. Их объединял также родственный подход к природе как к чему-то целостному, единому, взаимосвязанному, в отдельных своих частях и явлениях, объединял универсализм их воззрений и – что не менее важно – опора на непосредственный опыт как источник знаний. Были у них и расхождения, главным образом методологического свойства. Гёте, изучая какое-либо явление, предпочитал рассматривать его как чувственно воспринимаемый «феномен», Гумбольдт же отталкивался от «фактов». Гёте в качестве первичного звена своих наблюдений брал «образ», в то время как Гумбольдт исходил из «элементов». Гёте в своих воззрениях на природу делал упор на развивающееся, биологическое, Гумбольдт – скорее на готовое, оформившееся, на непосредственную данность, открывающуюся исследователю. Гёте во многом полагался на органы восприятия человека (вспомним хотя бы его учение о цвете), Гумбольдт настаивал на экспериментальном изучении физики явлений и процессов, происходящих в природе и в отдельном живом организме, безотносительно к человеческому восприятию. Характерная для Гёте постановка вопроса о некоем архаическом «прарастении» не занимала воображение Гумбольдта ни тогда, ни позже, когда он со своим спутником Бонпланом, возвратившись после долгого путешествия по Латинской Америке, привез тысячи малоизвестных растений из Нового Света. Не стоит, однако, преувеличивать значение этих разногласий, и далеко не всегда они были принципиальны. Гёте, опережая время, стремился рассматривать природу в движении и развитии, доискиваться до единого «корня» всего многообразного сущего, в то время как Гумбольдт коллекционировал, взвешивал, измерял и сравнивал, чтобы обнаружить законы, господствующие во Вселенной. Их влияние друг на друга было глубоким, плодотворным, постоянным и, конечно, не исчерпывалось встречей 1797 года.
«Думаю, что его вполне можно назвать единственным и неповторимым в своем роде, – писал Гёте в 1799 году, – ибо мне не доводилось встречать человека, у кого подобная целеустремленность соединялась бы с такой разносторонностью духа. Трудно представить себе даже, как много он способен сделать для науки». А Гумбольдт, в свою очередь, годы спустя, уже после смерти Шиллера, писал Каролине фон Вольцоген, шиллеровской свояченице: «Повсюду, где бы я ни странствовал, я снова и снова проникался ощущением того, насколько могучим было воздействие на меня тех йенских встреч, когда я, духовно обогащенный взглядами Гёте на природу, чувствовал себя как бы вооруженным новыми органами чувств».
Иное мнение об Александре сложилось у Шиллера. Сначала он, видимо, слишком много ожидал от младшего брата Вильгельма фон Гумбольдта, своего друга. На первых порах все шло гладко: младший Гумбольдт был единственным представителем естественных наук, кого Шиллер пригласил сотрудничать в журнале «Оры». В письме к критику Готфриду Кёрнеру от 12 сентября 1794 года Шиллер называл его «самым блестящим» ученым во всей Германии; ему казалось порой, что способностями Александр, возможно, даже превосходит «своего брата, который, безусловно, выдающийся человек». Сыграло свою роль, вероятно, и небольшое недоразумение: Шиллер почему-то заключил, что основная специальность Александра – философия природы. При ближайшем знакомстве в их взглядах, склонностях и характере обнаружились очень существенные различия, ставшие причиной взаимного разочарования, охлаждения и отдаления. Первое, что Шиллеру пришлось не по вкусу, – это человеческие качества младшего Гумбольдта. Говоря об этом, не надо забывать, что Шиллер был человеком горячим и ему не раз случалось выносить скорый и предвзятый приговор. Можно предположить также, что Александр вполне мог дать для этого повод: необычайные успехи по службе, домогательства двух министров, жаждущих иметь его в числе ближайших сотрудников, быстрая и громкая слава все-таки немного вскружили ему голову. Шиллер пишет 6 августа Кёрнеру. «Насчет Александра у меня нет твердого мнения; однако я боюсь, что, несмотря на все его таланты и неустанную деятельность, больших высот в своей науке ему не достичь. Слишком мелкое и неуемное тщеславие до сих пор пронизывает все его дела. Мне не удается обнаружить в нем ни искры чистого, объективного интереса, и, как ни странно это может звучать, при всем огромном богатстве его знаний я нахожу в нем странное убожество духа и чувства, а для предмета, коим он занимается, это – наихудшее из зол. Что я нахожу в нем в избытке, так это голый и острый рассудок, беспардонно притязающий на то, чтобы куцыми мерками вдоль и поперек обмерить самое природу, которая во всех своих частях необъятна и непостижима, и с дерзостью, мне непонятной, подступается к ней со своими убогими формулами. Короче говоря, мне кажется, что для своего предмета он человек слишком грубо организованный, слишком ограниченный и узкопрактический. Он ведь начисто лишен воображения, и в одном этом, насколько я могу судить, ему недостает качества, совершенно необходимого в науке, поскольку природу надо уметь созерцать и чувствовать как во всех ее конкретных проявлениях, так и в высших законах. Если многим Александр очень импонирует и обычно выигрывает в сравнении с братом, то только потому, что он выскочка и у него лучше подвешен язык. По самым же главным качествам братьев и сравнивать-то нельзя – настолько достойнее представляется мне Вильгельм».
Шиллер в общем верно подмечает человеческие слабости Гумбольдта-младшего, однако верно и то, что он по своему духовному складу остается далек от понимания сути методов естественнонаучного исследования, ориентирующегося не на эмоции и смутные ощущения, а на непреложные факты, объективные связи и закономерности. Не случайно Кёрнер в ответном письме от 25 августа счел необходимым в деликатной форме сказать об этом Шиллеру и попытался смягчить его «резковатое суждение» об Александре: «Положим, ему в самом деле не хватает воображения, чтобы чувствовать природу, и тем не менее, сдается мне, он может многое сделать для науки. Его стремление все измерять и анатомировать служит предпосылкой для точных наблюдений; а без таких наблюдений естествоиспытателю не получить приемлемых исходных данных. К Александру как математику нельзя быть в претензии, что ко всему он подходит с мерками и цифрами. Он ведь стремится сводить разрозненные факты воедино, в одну систему, учитывает и взвешивает все гипотезы, расширяющие взгляд на вещи, и таким образом оказывается перед новыми и новыми вопросами к природе. Сама специфика его деятельности мешает ему держать равновесие во всем – так я думаю. Люди такого типа всегда слишком погружены в свои проблемы, чтобы уделять много внимания тому, что происходит вокруг. Из-за этого они кажутся окружающим сухими и бессердечными».
Несостоявшаяся поездка в Италию
Весть о заключении мира между Австрией и Францией, как оказалось, несколько опередила события. Хотя Бонапарт крепко держал в руках Северную и Центральную Италию, а его смелый проход через Восточные Альпы к Вене привел к перемирию в начале апреля 1797 года, цена, которую он требовал от германского императора, была слишком высокой; переговоры затянулись на долгие месяцы.
Александр фон Гумбольдт выехал из Дрездена 25 июля и направился через Теплиц в Прагу, рассчитывая, что в пути к нему присоединится брат с семьей, который давно уже лелеял планы поездки на юг, но всякий раз задерживался из-за приступов малярии, мучивших его жену и детей. В начале августа они встретились наконец в Вене и некоторое время оставались там, пережидая, пока не прояснится политическая обстановка. Без дела Александр не сидел и тут; еще до отъезда из Дрездена он учился обращаться с секстантом (ибо знал, что ему придется с ним работать) и продолжал изучать геологию, пользуясь частными коллекциями минералов, а здесь, в Вене, все свободное время тратил на изучение флоры в ботанических садах Шёнбрунна, уже тогда известных по всей Европе.
Лето было на исходе, осень близилась. Братья уже стали подумывать о том, что отправляться в Италию через Альпы поздновато, даже если мир и будет заключен в ближайшем будущем. Из Парижа пришло известие о том, что Директория в начале сентября произвела переворот, устранила угрозу монархического заговора и, более чем вероятно, спасла республику. Вильгельм не был склонен считать, что события в Париже создают почву для нового переворота (и оказался прав); поэтому он решил отправиться с семьей во французскую столицу, а Александр – заняться геологическими и метеорологическими наблюдениями в Альпах, готовясь к большому путешествию. Оба уже покинули Вену, когда 18 октября 1797 года был подписан мир в Кампо-Формио, содержавший, как оказалось потом, в себе зародыш новой войны: Австрия вынуждена была уступить Франции Милан и Мантую, а полученные ею самой Венеция и большая часть венецианских владений не могли служить достаточным за них возмещением. Уже состоялся триумфальный въезд в Париж генерала Бонапарта, который теперь поджидал удобный момент для захвата власти.
Александр Гумбольдт, вместо того чтобы ехать в Швейцарию и переждать там, как он поначалу планировал, пока не стабилизируется обстановка в Италии, направился в Зальцбург и… застрял там на всю зиму. Виной тому был Леопольд фон Бух, его бывший университетский товарищ, случайно встреченный им в Вене.
«Встреча с ним была несказанной радостью, – писал Гумбольдт Фрайеслебену, – это удивительный, неподражаемый, гениальный человек, которому удается делать массу тонких научных наблюдений. Своими повадками он, правда, производит впечатление чудака, свалившегося с луны… Я пытался выводить его на люди, но ничего путного из этого не получалось. Придя в гости, он обычно нацеплял на нос очки, забивался в дальний угол и начинал пристально изучать трещинки на глазурованных плитках печи – это его любимое занятие, или же, крадучись вдоль стен, как еж, принимался внимательно разглядывать подоконники и карнизы. Человек он невероятно интересный и приятный – настоящий кладезь знаний, из которых я тоже надеюсь извлечь немало пользы».
Друзья занимались географическими определениями на местности и проводили метеорологические наблюдения в окрестностях Зальцбурга. Александр опробовал там «прекрасный двенадцатидюймовый, но, к сожалению, очень тяжелый секстант». Пять месяцев жили они «в полном отшельничестве», увлеченные своими опытами, и были трудолюбивее и счастливее, чем когда-либо за всю свою жизнь.
Надо думать, что именно в это время оба геолога, независимо друг от друга интересовавшиеся вулканическим ландшафтом Италии, поняли всю шаткость учения их старого наставника Абраама Готлоба Вернера об океаническом происхождении рельефа Земли. Не случайно Гумбольдт всего несколько лет спустя (уже после своего латиноамериканского путешествия) на основе изучения вулканических районов и местностей с частыми землетрясениями придет к выводу, что процесс образования речных дельт, морских наносов, пещерных сталактитов, «вся эта система медленных действий и слабых сил, требующих долгого времени», не удовлетворяет «нас, когда мы глядим на гигантские нагромождения камней, служащих нам сегодня местом и средой обитания». Стараниями же Леопольда фон Буха, обследовавшего к тому времени потухшие вулканы в центральных областях Франции, гипотеза Вернера была сильно поколеблена. Отдавая должное заслугам своего «вулканического друга», Гумбольдт называл его «основателем гипотезы поднятия гор». Бух стал одним из самых решительных сторонников плутонизма; он, в частности, выдвигал мнение, что важнейшую роль в возникновении и изменении земной коры играет внутреннее тепло Земли и выбросы наружу расплавленных масс. После многочисленных наблюдений и сам Гумбольдт изменил свою точку зрения. «Капля дождя пускай и точит камень, если это только происходит достаточно долго, но не она придает коре нашей планеты ее нынешние физиогномические очертания».
Хотя чаша весов в этом споре и склонилась в пользу сторонников гипотезы вулканизма во главе с Бухом и Гумбольдтом, все же спор о происхождении рельефа Земли не стихал еще многие десятилетия, прежде чем современная геофизика на основе изучения метеоритов и возникающих при землетрясениях колебаний в толще Земли не пришла к гипотезе о ее оболочечном строении. Переход Гумбольдта в лагерь вулканистов очень огорчил Гёте, оставшегося неизменным сторонником гипотезы Вернера. Гёте навсегда сохранил верность «жизненной влаге» как силе, сформировавшей облик земной коры, а «проклятое горнило нового творения» не преминул почтить во второй части «Фауста» едкой иронией.
Планы путешествия в Египет перечеркнуты Наполеоном
Еще в Вене, подумывая о возможном путешествии в Вест-Индию, Гумбольдт начал присматриваться: кого бы взять себе в спутники? Хорошо бы найти ботаника, тогда и интересы были бы общие, и работу можно было бы делить пополам. А замыслы у Александра были необъятные, и чья-нибудь постоянная помощь в пути была бы ему очень кстати. Помимо всего прочего, ему нужен был не только сотрудник, но и просто компаньон: в отличие от нелюдимого всезнайки Леопольда Буха он был человеком весьма общительным и путешествовать в одиночку не любил, даже на небольшие расстояния. Иметь приятного собеседника, вести содержательные разговоры, касающиеся по-настоящему волнующих его тем, ловить знаки восхищения – в этом он всегда нуждался.
Денег на экспедицию пока не было. Кунту, занятому урегулированием формальностей, связанных с наследством, никак не удавалось высвободить крупную сумму наличными, а «проклятая, путающая все карты морская война» между англичанами и французами заставляла Гумбольдта отодвигать вест-индское путешествие на неопределенный срок. Поэтому предложение английского лорда Бристоля, с которым Александр познакомился в Зальцбурге, принять участие в небольшой поездке по Египту, вверх по Нилу до Асуана, показалось ему заманчивым. Условия Бристоля устраивали его, а кроме того, он решил, что сможет потом отделиться от всей компании в верховьях Нила и самостоятельно проехать по Сирии и Палестине.
В египетской экспедиции собирались принять участие интересные люди, например, берлинский археолог Алоис Хирт, да и сам Бристоль не был такой уж посредственностью: он слыл знатоком искусств и наук, кроме того, был заядлым непоседой и любителем странствий. Так что поговорить в этой поездке было бы с кем и о чем. Останавливало Гумбольдта, пожалуй, только одно: этот лорд – епископ из Дерри, располагавший миллионным состоянием, был изрядным жуиром. В путешествие он пригласил двух титулованных особ: некую французскую графиню и графиню Лихтенау из Пруссии, любовницу Фридриха Вильгельма II. Вильгельмина Энке – таково было ее настоящее имя, – в 1796 году возведенная в графское звание, получившая от прусского короля в дар несколько поместий и 500 тысяч талеров деньгами, самая известная из всех его фавориток, вскоре после смерти Фридриха Вильгельма (случившейся 16 ноября 1797 года) была арестована, так что сиятельному британскому церковнослужителю волей-неволей пришлось от ее очаровательного общества отказаться.
Гумбольдт, надо думать, вполне отдавал себе отчет в том, что путешествие с этим «старым сумасбродом» и его спутниками таило в себе немалый риск, но иной возможности выбраться из европейской «западни» он не видел, и сама мысль о том, что ему наконец подворачивается реальная оказия незамедлительно двинуться в путь, окрыляла его настолько, что заставляла пренебречь всякой осторожностью и благоразумием.
Политическая обстановка в Европе к путешествиям явно не располагала. «Отовсюду, – писал он Фрайеслебену, – я слышу разговоры о предстоящей высадке (французов – Г. Ш.) в Египет», и если это произойдет, то она будет «либо очень благоприятствовать» осуществлению его плана, «либо вообще его перечеркнет». Он с тревогой следил за развитием событий в Париже – некогда колыбели революции, превратившейся теперь в опасный очаг войн европейского масштаба. «Я стараюсь убедить себя, что все, что сейчас происходит, когда-нибудь приведет страну к расцвету наук. Что до меня, то я чувствую себя во всех своих устремлениях связанным по рукам и ногам до такой степени, что желал бы жить лет на сорок раньше или позже». «Республиканские драгонады. – писал он в одном письме, предназначенном для опубликования, – насильственные правительственные меры в оккупированных областях, проводимые нынешней антидемократической властью (осуществляемой Директорией и двумя советами), так же возмутительны, как и религиозные… Только одно благое дело – разрушение феодальной системы и аристократических предрассудков, от которых так долго страдал неимущий и благородный класс, начинает приносить свои плоды уже сейчас и будет приносить в будущем, даже если монархические конституции снова повсеместно будут входить в силу, как это сейчас, кажется, происходит с республиканскими».
Упорные слухи о «высадке в Египте» оказались небеспочвенными, в чем Гумбольдт убедился вскоре после прибытия в Париж. Началась египетская экспедиция генерала Бонапарта, осуществленная им при поддержке Директории, с целью подорвать позиции англичан в Средиземном море и в Индии, поскольку прямая высадка французских войск на побережье Англии представлялась слишком рискованной. Лорд Бристоль, в ком французская полиция заподозрила британского агента, был арестован в Милане. Так рухнул план первой заморской поездки Гумбольдта, уже разработанный в деталях.
С 25 тысячами солдат на 400 транспортных судах, прикрываемых 40 военными кораблями, прихватив с собой несколько сотен технических специалистов, учёных-естествоиспытателей, историков и художников, Бонапарт двинулся в середине мая из Тулона, взяв курс на Египет, и 1 июля высадился в Александрии. 25 июля в руках завоевателя оказался Каир. Перед египтянами Бонапарт изображал из себя не иначе как освободителя, сумевшего избавить их от гнета мамлюков. Через несколько недель английский флот, стоявший наготове у британских островов на случай возможного вторжения французов в Англию, прибыл к берегам Египта. Французская эскадра была уничтожена у Абукира, и задуманный Бонапартом удар по английскому морскому господству потерпел полный провал. Так, в ноябре 1801 года после трех с лишним месяцев, почти одинаково грозных и для французов, и для египтян, подошла к своему бесславному концу эта кровавая авантюра на Ниле.








