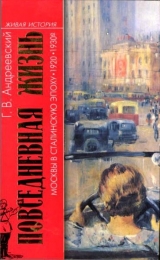
Текст книги "Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху, 1920-1930 годы"
Автор книги: Георгий Андреевский
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
В десять часов вечера 9 ноября 1927 года милиционер Рубцов сопровождал пьяного в отделение. Пьяного он в вагон посадил, хоть и с трудом, а сам попал под колеса и погиб. У него остались жена и двое детей.
Гибли милиционеры и по своей неопытности. Многие из них до службы в милиции были сельскими жителями и работы в Москве с ее узкими улицами, с ее трамваями, автомашинами, извозчиками, неорганизованными и недисциплинированными пешеходами и пассажирами, как говорится, «не бачили». Стала она для них тяжелым испытанием. Иной раз милиционер остановит машину посередине улицы, а то и на трамвайных путях, начнет выяснять у водителя, почему он нарушил правила уличного движения, а в это время создастся пробка, затор, а то и трамвай налетит на машину. В общем, происшествие накладывается на происшествие и вместо порядка получается еще большее безобразие.
Для стимуляции безопасности движения применялись, конечно, не только штрафы. Московское коммунальное хозяйство («Москоммунхоз») за идеальную езду выдавало вагоновожатым и шоферам ежегодную премию в размере 114 рублей. Деньги немалые. Правда, говорили, что выплатили их не всем и вроде как бы вообще никому не выплатили, но верить этим слухам мы, конечно, не обязаны.
Еще в конце двадцатых годов в целях безопасности было введено «психотехническое» исследование водителей городского транспорта на их профессиональную пригодность. Эта мера, надо полагать, также способствовала сокращению несчастных случаев.
От трамваев страдали не только люди, но и лошади. 10 июня 1928 года по улице Герцена лошадь тащила телегу, груженную досками. Около консерватории лошадь обогнал трамвай и при этом сильно испугал мирно шедшее животное. Резко рванувшись от трамвая вправо, лошадь врезалась в витрину магазина музыкальных принадлежностей (дом 13). Несчастную кобылу пришлось долго вытаскивать из магазина, в который она влезла наполовину.
Вообще, помимо трагических и печальных, было немало смешных и нелепых случаев. О них говорили, читали в газетах и журналах. Они давали пищу для творчества. За коляской Гоголя, тарантасом Сологуба в русскую литературу въехал трамвай Ильфа и Петрова, Зощенко, Булгакова. Бурная трамвайная жизнь была полна неожиданностей.
Корней Иванович Чуковский в дневнике записал следующее: «…вчера я видел, как в трамвае у женщины из размокшей бумаги посыпались на пол соленые огурцы, и когда она стала спасать их, из другого кулька вылетали струею бисквиты, тотчас же затоптанные ногами остервенелых пассажиров». Писателю было не смешно, тем более что ему самому какой-то пассажир измазал пальто «вонючей рыбой». Происходило это в 1932 году.
А в 1925 году был такой случай: некто М. (история не сохранила для нас его фамилию) спешил на работу. Вскочил в трамвай (наверное, обрадовался, что успел) и ждал отправления, нервничал, ведь опаздывал на работу, а трамвай стоит и стоит. Вагоновожатый на месте, а кондуктора нет. Терпел-терпел М. это безобразие, а потом дернул за веревочку, что-то в кабине вагоновожатого звякнуло, и трамвай пошел. На следующей остановке повторилось то же самое, то же – на третьей и на четвертой. Только на пятой в трамвай вошел милиционер и пресек кондукторскую самодеятельность М. Говорили, что М. просил знакомого врача дать ему справку, что он сумасшедший, но тот побоялся это сделать.
Мальчик Вова, которому было лет десять-двенадцать, никуда не спешил. Но в один из апрельских дней 1931 года он заметил, что в трамвае № 20, стоящем на Сокольнической станции, никого нет. Он влез в кабину кондуктора, о которой так долго мечтал, и увидел две большие ручки. Эти ручки в трамвае вообще съемные, и вагоновожатый должен забирать их с собой, когда уходит, но тут, на счастье мальчика, он этого не сделал. Вовочка повернул одну из ручек, и трамвай двинулся, прошел одну остановку, другую (представляю, как радовался мальчишка), но на третьей остановке трамвай догнали запыхавшиеся взрослые и отняли его у ребенка. Одному дяде, контролеру Тришину, суд потом даже год исправительных работ дал за то, что он оставил трамвай «с ручками».
Другой, на этот раз взрослый «шутник» 17 июля 1928 года, изрядно «выпимши», ругался в трамвае. Кондуктор потребовала, чтобы он вышел. Это обидело Федорова, так была фамилия обиженного. Он злобно глянул на кондуктора и произнес: «Вот теперь я посмотрю, как это вы без меня поедете» – и вышел. Вагон только тронулся, как справа от вожатого мелькнула какая-то тень и распласталась на рельсах. Это был Федоров. До вагоновожатого долетели его удалые слова: «Эй, трамвай, если хочешь ехать, бери меня, а не то я тут до вечера пролежу. У меня время есть!» Вагоновожатый звонил в звонок, просил его освободить путь, просил кондуктор, просили пассажиры. Федоров оставался глух к зову народа. Пришли милиционеры. Они подняли Федорова и понесли на руках. Он кричал, брыкался, а потом схватил одного из милиционеров за ноги, и вся компания упала на землю. Здорово извалялись, окруженные толпой милиционеры наставили себе и задержанному синяков и шишек, но в конце концов все же добрались до отделения милиции. Страдали милиционеры, надо сказать, не зря. Суд осудил Федорова на три месяца лишения свободы.
Вообще граждане, чуть что случалось в трамвае, сразу тащили виновника происшествия в милицию. Один гражданин ехал в трамвае тихо, никого не трогал. Стоявшая рядом дама попросила его передать деньги на билет. Он взял деньги, но кто-то его толкнул, и он деньги выронил. Нагнулся, чтобы поднять, а тут дама как закричит: «Что вы делаете, нахал, как вам не стыдно!» Гражданин стал оправдываться, а дама кричит: «Вы меня ущипнули за ногу, чулок порвали!» После таких слов и народ возмутился. Подхватили мужичка и потащили в милицию. Когда трамвай тронулся, одна тетка, до того молчавшая, сказала как бы про себя: «Наверное, это ее мой гусак ущипнул». Все посмотрели под сиденье, около которого стояла оскорбленная дама, и увидели под ним гусака в корзине. «Что же вы раньше не сказали об этом?» – спросил кто-то тетку. «Боялась, высадят», – ответила она.
А вот гражданин Зильберман того, что его высадят, не боялся. Он сам был милиционером. Служил в 1-м отделении милиции. Было это в 1925 году. Как-то нашел он бесхозную козу и решил свезти ее на базар и продать. Ни машины, ни лошади у него не было, и полез Зильберман с козой в вагон трамвая. Кондуктор, естественно, не пускает, кричит, а Зильберман твердит, что ему можно, что он милиционер. Коза блеет, что она коза, народ смеется. Шум привлек внимание работников милиции. Зильберману предложили вместе с козой пройти в отделение милиции. В конце концов Зильбермана освободили не только от хлопот по продаже козы, но и от работы.
Трамвайные сцены служили барометром социально-политической обстановки в стране, да и не только. Ведь в Москву после всех войн и потрясений устремились люди из разоренных деревень и городов, устремились те, кому при царском режиме дорогу в столицу перекрывали черта оседлости, политическая неблагонадежность или уголовное прошлое. Приезжали люди из других стран. Всю эту разношерстную и разноплеменную толпу, копошащуюся на улицах и площадях, трамвай сдавливал в железных тисках своих корпусов, бросал в объятия друг друга, сближая и ссоря. Эти сгустки московской жизни плодили слухи, анекдоты, сплетни. В общем, это был передвижной театр, в котором сама жизнь ставила свои веселые и невеселые сценки.
В 1933 году к власти в Германии пришел Гитлер, а 8 мая 1934 года около двадцати двух часов милиционер Прохоров, несший постовую службу на улице Разгуляй, услышал крики, доносившиеся с трамвайной остановки. В трамвае, как оказалось, прилично одетый гражданин оскорблял пассажиров, называя их «свиньями». Милиционер высадил гражданина. Тот заявил, что никуда не пойдет и не подчинится советским жандармам, после чего ударил два раза Прохорова по голове. В 28-м отделении милиции задержанный стал обзывать милиционеров «сволочами», «бандитами», «жандармами», а потом заявил, что «только через фашизм можно прийти к культуре». Выяснилось, что поборник «культуры» был гражданином Германии Паулем Густавом Бекманом двадцати трех лет. В 1931 году он приехал в СССР работать проходчиком на шахте Метростроя. За свой безобразный поступок он получил год исправительных работ и остался работать на шахте.
Традиционно самым любимым вопросом, поднимаемым в трамвайных выступлениях, был еврейский. Помню, в трамвае на Трубной площади, когда в 1953 году все узнали о деле врачей, какая-то нетрезвая личность вещала: «Жидов надо бить. Сталин был добрый, он всем верил, а жиды хотели его убить». Народ безмолвствовал. А тогда, в бурных двадцатых-тридцатых, за такие высказывания можно было запросто схлопотать срок. С. В. Чесалова в 1929 году выслали на три года в Северный край за то, что приставал в трамвае к пассажирам-евреям, выкрикивая антисемитские лозунги, а И. Я. Яковлев в 1927 году был выслан из Москвы за «выкрикивания против евреев в трамвае».
Вылетали из Москвы по воле ОГПУ не только пассажиры, но и трамвайщики. Вагоновожатый Краснопресненского трамвайного депо Иосиф Михайлович Кудрявцев как-то распространялся по поводу того, что, мол, советская власть разоряет крестьянство. За это в августе 1924 года он был на три года сослан туда, где трамваи не ходят, в Северный край.
Дореволюционный трамвай мы видели глазами К Г. Паустовского. Трамвай двадцатых годов мы можем увидеть глазами поэтессы Веры Инбер. 17 ноября 1925 года в «Вечерней Москве» был опубликован ее очерк «А. Б. В.» о трех трамвайных кольцах. В нем В. Инбер делит москвичей «на три половины»: одна – мечется по улицам, вторая – сидит дома, третья – стоит в трамваях (сидячих мест мало)… От Страстной площади «А», нагруженный, как верблюд в пустыне, лезет к Трубе (Трубной площади), а оттуда медленно вползает к Сретенке. Его населяют портфели, кожаные кепи, куртки и иногда шубы. Население трамвая разное. Те, которые стоят в самом вагоне, и те, которые на площадке. Оба эти сословия ненавидят друг друга. Тем, кто стоит на площадке, всегда кажется, что вагон пуст, и они настойчиво требуют «продвинуться вперед». Стоящие внутри доказывают, что «вагон не резиновый»… До Покровских Ворот трамвай «А» безумно переполнен. У Остоженки снова насядет народ… Кольцо «Б» проходит по рынкам… Здесь садятся армяки и тулупы, в руках корзины и кульки. («В трамвае эти мешки и кульки, – как писал К. И. Чуковский, – истинное народное бедствие».) Бывало, влезет в вагон баба с корзиной (уж не та ли самая?! – Г. А), в которой гусь. Кондуктор возражает: гусь может ущипнуть пассажиров, а баба возмущается: что же, мне автомобиль нанимать для гуся?.. Кольцо «В» – фантастично и огромно… А № 15 ходит очень редко и когда, наконец, появляется, то возникает такое чувство, будто вы по лотерее выиграли корову. «Странно думать, – пишет В. Инбер, – что под Страстной площадью и под Кремлем, под кремлевским подземельем, где, по слухам, лежат книги ученых дьяков, когда-нибудь протянутся рельсы, засвистит свисток, зашумят людские волны, пройдет метрополитен, и мы тоже поедем этим путем, глядя на каменные своды, будем думать: – А наверху солнце. А наверху трамваи. Милые трамваи».
Кажется странным, что в то голодное тяжелое время, когда трамваи-то и ремонтировать было не на что, строились планы о введении в Москве метро. Дискуссия о строительстве метрополитена велась в 1924 году в «Известиях» Моссовета. Сторонники строительства указывали на то, что трамвай патриархален (а давно ли он казался «аттракционом» по сравнению с конкой), медлителен, слишком громоздок для нешироких, кишащих экипажами и пешеходами улиц. Достаточно одного небольшого затора испортившегося в вагоне двигателя, остановившегося поперек рельс ломовика, ворвавшегося в вагон буйного пассажира – и порядок трамвайного движения нарушен, резонно отмечали энтузиасты метрополитена. Им возражали сторонники наземного транспорта. Они говорили о том, что дело не в количестве транспорта, а в неудобном расположении в Москве контор, складов, учреждений, о сосредоточении их в центре, что и влечет за собой скопление там транспорта и, как следствие этого, заторы. Они говорили о том, что метро очень дорого и есть много больших городов, которые без него прекрасно обходятся. Как всегда, правы были и те и другие. Метро построили, но не сразу, а когда появилась возможность.
Метро отличалось от трамвая не только красотой и богатством, но и торжественностью своих обрядов. Одно отправление его поезда чего стоило. А происходило оно так: перед отходом поезда метро дежурный по станции, когда все пассажиры усаживались в вагоны, громко и распевно произносил: «Готов!» – а затем обращался к машинисту с возгласом: «Двери!» Двери автоматически закрывались. Когда все двери закрывались, начальник поезда командовал: «Вперед!» – и вскакивал в вагон, закрыв за собой дверь кабины. На платформе оставался дежурный в красной фуражке. Трамваю, конечно, такие почести и не снились. Утешало его то, что первое время у метро были родимые трамвайные пятна – в его вагонах контролеры проверяли билеты у пассажиров. Дело в том, что по маленькому картонному билетику можно было проехать только один раз и только в один конец. Когда в июле 1935 года на станции «Красносельская» установили механические турникеты, то граждане, помимо жетонов, брали билеты. С помощью жетона они проходили через турникет, а билет сохраняли до конца поездки для контролера. Билеты тогда только собирались отменить после установления турникетов на всех станциях.
Трамвай же особенно не обновился, до метро ему было далеко, зато он являлся своеобразным украшением города. В двадцатых годах ходили разрисованные трамваи, с изображениями рабочих и крестьян, пожимающих друг другу руки и олицетворяющих «смычку» между городом и деревней. Трамваи носили названия «Красный Октябрь», «1 Мая 1923 года»… Некоторые из них имели и клички. Трамвай «А» называли «совбуром» (советским бюрократом), в нем, как мы помним, ездили «портфели», «Б» – «демократическим». Публика в нем была самая разная. Первый его вагон от Тверской улицы до Крымской площади собирал интеллигентов и ответственных работников, второй – подбирал с вокзалов молочниц, торговок, деревенских баб. Во второй вагон «общедоступного» десятого номера у Красных Ворот садились маляры и штукатуры с напудренными известкой носами, поскольку недалеко была трудовая биржа строительных рабочих. В таком «общедоступном» вагоне народ бы г простой и любил поговорить на разные темы. Нели вы в таком трамвае разворачивали газету, то сосед обязательно просил разрешить ему почитать вторую ее половину. Трамваи же № 24 и 34 были самыми тихими и малоразговорчивыми. 24-й шел мимо Покровских и Ильинских Ворот, Охотного Ряда, Воздвиженки, Пречистенки, а 34-й – мимо Мясницкой, Лубянки, Большой Никитской, Мертвого, Левшинского переулков. В них еще можно было встретить бывшего офицера, инженера, чиновника, услышать, как аккуратная старушка говорит благообразному старичку с бакенбардами: «Смотри, Федя, дом Татьяны Алексеевны красят»…
В упомянутых воспоминаниях о поездке в Москву В. В. Шульгин пишет и о пассажирах трамваев: «…Можно было сделать различие между публикой, стремящейся в первый вагон и во второй… Петр Яковлевич (лицо, сопровождавшее Шульгина по Москве. – Г. А) сказал мне: «Вот будете ездить в трамваях, обратите внимание: в первом вагоне всегда публика чище, больше жидов, ну и тех, кто получше одет… классов нет, плата одинаковая… а вот сама публика отбирается… второй вагон хуже: трясет и шумит»».
Отбор пассажиров шел, наверное, по привычке. До революции первые вагоны трамваев были вагонами первого класса.
И все-таки большинство людей норовили сесть в первый вагон. В душе каждый, наверное, опасался, что второй вагон в пути отстанет или отцепится.
Среди пассажиров встречались капризные, горластые и сварливые люди. Они портили кондукторам нервы. Один, например, требовал, чтобы ему кондуктор дал сдачу с «двугривенного» (20 копеек) «серебром», а не медью. «Что я вам нищий, собирать медяки?!» – возмущался он. Другая заявляла кондуктору: «Кондуктор, перемените мне билет, я этот нипочем не возьму. Вы смочили палец слюной, когда отрывали. Может, вы заразная какая?!»
Доставляли пассажиры кондукторам хлопоты еще и тем, что вечно забывали что-нибудь в вагоне. Приходилось забытое сдавать по докладной в трамвайный парк Вот что говорилось в одной из таких докладных: «В б часов 13 минут пополудни в вагоне № 243 кондуктором № 712 найдена мужская левая калоша с дыркой величиной в медный пятак». Калош, вообще, в трамваях оставалось полно и почему-то всё больше с левой ноги. Все они, да и не только они, переправлялись в камеру при Управлении дорог. В двадцать девятом году, например, перечисление некоторых забытых в трамваях вещей выглядело следующим образом: «…кошелек черный (пусто). Портфель старый (пусто). Мужские кальсоны (грязные). Буханка хлеба (ржаного). Швейная машина (исправная). Вексель на 303 рубля. Дамский лифчик (с мережкой). Рыжая кошка (дохлая). Шины (автомобильные). Бусы (коралловые). Клетка (с чижами). Трубка (докторская). Труба (граммофонная). Спальная перина (пуховая). Лопаты (деревянные). Пишущая машинка («Ундервуд»). Мастерская «холодного сапожника»».
Помимо всего этого разнообразия оставлялись в вагонах пилы, фуганки, обручальные кольца, чулки, пудреницы и пр. и пр.
Простое перечисление «забытого» говорит нам теперь и о рассеянности пассажиров, и о давке в трамваях, и о честности кондукторов, и вообще о том мире, в котором жили наши с вами предшественники. От списка так и повеяло пылью, затхлостью и любопытством.
Ну, о пассажирах и их барахле, наверное, хватит. Вспомним о трамвайщиках.
Основной рабочей силой в трамвайном хозяйстве все больше и больше становились женщины. Еще в 1915 году в Москве на маршруте «Б» появилась первая женщина-кондуктор. Тогда это произвело сенсацию. Газета «Русское слово» писала по этому поводу следующее: «Героиней дня, несомненно, стала кондукторша Ольга Егорова, бляха № 76, затмившая своей скромной фигурой не только слона из зоологического сада (надо сказать, что трамвай «Б» ходил мимо зоопарка. – Г. А), но и Игоря Северянина, выступающего в клубе художников на очередном «поэзовечере». Муж Ольги Егоровой храбро сражается с бошами (так немцев называли французы. – Г. А.), в то время как жена заняла его место в тылу». Следует добавить, что для того чтобы решить вопрос о назначении Егоровой кондуктором, городская управа собиралась четыре раза! Раздавались протестующие возгласы: «А кто детей будет рожать, мы с вами, что ли?!.. Это противно природе и укладу русской жизни!..» Когда же решение все-таки приняли, то, рассказывали, старичок, секретарь управы, скрепляя решение собрания своей подписью, даже заплакал. Представляю, что было бы с ним в 1924 году, когда появился первый вагоновожатый-женщина. Фамилия этой женщины была Деревенникова.
К 1930 году вагоновожатых и кондукторов трамваев в Москве насчитывалось семь тысяч, и многие из них – женского пола.
Женщины были не только кондукторами и вагоновожатыми, но еще и стрелочницами. В 1930 году стрелочниц в Москве насчитывалась целая тысяча! С самого раннего утра до глубокой ночи эти бедно одетые женщины должны были дежурить на трамвайных перекрестках. В жару, в холод, в дождь и метель они стояли или сидели на раскладных стульчиках и вглядывались в подъезжающий трамвай. Увидеть его номер в темноте или тумане, чтобы правильно перевести стрелку, было не так легко. В тридцатых годах им это стало делать легче. На моторных вагонах установили «лобовые огни» разного цвета: белого, бледно-лунного, голубого, оливкового, фиолетового, зеленого, красного, коричневого и синего. Если номер трамвая состоял из двух одинаковых цифр, то и фонари были одинаковыми: № 11 – два красных, № 22 – два зеленых и т. д. Трамвай маршрута «А» имел фонари бледно-лунный и красный, «Б» – бледно-лунный и зеленый. Пассажирам это нововведение понравилось. Во-первых, красиво, а во-вторых, удобно: увидел огоньки своего номера – подошел ближе к остановке, номер не твой – отошел в сторонку, чтобы другим не мешать.
Кондукторам это нововведение жизни не облегчало. Особенно им доставалось зимой. В стужу их обувь покрывалась льдом, коченели от холода руки. Вагоновожатым в конце тридцатых годов стали хоть шубы давать и валенки, а им – ничего. Зарплата была мизерной. Неудивительно поэтому, что москвички не очень-то шли в кондукторы. Их место в вагонах занимали деревенские девушки из провинции, часто неграмотные, далекие от столичной жизни с ее нервозностью и грубостью. К тому же девушки не знали города и не объявляли остановки, чем вызывали недовольство пассажиров, которые тоже были не святые. Дело иногда доходило до смешного. Какая-нибудь баба, ехавшая от Курского вокзала с большим мешком, донимала кондуктора тем, что просила, чтобы трамвай «Б» довез ее до Брянского (Киевского) вокзала. Кондуктор долго и упорно объясняла ей, что трамвай «Б» до Брянского вокзала не ходит, что ей надо сделать пересадку, однако никакие объяснения на бабу не действовали, и она продолжала донимать кондуктора, считая, что та ее обманывает.
Пассажиры вообще не любили кондукторов. Они считали их «воплощенной грубостью, запакованной в форменную куртку с серебряными пуговицами», как писала «Вечерняя Москва», хотя, конечно, форменные куртки имели далеко не все кондукторы. Непременными же их атрибутами являлись кожаная сумка и колодка с билетами, висевшая на груди.
Критиковали кондукторов все кому не лень и за всё: за то, что рано давали отправление, когда еще пассажиры не сели в вагон, за грубость, за то, что остановки не объявляли, «как раньше», наконец за то. что объявляли их по-старому: вместо «фабрика «Большевик»» – «фабрика Сиу», вместо «Белорусско-Балтийский вокзал» – «Александровский вокзал», вместо «село Октябрьское» – «село Всехсвятское», в общем, не кондукторы, а «пережитки прошлого».
О появлении на линиях кондукторов «новой формации» писали «Известия» административного отдела Моссовета 11 августа 1924 года. Вот какой портрет рисовала газета: ««Новому» кондуктору 16–17 лет, веснушки, светлые стриженые волосы, красный платочек на голове. Объявляя остановку «Застава Ильича», имя вождя произносит с любовью. Когда старик благодарит ее за то, что она дала ему сдачу с рубля серебром, отвечает: «У советской власти на всех рабочих и крестьян серебра хватит»». «Она не зубоскалит с вожатым, – говорится далее, – и не отвечает на его заигрывания, как это практикуют те, прежние, такие, как кондукторша прицепного вагона, которая не переносит этих «костомолок»».
Не знаю, много ли было таких новых кондукторов, но какими бы они ни были, они оставались женщинами, со своей нелегкой женской судьбой. Работать по десять часов, когда зимой на обуви намерзает лед, уходить из дома ни свет ни заря, или возвращаться поздно ночью, бояться воров и бандитов, трепать нервы с пассажирами, есть и спать на ходу – не самая лучшая профессия для обзаведения семьей и ее сохранения. Статистика показывала, что женщины-кондукторы чаще, чем женщины других профессий, делали аборты. Да, личная жизнь у многих не клеилась.
Однажды, это было весной 1924 года, в трамвае разрыдалась кондукторша. Разрыдалась неожиданно, никто ее не обижал, да и народу было в вагоне немного. Сидела, сидела и вдруг разрыдалась. Пассажиры стали ее успокаивать, пытались выяснить, что случилось. Успокоившись, она рассказала, как четыре года назад полюбила человека. Стала с ним жить. И вот однажды, в вагоне, увидела своего любимого вместе с незнакомой девушкой. Они очень мило беседовали и никого вокруг себя не замечали. Дома она собрала вещи и ушла жить в общежитие, ничего ему не сказав. Тем и кончилось ее недолгое женское счастье.
Кондукторам-мужчинам было легче, но и им доставалось. Как-то в 1925 году у Замоскворецкого моста в трамвай «А» вошел пассажир. Стоя на площадке, он ухитрился так схватиться за поручень в вагоне, что захватил веревку, за которую дергал кондуктор, давая сигналы вагоновожатому. Широков, так была фамилия вошедшего, обругал кондуктора, когда тот попросил его войти в салон и освободить веревку. Когда же кондуктор потребовал, чтобы он не выражался, Широков его избил. Хулиган за это получил всего месяц лишения свободы.
Один кондуктор жаловался пассажиру: «А бывает так, что и в морду законопатят! Намедни пассажир ударил кондуктора, а его, голубчика, и присудили к трем целковым (30 рублям. – Г. А) штрафа. Вышел он из суда и кричит кондуктору: «Вам набить морду только три целковых стоит!»» Случилось это в 1929 году.
Напасть на кондуктора мог не только хулиган, но и бандит. К ночи у кондуктора в сумке набиралась не очень-то большая сумма денег. Но и на нее находились охотники. 25 февраля 1925 года в половине третьего ночи в Покровско-Стрешневе в трамвай № 13 на повороте вошел неизвестный, вооруженный наганом, отнял у кондуктора Оболенской сумку с деньгами, а колодку с билетами бросил на пол, потом подошел к вагоновожатому Демидову и, угрожая, потребовал ехать тихо, после чего вышел из вагона. В тот же день был ограблен кондуктор трамвая № 17. Преступник свалил его на пол, отнял сумку и выскочил на ходу из вагона.
30 ноября 1925 года в два часа ночи в прицепной вагон трамвая № 24 на Бухаринской (Волочаевской) улице на ходу вскочили трое, отняли у кондуктора Ольги Гольцевой сумку, в которой находилось 16 рублей.
Ограбления кондукторов не прекращались много лет. В январе 1935 года Селиверстов и Филатов в половине второго ночи прыгнули в прицепной вагон трамвая № 46 в Тюфелевом проезде (теперь его нет, это район станции метро «Автозаводская»), Селиверстов обрезал ножом ремни кондукторской сумки Каравановой, в которой находилось 60 рублей, а Филатов выхватил сумку и выпрыгнул из вагона. 12 февраля они ограбили кондуктора трамвая № 27. Селиверстов обрезал сигнальную веревку, а Филатов с ножом в руках стал грабить кондуктора. В похищенной сумке находилось 51 рубль 85 копеек. За эти и другие аналогичные преступления наши разбойнички были приговорены к расстрелу. Верховный суд оставил приговор без изменения. Да, времена менялись, но Селиверстов и Филатов этого не учли.
И все же главными врагами кондукторов были не хулиганы, не бандиты, а «зайцы». «Зайцы» бывали разные. Одни нахально сидели в вагоне, смотрели в окно и на вопрос кондуктора: «Есть ли билет?» – отвечали: «Есть!» Кондуктору было неудобно у каждого пассажира проверять билет, пассажиры обижались: что мы, шаромыжники какие, а не советские люди, что нам не верят?! Не пускать пассажиров с площадки в вагон до покупки билета не было возможности: задние напирали и загоняли в салон вошедших, даже тех, кому надо было скоро выходить. «Зайцы» другого вида протягивали кондуктору деньги и называли остановку противоположного направления. Когда кондуктор им об этом говорил, то они живописно ахали, забирали деньги и выходили на следующей остановке. Здесь они поджидали другой трамвай и ехали дальше. Все повторялось снова. Ехали медленно, но верно. Были и «полузайцы». Они брали билет на одну остановку, а ехали десять. «Зайцы» были разные: «по забывчивости», «по лени» и «профессионалы». «Профессионал» рассуждал так: в день я трачу на трамвай 50 копеек, в месяц – 15 рублей. Так лучше уж я уплачу раз в месяц штраф 3 рубля.
Старый москвич Эдуард Ксаверьевич Саулевич вспоминает: «Шел 1928 год – первый год учебы в МГУ. Жил я тогда в студенческом общежитии на Зубовской площади. От места жительства до места учебы на Моховой был прямой путь – несколько остановок на трамвае. Проезд стоил 8 копеек. Значит, в оба конца 16. Для студента, получавшего стипендию в 25 рублей, такая плата была накладной. Приходилось ездить «зайцем». Задняя площадка трамвая была с двух сторон защищена раздвигающейся железной решеткой. Обычно мы, студенты, внутрь вагона не проходили, а оставались на задней площадке. Проезжая по Моховой мимо нового здания МГУ, мы отодвигали решетку с левой стороны и выскакивали на рельсы встречного трамвая. В этом был риск, но и экономия».
Бесплатно на трамвае ездили не только «зайцы», но и нищие. Нищие инвалиды входили в трамвай с передней площадки (как им и было положено), усаживались на места у выходной передней двери и начинали просить милостыню. В середине двадцатых годов нищих в трамваях было полно. На таких остановках, как «Арбатская» или «Смоленская», в каждый вагон входили нищие. Нередко больные, в грязных лохмотьях, они протискивались через переполненный вагон, оставляя на пассажирах грязь, бациллы и насекомых.
По скромным подсчетам, в Москве в начале двадцатых годов было три тысячи нищих, а проведенная в январе 1926 года их перепись показала, что нищих в городе восемь тысяч. Остается только удивляться, как голодающие москвичи смогли прокормить эту ораву.
Новая власть пыталась бороться с нищенством. Начальник московской милиции Вардзиели 20 февраля 1922 года даже издал приказ по этому поводу. В нем было сказано следующее: «Мною замечено и с мест губернии доходят слухи, что на улицах, торговых площадях и других многолюдных местах Москвы и губернии появляются нищие и инвалиды, позволяющие себе не только побираться, но и преследовать прохожих назойливыми требованиями подаяния. Этим остаткам попрошайничества в Советской республике не может быть места, так как советская власть всех граждан, не способных к труду, берет на государственное иждивение, а против бродяг и тунеядцев, зараженных праздностью, вооружается всеми мерами борьбы… Приказываю принять надлежащие меры к недопущению нищенства, привлекая виновных к ответственности».
Начальник московской милиции несколько преувеличивал. Не было у нашего государства тогда таких возможностей, чтобы обеспечить работой и всем необходимым своих граждан. Государство, конечно, старалось это сделать, но у него не хватало средств.
Среди нищих того времени, надо сказать, встречались весьма колоритные типы. По трамвайным вагонам ходил, например, один «интеллигент», который на французском, немецком и английском языках просил на хлеб, протягивая очень картинно руку за подаянием. Наверное, это его видели Ильф или Петров, а может быть тот и другой вместе, и наградили способностями Ипполита Матвеевича Воробьянинова.
В 1924 году по трамваям просил милостыню другой живописный нищий. Его называли «раненый». Он всегда заходил в трамвай с передней площадки. Голова его была забинтована, левая рука на перевязи. Босой, в грязной гимнастерке и засаленных галифе, у пояса на веревке – кружка. Он был похож на красноармейца, вышедшего из госпиталя. Сочувствующим пассажирам он объяснял, что на фронтах Гражданской войны получил шестнадцать ран, что лежал в госпитале, две недели тому назад выписался, что каждый день его бьют припадки и вот в один из таких припадков у него украли все документы. Их он, конечно, скоро получит, а пока жить не на что, ведь на работу без документов не устроишься. Люди ему верили и подавали. Некоторые, может быть, назло властям и милиции.








