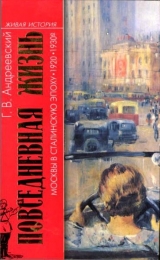
Текст книги "Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху, 1920-1930 годы"
Автор книги: Георгий Андреевский
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Георгий Андреевский
Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920–1930-е годы

Предисловие
Место, где прошли детство, отрочество и юность, люди называют родиной. Именно здесь, на этой земле, под этим солнцем, возникли наши первые ощущения, привычки и мысли. И будь то город Петербург, село Снова-Здорово, деревня Сладкие Караси, они одинаково дороги тем, кто в них вырос. Я вырос в Москве, и поэтому она так близка моему сердцу и бесценна в тех границах, которые я запомнил с детства, и где не было еще места таким названиям, как Свиблово, Орехово-Борисово, Митино и Крылатское, зато существовали Воробьевы горы, Чистые пруды и Александровский сад, Арбат, Сретенка и Замоскворечье. Именно о них я тосковал, покидая Москву, и радовался им, возвращаясь.
С годами желание вернуться в прошедшие молодые годы усиливается в нас. Мы не можем без волнения рассматривать старые фотографии, на которых запечатлены наши одноклассники или друзья, с которыми мы проводили лето. Не могут оставить нас равнодушными и снимки, с которых глядят молодые наши родители, бабушки и дедушки. Да и родной город тех лет нам совсем не безразличен. Работая над книгой, я встречался с ним в архивах и библиотеках, открывая для себя все новые и новые стороны и закоулки его повседневной жизни. Поскольку родился я в 1940 году, то жизнь довоенной Москвы наблюдать, естественно, не мог. Помогли мне в этом, помимо архивов и библиотек, конечно, люди. Среди нас еще живут те, кто помнит Москву двадцатых-тридцатых годов прошлого века. Попробуйте на какой-нибудь лавочке разговориться со старичком или старушкой, вспомнить вместе с ними годы их детства и молодости, а потом не поленитесь, запишите то, что услышали, а то забудете потом. Особенно, скажу я вам, приятно предаваться воспоминаниям с простыми людьми, поскольку они бесхитростны и откровенны и не поглощены мыслями о своем месте в истории. Люди, много повидавшие и испытавшие на своем веку, живут у нас повсюду. Не дайте умереть вместе с ними и их памяти. Сохраните ее для будущих поколений, ведь жизнь нашей родины на нас не кончается. И для этого не нужно быть писателем или ученым, достаточно быть добросовестным секретарем своего времени. Не надо только времени навязывать свои взгляды, как это делает новичок-следователь, который заносит в протокол только те показания, которые соответствуют избранной им версии совершения преступления. Может быть, оттого, что историю часто не излагают, а сочиняют, полюбилась мне тема повседневной человеческой жизни. В ней не нужно врать и уж совсем ни к чему фамильярничать с «великими мира сего», пытаясь развенчать их или хотя бы низвести до своего уровня. За повседневной жизнью людей не надо подглядывать в замочную скважину или собирать о ней сплетни. Она проходит у всех на виду, и сказанную о ней ложь легко разоблачить, а уж ложь о жизни в сталинскую эпоху – тем более, поскольку еще живы ее современники.
Главы этой книги складывались сами собой. Я их не планировал. По мере накопления материала выступили на первый план в повествовании городская торговля, жилища людей, транспорт, и в первую очередь трамвай, мода, мораль, искусство и пр. Вот тема преступности не всплывала, я ее сам определил как близкую мне по роду деятельности. Жаль только, что в московских архивах не сохранились уголовные дела двадцатых – первой половины тридцатых годов, а уж дел о нераскрытых преступлениях вообще днем с огнем не сыщешь. Поэтому и рассказал я только о преступлениях раскрытых и о преступниках, которые понесли наказание. Ну а сколько преступлений, и еще каких страшных, осталось не раскрыто, сколько выродков, совершивших жестокие убийства, бродили и еще бродят среди нас! Кто-то из них, наверное, повесился, кто-то спился, а что делают остальные? Слышали ли вы когда-нибудь о том, чтобы кто-то из них явился с повинной по истечении срока давности или покаялся перед смертью? Мне лично не приходилось. Значит, бродит в крови нашей нации их черная, грязная кровь, отравляя душу и жизнь нашу и будущих поколений.
Теперь, когда в России все обрело свое денежное выражение, попробуем посмотреть на мир не через окошечко обменного пункта, а через свои распахнутые и удивленные глаза, и мы многое увидим. Увидим, что, помимо суеты и иностранных побрякушек, в нем существует очень много интересного.
Жизнь Москвы двадцатых-тридцатых годов прошлого столетия полна потрясающих великих событий и мелочей. Не вина их, если, прочитав эту книгу, вы в этом со мной не согласитесь. Я, конечно, не мог охватить все разнообразие жизни тех лет, да это и невозможно. Давно и правильно сказано: «Нельзя объять необъятное».
Совсем не стремился я и к тому, чтобы излагать события с какой-либо определенной политической позиции. Я шел за жизнью, за материалом, как вагон за паровозом, а поскольку материал мне попадался разный и разные излагались в нем точки зрения на Москву и на ее обитателей, то и рассказ мой противоречив и непоследователен. Я, по возможности, старался избегать оценок событий и мировоззрения людей, не считая свои взгляды интересными для читателей и, вообще, не желая им надоедать. Возможно, кто-то, прочитав книгу, обвинит меня в русофобии, кто-то в антисемитизме, а я всего лишь цитировал протоколы и фразы из жизни, в жизни же, как вы знаете, было все. К тому же совсем не обязательно в угоду политической корректности искажать или замалчивать существующую реальность. Разве интересно видеть жизнь людей такой, какой ты хочешь? Она интересна тогда, когда о ней говорят правду. О жизни двадцатых-тридцатых годов и так много фантазировали. Не скажу, что я влюблен в те годы или, наоборот, ненавижу их. Мне они просто интересны. И то, что двадцатые годы совсем не похожи на тридцатые, не делает ни те ни другие ни хуже, ни лучше. Помимо Гражданской войны, нэпа, коллективизации и репрессий в них была обыкновенная повседневная жизнь миллионов таких же людей, как мы с вами. Этим-то ощущением нашей схожести с людьми того времени, жившими в других обстоятельствах, мне думается, и интересна повседневная жизнь сталинской эпохи. Мы невольно спрашиваем себя: а что стало бы с нами, если бы мы жили в те годы, как бы мы повели себя в тех условиях, в которых находились наши предшественники? Порой мы смотрим на них, как на первоклашек второклассники, гордые своими знаниями. А были они просто другими.
Георгий Андреевский
Глава первая
Любимый город
Москва-река. – Надгробия под водой. – Найденные сокровища. – Собачья площадка. – Мэри Пикфорд в Москве. – Блеск нэпа. – Сухаревка, Тишинка и другие. – Биржа труда. – Папиросница из «Мосселъпрама». – Мусорщики и ассенизаторы.
Париж – на Сене, Лондон – на Темзе, Рим – на Тибре, Вашингтон – на Потомаке, а Москва – на Москве. Река город и поит, и кормит, и, если надо, довезет.
Течет Москва-река мимо Кремля по направлению от храма Христа Спасителя к Красной площади. Она и в двадцатые годы так же текла. Между Крымским и Большим Каменным мостами она раздваивается. Это стрелка. Здесь основное русло реки перегораживала плотина, а у Кремля река становилась мелкой-мелкой, так что на середине ее стояли, засучив штаны, рыболовы и удили рыбу. За стрелкой – водоотводный канал. Его называли Канавой. На левом его берегу располагался Болотный рынок. На нем торговали в основном овощами, фруктами и ягодами. Торговали оптом, возами, торговали и в розницу. На рынке подмосковные огородники сбывали свою продукцию. Цены на Болотном были ниже, чем на других рынках. Такова была его традиция. Здесь, на Болоте, можно было и закусить, например пирожками с разными начинками, полакомиться другими яствами, изготовленными по древним рецептам. На берегу находилась пристань. С приходом нэпа к пристани стали приставать маленькие пароходики. Ходили они, правда, не по расписанию, но путешествие на них не лишено было прелести, особенно если удавалось занять место на палубе, под парусиновым тентом. На пароходике можно было доехать до Парка культуры имени Горького. Когда пароходик выплывал из Канавы на простор Москвы-реки, его окружали лодки, байдарки, шлюпки, моторки и просто «водоплавающие» граждане в разноцветных тряпочных шапочках и без оных. Они лезли под самый пароход, одержимые страстным желанием покачаться на его волнах. Когда пароходик останавливался, пловцы забирались на него и прыгали в воду. Пройти пароходику сквозь массу людей и лодок было очень трудно, и капитан, срывая голос, умолял пловцов освободить путь его судну. Но капитана не слушали. Людям было не до него, они радовались воде, солнцу, выходному дню и не думали об опасности. А напрасно. В такие жаркие летние дни в Москве-реке тонули десятки человек.
Вдоль берегов располагались «водные станции» разных профсоюзов. На них целыми днями загорали отдыхающие. У Парка культуры та же картина. Кроме того, здесь можно было встретить катающихся на водных лыжах. Лыжи – две маленькие лодочки – надевались на ноги, и человек ходил в них по воде, как комар-плавунец, отталкиваясь от дна длинными палками.
А пароходик плыл дальше, мимо берегов Нескучного сада. Там, в Александровском дворце (Большая Калужская улица, 3 2), где теперь располагается Президиум Академии наук России, с 1920 года до февраля 1927 года находился Музей мебели. В его пятнадцатом зале стояла мебель боденского мастера Гамбса, того самого, чьи двенадцать стульев украшали некогда гостиную старгородского дома Ипполита Матвеевича Воробьянинова из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев».
Проплыв мимо Воробьевых гор, пароходик сворачивал в Дорогомилово. Здесь весной 1925 года расположился цыганский табор. Цыганки с большими серьгами в ушах и в монистах (ожерельях) подметали мостовые широкими пестрыми юбками, бегали голые чумазые ребятишки; по выходным, дав представление, обходил публику с картузом в лапах медведь, собирая деньги. По ночам горели костры, слышно было ржание лошадей да заунывное пение. Цыган, кстати, тогда в Москве было немало. Жили они и в Петровском парке. Там даже бывшая «Монастырская земля» стала именоваться «Цыганским уголком». Ну а когда-то сборным местом цыган в Москве был Нескучный сад. Но то время давно прошло.
В 1932 году цыган из Дорогомилова прогнали. Устроили там лодочную станцию, которую облюбовала местная шпана, пестрая по своему возрастному и национальному составу.
Москва и в те годы была многонациональным городом. Проведенная в 1926 году перепись населения показала, что жило в ней свыше 1 миллиона 700 тысяч русских, свыше 130 тысяч евреев, 17 тысяч татар и столько же поляков, 10 тысяч латышей, свыше 8 тысяч немцев, 6 тысяч армян и около 3 тысяч литовцев. Если же добавить ко всему этому разнообразию более мелкие национальные группы и приезжих из разных республик, то можно себе представить, какое смешение народов, лиц и языков наблюдалось на московской земле. Впрочем, не только на земле, но и в ней самой. Я имею в виду кладбища. В городе существовало несколько национальных кладбищ: армянское (Ваганьковское), еврейское и караимское в Дорогомилове на Можайском шоссе, Иноверческое (немецкое) на Наличной улице, недалеко от реки Синички, и магометанское (татарское) у Серпуховской Заставы.
До наших дней дожили только армянское и немецкое. Многие гранитные надгробия с русского и еврейского кладбищ в Дорогомилове пошли на облицовку набережных в конце тридцатых годов. Гранитные плиты с могил чиновников, купцов, совслужащих и военных ушли под воду, спрятав от любопытных глаз прохожих последние прощальные слова близких: «Господи, прими дух его с миром», «Здесь лежит…», «Убитые горем жена и дети…» и т. д. и т. п.
В тридцатые годы решительно расправлялись не только с кладбищами, но и с самими реками. Исчезли с карты Москвы притоки Яузы: Синичка в Лефортове, Серебрянка в Черкизове, Сосенка за Черкизовом. Пропал и Хапиловский пруд, который начинался недалеко от Измайлова и заканчивался около Яузы (а если точнее, то от Борисовской улицы до Суворовской улицы). Исчезла речка Филька в Кунцеве. Все они потекли по подземным трубам, как и речушка Черторый у храма Христа Спасителя.
Ну а Москва-река после облицовки ее берегов гранитом похорошела и стала гордой и недоступной. А главное, она стала чище. До этого река, как вспоминают старожилы, была грязнущая. Купавшийся в ней мог измазаться мазутом, столкнуться с какими-нибудь отбросами, ведь канализацию прямо в нее спускали. Фабрика имени Дзержинского в Дорогомилове сбрасывала в воду красители, от чего река становилась то синей, то красной, то зеленой, то фиолетовой. В 1936 году реку стали чистить, углублять ее дно. Заработали на ее берегах землечерпалки. Дошло до того, что в предвоенные годы Москва-река стала «давать» лед. Его вырубали, потом распиливали простыми пилами на куски, а подъезжавшая вереница грузовиков завода «АМО» развозила эти куски по магазинам. Электрохолодильников тогда в городе почти не было.
В двадцатые годы, когда у Москвы-реки не было высоких каменных берегов, от нее можно было ждать сюрприза. В апреле 1926 года река разлилась и затопила округу. Люди бросили свои дома. В клубах стало тесно, как на вокзалах: их заполнили пострадавшие. С крыш и из окон незатопленных домов любопытные глазели на дома, погруженные в воду, а между домами двигались плоты и лодки – они подбирали тех, кто не смог вовремя покинуть свое жилище. Опасаясь затопления, жители ближайших переулков смолили и конопатили доски, которыми забивали первые этажи своих домов. У дверей магазинов сооружались ограждения, а покупатели ставили ящики и с их помощью через эти ограждения перелезали. Подъезды к мостам были затоплены с обеих сторон. Ломовые извозчики на этом наживались, взимая с трудящихся пятикопеечную плату за переезд на другой берег. Пользовались наводнением и те, кто подбирал куски льда, принесенные рекой, и тащил их домой, ведь скоро, когда потеплеет, этот лед будет стоить денег. Мальчишки-беспризорники тоже не терялись. Они доставали где-то дырявые корзинки и ловили ими рыбу. Некоторым везло: в корзинки попадалась плотва.
Через несколько дней вода спала, люди вернулись в свои разоренные дома, а городские власти стали подсчитывать убытки. На этот раз в Москве, в результате наводнения, остались без жилья 1330 человек Пришлось им начинать новую жизнь…
Разнообразие климата тоже делает жизнь обитателей нашего города непредсказуемой. Они всегда живут в ожидании перемен и, разумеется, к лучшему. Так было и в те, ставшие теперь такими далекими, годы.
Зеленая летом, белая зимой, Москва, как новогодняя елка, была украшена золотыми шарами церковных куполов и сосульками колоколен. Из многочисленных труб ее деревянных домиков уходил в голубое небо дым печей, согревавших жилье, в котором царил уют веревочных ковриков, белых подзоров на комодах и высоких никелированных кроватях, темно-зеленых фикусов, пурпурных гераней и крашеных скрипучих полов. И кружил ли над городом снег, или летала пыль, в небе по утрам и вечерам звучал протяжный и томительный колокольный звон. Перекричать его пытались духовые оркестры, играющие революционные песни и марши, и торговки, сбывавшие москвичам свой нехитрый товар.
Летом, когда жаркий пыльный день сменяли томительные сумерки и от Москвы-реки тянуло долгожданной прохладой, жители бараков в Дорогомилове оставались на улице. Старые – играли в лото, малые – в лапту. До поздней ночи не кончались разговоры, заливалась гармошка, звучали песни.
Бывало, в час ночи шли на реку купаться всей компанией, как в деревне, а потом оставались спать на улице, спасаясь от клопов, которые в эти жаркие дни становились особенно злыми.
Спали летом на открытом воздухе не только те, кто спасался от клопов, но и бездомные. Они устраивались на бульварных скамейках, предпочитая для своего отдыха Яузский и Покровский бульвары. Эти бульвары подальше от центра, и милиции там меньше. А вот парочки облюбовали бульвары Никитский и Гоголевский.
Сидели обнявшись до трех часов ночи, и не потому, что каждому из них некуда было идти, а потому, что некуда было идти вместе. Уж очень много людей приходилось в Москве на каждый квадратный метр жилой площади.
Раньше всех просыпались Страстной и Гоголевский бульвары. На них в восемь часов утра с Молочного, Хлебного, Скатертного и других переулков выползали выгуливать своих собачек доисторические старушки в мантильках и черных наколках на седых головах, а за ними и няни с детьми, занимавшими свои песочницы. Приходили китайцы с учебниками из Университета трудящихся Китая имени Сунь Ятсена, а потом и фотографы. Один из них торговал фотографиями Есенина с гармошкой. Здесь же, на бульваре, красивый старик играл на цитре. На скамейках старики и безработные резались в шашки и шахматы, а на перекрестках весь день не умолкали черные трубы радиорупоров. Под ними собирались люди послушать музыку, лекции, последние известия. На Никитском бульваре появлялись графологи, музыканты, моментальные художники, которые вырезали из бумаги профили клиентов, рассаживались на своих табуретках женщины, торговавшие семечками. В хорошую погоду на этот бульвар приходил профессор графологии. У него были бурые усы, чуть косые глаза и вкрадчивый голос. Он раскладывал на скамейке листки бумаги с затейливыми завитушками и, предложив любопытному написать что-нибудь на листке бумаги, долго смотрел на каракули. Потом, откинув со лба прядь грязных волос, закатывал глаза к небу и начинал говорить о поэтичности и импульсивности натуры клиента, о заложенных в ней недюжинных способностях и скрытых талантах, о переживаниях, связанных с временными неудачами, и будущих радостях, а клиент слушал его развесив уши.
Заходил иногда на бульвар и цыган с медведем. Медведь был небольшой, с плотно завязанной мордой. Он, делая вид, что борется с цыганом, позволял ему, в конце концов, схватить себя за лапу и свалить на землю.
На Петровском бульваре с дореволюционного времени стоял синий сарайчик, на котором желтыми буквами было написано: «Весы для взвешивания лиц, уважающих свое здоровье». В этом сарайчике за столом сидел седой благообразный старик. Он выдавал взвешенным свидетельство о их весе. Некоторые по этому свидетельству пытались получить керосин или картошку.
В мае от памятника Пушкину до памятника Тимирязеву выстраивались книжные киоски в виде башен, избушек и теремов. Лозунги у книжного базара были такими: «Не хочешь господских уз – заключи с книгой союз!», «Книги читай – ума набирай!» и пр. На книги здесь делались скидки от 20 до 50 процентов. У памятника Тимирязеву в мантии Оксфордского университета и гранитных подобий машин, с помощью коих великий ученый намеревался улавливать солнечную энергию, собирались букинисты. Они раскладывали книги по стопкам в зависимости от цены: в одной стопке все книги по 5 копеек, в другой – по 10 и т. д….
Вот такой, примерно, я вижу теперь Москву двадцатых годов. По крайней мере я ее такой себе представляю по рассказам живших в ней людей. Мне дорог уют этого навсегда ушедшего города с его прораставшей сквозь булыжник травой, скамеечками у деревянных домишек с сидевшими на них старушками, колодцами, хрипом гармошек по вечерам, огромными лужами в переулках и улицах после дождя, ледяными горками зимой и всем-всем своеобразием старого города, населенного в основном выходцами из деревень. Не зря же Москву еще долго называли «большой деревней».
Но Москва в те послереволюционные годы была не только уютным городом. Была она еще кое для кого и настоящим Клондайком. В ней то и дело находили что-нибудь таинственное или драгоценное. Алчные и любопытные копались в ней, как в сундуке, брошенном богатыми хозяевами.
В доме 17 по Спиридоновке, принадлежавшем миллионеру Рябушинскому и отданном под «Бухарский дом просвещения», в 1924 году нашли подвал. Вход в него вел из бывшей пивной кладовой, в полу которой находилась незаметная на первый взгляд подъемная плита. В подземелье, замурованном кирпичной стеной, хранились на полках картины, миниатюры, японские шкатулки, полные дорогих вещей: часов, табакерок. Стояли на полках старинные вазы, фарфоровые статуэтки и прочие ценности.
Летом 1925 года в подвале особняка князей Юсуповых (Малый Харитоньевский переулок, 17) был найден клад. Оценили его по тогдашним деньгам в 5 миллионов золотых рублей. Среди прочих ценностей хранились в том кладе двадцать пять колье с шестьюдесятью крупными изумрудами и восемьюдесятью крупными бриллиантами, жемчужинами, сапфирами и рубинами, двести пятьдесят пять платиновых и золотых брошек с драгоценными камнями, тринадцать диадем, сорок два браслета, сорок три кулона, булавки, пряжки, девятнадцать золотых дамских цепочек, оправы к веерам и пр. Все эти ценности были тогда сданы в Гохран.
Немало было находок и иного рода. В то двадцать пятое лето XX века в подвале, занимаемом мастерской «Всё для радио», на углу Петровки и Столешникова переулка, были обнаружены тринадцать черепов и части человеческих скелетов. Страшная находка, как потом оказалось, представляла собой захоронения некогда (в начале XIX века) существовавшего на этом месте кладбища при церкви Рождества Богородицы. Ее причту принадлежал, в частности, дом 10 по Столешникову переулку.
Скелетов вообще вытаскивали из-под земли тогда немало. При раскопках на Ильинке нашли тридцать три скелета, а у Абельмановской, в прошлом Покровской, Заставы, где стоял построенный в XVIII веке мужской Покровский монастырь, обнаружили семьдесят скелетов, три из которых были закованы в кандалы.
Когда копали в Китай-городе, то обнаружили три каменных гроба со скелетами, изголовья которых сходились в одной точке. От каждого гроба шла вытяжная труба. Потом трубы эти сходились в одну. Надо ли сомневаться в том, что в каменных гробах были когда-то погребены живые люди. Наверное, нет. Кем были эти люди: злейшими врагами какого-нибудь боярина или самого царя, опасными преступниками, крамольниками, насолившими хозяину этого застенка родственниками, а может быть, это были его жена, ее любовник и «мамка», устраивавшая их свидания? Представляю, как «палач» сначала пытал их, запер в одной клетке, где они были вынуждены потерять стыд друг перед другом, а потом, когда их замуровали в каменные гробы, спускался после сытного обеда или ужина в свой подвал наслаждаться воплями и мольбами несчастных.
Да, каких только тайн не скрывает в себе московская земля!
Москвичам вообще приходится ходить, что называется, по могилам. На углу Мясницкой улицы и Лубянской площади со времен Ивана Грозного, а именно с 1472 года, стояла церковь. Сначала деревянная, потом каменная. Около этой церкви в свое время были похоронены поэт Тредиаковский (помните: «Чудище обло, озорно, огромно, с тризевной и лаей») и автор одного из первых русских учебников Магницкий. Когда-то, еще при Борисе Годунове, Марьина Роща была местом погребения иноверцев.
В первые послереволюционные годы в Москве существовали такие сооружения, как мавзолей боярина Артамона Матвеева, убитого в первый Стрелецкий бунт в 1682 году, при церкви Николы в Столпах, что в Армянском переулке, или урна-фонтан на Собачьей площадке, напротив дома Хомякова, поставленная его сыном, а в самом доме известного славянофила еще существовал музей быта сороковых годов XIX века. На деревянных воротах его сохранялась железная заржавевшая доска, на которой можно было прочитать имя последней владелицы дома, Марии Александровны Хомяковой.
Был в те годы в Москве еще один музей московской старины. Его открыли 7 января 1926 года в Сухаревой башне. При музее существовала богатейшая библиотека.
Старая Москва везде соседствовала с новой. Рядом с государственными в те годы стояли и частные дома. Их было мало, но в них жили прежние хозяева или их наследники, которые сдавали комнаты внаем. Старые названия улиц тоже соседствовали с новыми. Так, например, рядом с новой дощечкой «Динамовская улица» долго еще красовалась старая – «Сорокосвятская улица», да и москвичи по привычке называли улицу Дружинников – Пресней, Марксову улицу – Старой Басманной, а Радищевскую – Верхней Болвановкой.
Переплелись в названиях московских улиц история, география и религия. Церковь Иоакима и Анны вызвала к жизни название «Якиманка», мирная тишина за Пресней побудила жителей назвать улицу «Тишиной», а за ней и переулки – Тишинскими. Существовали в Москве два Таракановских переулка (первый в свое время назывался еще Арбатец) и Таракановская улица. Это там, где теперь станция метро «Сокол», слева от Ленинградского шоссе. А там, где теперь Новый Арбат, находилась Собачья площадка.
До войны на Собачьей площадке существовали аптека, туберкулезная больница имени Снегирёва, представительство Ингушской автономной области, Музыкальный институт имени Гнесиных. Место это было настолько уютным, что казалось естественным разгуливать здесь летом в пижаме и тапочках на босу ногу.
Иногда, предаваясь бесплодным мечтаниям, представляешь себе, что страна наша разбогатела и правители ее задумались, на что бы им потратить лишние деньги, а подумав, решили: «А не построить ли нам где-нибудь центр старой Москвы. Точь-в-точь таким, каким он был в начале двадцатого века». Подумали и построили. И вот уже возродились в своем былом очаровании Большая Молчановка, Кривоникольский, Собачий переулки, Собачья площадка и гуляют здесь важные псы в золотых ошейниках и белобрысые сучки с розовыми носиками, а долгими летними вечерами в арбатских двориках старые москвичи и москвички вспоминают безвозвратно ушедшую молодость и славные перестроечные годы. Всё это, конечно, прекрасно, только будут ли эти москвичи и москвички интеллигентными, а их воспоминания теплыми и романтичными? Неужели никогда больше в России не появится та, пусть и «гнилая», но милая и наивная интеллигенция, благодаря которой к русским людям в мире относятся, возможно, лучше, чем они того заслуживают.
Но вернемся в прошлое. Тогда, сродни еще не уничтоженным древностям, встречались в Москве такие же древние люди. Вот, например, один старичок, звали его Иван Данилыч, так он еще был крепостным графов Шереметевых, а после революции стал сторожем в Останкинском парке. Времена тогда были для сторожей нелегкие. В Останкине – глушь, заброшенный лес, в оврагах прятались бандиты. Много пришлось пережить ему волнений и страхов. В 1928 году Останкинский дворец превратили в музей и Иван Данилыч стал его первым сторожем и его живым экспонатом.
Да что за люди в то время жили в Москве! Сколько талантов! Возьмем хотя бы мир музыки. Москвичи могли послушать хор Государственной капеллы под управлением Чеснокова, автора прекрасной религиозной музыки, пойти на концерт пианистов Оборина, Игумнова, Гольденвейзера, Нейгауза, Горовица, Бекман-Щербины, скрипача Сибора. А какие композиторы тогда еще творили в Москве: Ипполитов-Иванов, Гречанинов, Глиэр, Мясковский, Гедике! Нам остается только завидовать тем, кто жил в ту эпоху, по крайней мере по части области духовной. А какие артисты жили в то время! Одни только двойные фамилии чего стоили: Корчагина-Александровская, Горин-Горяйнов, Корвин-Круковский, Мичурина-Самойлова, Книппер-Чехова, Сашин-Никольский и многие-многие другие. И все они жили в Москве! Где-нибудь на Арбате или Пречистенке можно было столкнуться с кем-либо из великих, несущим под мышкой свой жалкий паек.
На тех, кто прежде вел безбедную жизнь, изменения московской жизни производили удручающее впечатление. Не лучше представлялась жизнь москвичей и тем, кто приезжал из-за границы… Побывавший в Москве в 1923 году К. Борисов (в 1924 году в Париже вышла его книжка «75 дней в СССР») обратил внимание на то, что летом мужчины в ней преимущественно одеты в «толстовки» (френчи из грубого холста), на ногах у них сандалии. Сделал автор и более глубокие наблюдения. Он писал: «Пенсионеры обречены на вымирание. Бросается в глаза отсутствие стариков и старух». Приехавшие из-за границы в двадцатые годы обращали внимание также на то, что днем на улицах города в основном женщины. Многие отмечали забитость и хмурость москвичей. Ничего удивительного в этом нет. Будешь хмурым при таком пайке, холоде и темноте. Электрическое и газовое освещение на улицах столицы возобновилось только 1 сентября 1924 года, да и то не везде. В половине второго ночи его выключали. В то время в Москве еще существовали фонарщики, они зажигали и гасили керосиновые и газовые фонари. К концу двадцатых годов керосиновые фонари исчезли, а потом исчезли и газовые, хотя еще в 1946 году столбы газовых фонарей стояли на улице Грановского.
А вот какое впечатление произвела наша столица на известную американскую киноартистку Мэри Пикфорд, побывавшую в ней в 1927 году. «Москву я не нашла красивой, – писала Мэри, – она напомнила мне большой временный город, вроде наших пограничных. Быть может, она и хороша зимой… Магазины все там маленькие, и продаются в них самые простые вещи. Все очень дорого… Движение публики на улицах небыстрое. К автомобилям это не относится. Никаких законов уличного передвижения там не существует, и я до смерти боялась ездить там на автомобилях… Люди одеваются бедно и в темные цвета. Они выглядят чисто и стараются из пустяков сделать нарядные туалеты… Я думаю, что это отсутствие красок должно действовать угнетающе. И все же не могу не признать, что эти изголодавшиеся по красоте люди способны еще создавать великое искусство».
Репортер парижской газеты «Возрождение» Янина Буксунуз, посетившая Москву в начале ноября 1936 года, писала: «В толпе мужчины почти все в фуражках, женщины в беретах. Многие в тапках. Женщины в демисезонных пальто. Это новшество. Говорят, прежде от полотняного платья прямо переходили к шубе».
А вот французский журналист Родэ-Сен нарисовал довольно мрачную картину Москвы 1934 года. В журнале «Иллюстрированная Россия» он писал: «Большинство людей, которых видишь на улицах Москвы и Ленинграда, одеты в отвратительные лохмотья. Многие ходят босиком. Ботинки – редкость. И эта отвратительная одежда подчеркивается доведенным до последних пределов пренебрежением к элементарнейшим требованиям гигиены. Некоторые прохожие резко отличаются от общей массы своим внешним видом. Они гораздо лучше одеты и все, без исключения, носят портфели. Это – чиновники, властители советского общества. Нищих не видно. Не видно также и продавцов газет. Стариков почти не существует. Очень мало автомобилей, но множество трамваев».
Конечно, не всё в Москве было так плохо, босиком и в лохмотьях ходили немногие, а непредвзятый взгляд мог заметить и много хорошего. Тот же Борисов, когда в 1923 году зашел в Филипповскую булочную на Тверской, просто обалдел. «Чего там только нет! – писал он в своей книжке. – Хлеб черный, рижский, полубелый, ситный простой, ситный с изюмом, булки всех видов, чуть ли не двадцать сортов сухарей, баранки, пирожки, пирожные. Одних пирожных выпекают около трех тысяч в день, и все это немедленно распродается!»








