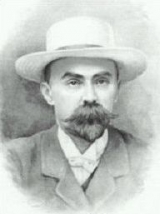
Текст книги "Обоснование и защита марксизма .Часть первая"
Автор книги: Георгий Плеханов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
Выше мы оставили «пока» без рассмотрения вопрос о том, точно ли всякое явление превращается, как это думали немецкие идеалисты-диалектики, в свою собственную противоположность. Теперь, надеемся, читатель согласится с нами, что собственно этот вопрос можно и совсем не рассматривать. Когда вы применяете диалектический метод к изучению явлений, вам необходимо помнить, что формы вечно меняются вследствие «высшего развития их содержания». Этот процесс отвержения форм вы должны проследить во всей его полноте, если хотите исчерпать предмет. Но будет ли новая форма противоположна старой, – это вам покажет опыт, и знать это наперед вовсе не важно. Правда, именно на основании исторического опыта человечества всякий, понимающий дело юрист скажет вам, что всякое правовое учреждение рано или поздно превращается в свою собственную противоположность: ныне оно способствует удовлетворению известных общественных нужд; ныне оно полезно, необходимо именно в виду этих нужд. Потом оно начинает все хуже и хуже удовлетворять эти нужды; наконец, оно превращается в препятствие для их удовлетворения: из необходимого оно становится вредным, – и тогда оно уничтожается. Возьмите, что хотите, – историю литературы, историю видов, и всюду, где есть развитие, вы увидите подобную диалектику. Но все-таки, кто, пожелав вникнуть в сущность диалектического процесса, начал бы именно с проверки учения о противоположности явлений, стоящих рядом в каждом данном процессе развития, тот подошел бы к делу с ненадлежащего конца.
В выборе точки зрения для такой проверки всегда оказалось бы очень много произвольного. Надо взглянуть на этот вопрос с его объективной стороны, иначе сказать, надо выяснить себе, что такое неизбежная смена форм, обусловливаемая развитием данного содержания? Это – та же самая мысль, только выраженная другими словами. Но при поверке ее уже нет места произволу, потому что точка зрения исследователя определяется самим характером форм и содержания.
По словам Энгельса, заслуга Гегеля заключается в том, что он первый взглянул на все явления с точки зрения их развития, с точки зрения их возникновения и уничтожения. «Первый ли он это сделал, можно спорить, – говорит г. Михайловский, – но во всяком случае не последний, и нынешние теории развития – эволюционизм Спенсера, дарвинизм, идеи развития в психологии, физике, геологии и т. д. – не имеют ничего общего с гегельянством» [68]68
«Русское Богатство», 1894, кн. 2, отд. II, стр. 150.
[Закрыть].
Если современное естествознание на каждом шагу подтверждает гениальную мысль Гегеля о переходе количества в качество, то можно ли сказать, что оно не имеет ничего общего с гегельянством? Правда, Гегель не был «последним» из говоривших о таком переходе, но это именно по той же причине, по какой Дарвин не был «последним» из люден говоривших об изменяемости видов, а Ньютон не был «последним» ньютонистом. Что прикажете? Таков уж ход развития человеческого разума! Выскажете вы правильную мысль; и вы наверное не будете «последним» из защищавших ее; скажете вздор, – и хотя люди очень лакомы до него, но вы все-таки рискуете оказаться «последним» его защитником и носителем. Так, по нашему скромному мнению, г. Михайловский сильно рискует оказаться «последним» сторонником «субъективного метода в социологии». Говоря откровенно, мы не видим повода печалиться о таком ходе развития разума.
Мы предлагаем г. Михайловскому, – который "может спорить" обо всем на свете и о многом прочем, – опровергнуть следующее наше положение: всюду, где является идея развития: "в психологии, физике, геологии и т. д.". она непременно имеет много "общего с гегельянством", Т. е. в каждом новейшем учении о развитии непременно повторяются некоторые общие положения Гегеля… Говорим некоторые, а не все, потому что многие из современных эволюционистов, будучи лишены надлежащего философского образования, понимают «эволюцию» отвлеченно, односторонне. Пример: уже помянутые выше господа, уверяющие, что ни природа, ни история скачков не делают. Такие люди очень много выиграли бы от знакомства с логикой Гегеля. Пусть опровергнет нас г. Михайловский, но только пусть не забывает он, что нельзя опровергнуть нас, зная Гегеля лишь по «учебнику уголовного права» г. Спасовича да по «Истории философии» Льюиса. Надо потрудиться изучить самого Гегеля.
Говоря, что современные учения эволюционистов всегда имеют очень много "общего с гегельянством", мы не утверждаем, что нынешние эволюционисты заимствовали свои взгляды у Гегеля. Совсем напротив. Часто они имеют о нем столь же ошибочное представление, какое имеет г. Михайловский. И если, тем не менее, их теории, хотя отчасти, и именно там, где они оказываются верными, являются новой иллюстрацией "гегельянства", то это обстоятельство лишь оттеняет поразительную силу мысли немецкого идеалиста: люди, никогда не читавшие его, силою фактов, очевидным смыслом "действительности", вынуждены говорить так, как говорил он. Большего торжества нельзя и придумать для философа: его игнорируют читатели, но его взгляды подтверждает жизнь.
До сих пор еще трудно сказать, насколько взгляды немецких идеалистов непосредственно повлияли в указанном направлении на немецкое естествознание, хотя несомненно, что в первой половине нынешнего века даже натуралисты в Германии занимались в течение университетского курса философией, и хотя такие знатоки биологических наук, как Геккель, с уважением отзываются теперь об эволюционных теориях натур-философов. Но философия природы была слабой стороной немецкого идеализма. Его сила заключалась в теориях, касавшихся различных сторон исторического развития. А что касается этих теорий, то пусть г. Михайловский припомнит, – если знал когда-нибудь, – что именно из школы Гегеля вышла вся та блестящая плеяда мыслителей и исследователей, которая придала совершенно новый вид изучению религии, эстетики, права, политической экономии, истории, философии и гак далее. Во всех этих «дисциплинах» в течение некоторого, – самого плодотворного, – периода не было ни одного выдающегося работника, не обязанного Гегелю своим развитием и свежими взглядами на свою науку. Думает ли г. Михайловский, что и против этого «можно спорить»? Если да, то пусть он попробует.
Говоря о Гегеле, г. Михайловский старается "сделать это так, чтобы быть понятным для людей, непосвященных в тайны "философского колпака Егора Федоровича", как непочтительно выражался Белинский, подняв знамя восстания против Гегеля". Он берет "для этого" два примера из книги Энгельса "Herrn Eugen Dühring's Umwälzung der Wissenschaft" (Почему же не из самого Гегеля? Так удобнее было поступить писателю, "посвященному в тайны" и т. д.).
"Зерно овса попадает в благоприятные условия: оно пускает росток и тем самым, как таковое, как зерно, отрицается; на его месте возникает стебель, который есть отрицание зерна; растение развивается, приносит плоды, т. е. новые зерна овса, и когда эти зерна созревают, – стебель погибает: он, отрицание зерна, сам отрицается. И затем тот же процесс «отрицания» и «отрицания отрицания» повторяется бесчисленное число (sic!) раз. В основании этого процесса лежит противоречие: зерно овса есть зерно и в то же время не зерно, так как всегда находится в действительном или возможном развитии". Г. Михайловский, разумеется, «может спорить» против этого. Вот как переходит у него в действительность эта привлекательная возможность.
"Первая ступень, ступень зерна, есть тезис – положение; вторая, вплоть до образования новых зерен, есть антитезис – противоположение; третья – есть синтезис или примирение (г. Михайловский решил писать популярно и потому не оставляет греческих слов без объяснения или перевода); все вместе составляет триаду или трихотомию. И такова судьба всего живущего: оно возникает, развивается и дает начало своему повторению, после чего умирает. Громадная масса единичных проявлений этого процесса тотчас же, конечно, встает в памяти читателя, и закон Гегеля оказывается оправданным во всем органическом мире (мы теперь дальше не идем). Если, однако, мы вглядимся в наш пример несколько ближе, то увидим крайнюю поверхностность и произвольность нашего обобщения. Мы взяли зерно, стебель и опять зерно или, вернее, группу зерен. Но ведь прежде, чем приносить плод, растение цветет. Когда мы говорим об овсе или другом злаке, имеющем хозяйственное значение, мы можем иметь в виду зерно посеянное, солому и зерно собранное, но этими тремя моментами считать и жизнь растения исчерпанною – не имеет никакого резона. В жизни растения момент цветения сопровождается чрезвычайным и своеобразным напряжением сил, а так как цветок не непосредственно из зерна возникает, то, придерживаясь даже терминологии Гегеля, мы получаем не трихотомию, а, по крайней мере, тетрахотомию, четверное деление: стебель отрицает зерно, цветок отрицает стебель, плод отрицает цветок. Пропуск момента цветения имеет важное значение еще вот в каком отношении. Во времена Гегеля, может быть, и позволительно было брать зерно за исходный пункт жизни растения, а с хозяйственной точки зрения позволительно, пожалуй, это и теперь делать: хозяйственный год начинается посевом зерна. Но жизнь растения не с зерна начинается. Мы теперь очень хорошо знаем, что зерно есть нечто очень сложное по строению и само составляет продукт развития клеточки, и что нужные для размножения клеточки образуются именно в момент цветения. Таким образом в примере жизни растения и исходный пункт взят произвольно и неверно, и весь процесс искусственно и опять-таки произвольно втиснут в рамки трихотомии" [69]69
«Русское Богатство», цит. книжка, II отд., стр. 154–157.
[Закрыть]. Вывод: «пора бы перестать верить, что овес растет по Гегелю».
Все течет, все изменяется! В наше время, т. е. когда пишущий эти строки занимался, в годы своего студенчества, естественными науками, овес рос "по Гегелю", а ныне «мы очень хорошо знаем», что это вздор; теперь «nous avons changé tout cela». Но полно, хорошо ли «мы знаем» то, о чем «мы» говорим.
Г. Михайловский излагает заимствованный им у Энгельса пример с овсяным зерном совсем не так, как он изложен у самого Энгельса. Энгельс говорит: "зерно, как таковое, уничтожается, оно отрицается, его место занимает выросшее из него растение, отрицание зерна. Но каков нормальный круговорот жизни этого растения? Оно растет, цветет, оплодотворяется и производит, наконец, снова овсяные зерна [70]70
У Энгельса речь идет, собственно говоря, о ячменном, а не об овсяном зерне; но это, конечно, несущественно.
[Закрыть]; когда зерна созревают, стебель отмирает, отрицается в свою очередь. Как результат этого отрицания мы получаем опять овсяное зерно, но уже не одно, а сам-десять, сам-двадцать, сам-тридцать" [71]71
«Herrn Eugen Dühring's Umwälzung der Wissenschaft», 1-е издание, первая часть, стр. 111–112.
[Закрыть]. Отрицанием зерна является у Энгельса целое растение, в круговорот жизни которого входит, между прочим, и цветение, и оплодотворение. Г. Михайловский «отрицает» растение, ставя на его место слово стебель. Стебель, как известно, составляет только часть растения и, разумеется, отрицается другими его частями: omnis detepmina io est nega io. Но именно потому-то г. Михайловский и «отрицает» выражение Энгельса, заменяя его своим собственным: стебель отрицает зерно, – кричит он, – цветок отрицает стебель, плод отрицает цветок; тут, по крайней мере, тетра-хотомия! – Конечно, г. Михайловский, но все это доказывает только то, что в споре с Энгельсом вы не отступаете даже… как бы это помягче сказать? – не отступаете даже пред «моментом»… видоизменения слов вашего противника. Это прием несколько… «субъективный».
Раз "момент" подмена совершил свое дело, ненавистная триада разлетается, как карточный домик. Вы пропустили момент цветения, – упрекает российский "социолог" немецкого социалиста, – а "пропуск момента цветения имеет важное значение". Читатель видел, что "момент цветения" пропущен не Энгельсом, а г. Михайловским при изложении мысли Энгельса; он знает также, что такого рода "пропускам" в литературе придается важное, хотя и совершенно отрицательное значение. Г. Михайловский и тут пустил в дело некрасивый "момент". Но что же делать? "Триада" так ненавистна, победе так приятна, а "люди, совершенно непосвященные в тайны" известного "колпака", так легковерны!
Мы все невинны от рожденья,
Все нашей честью дорожим;
Но ведь бывают столкновенья,
Что просто нехотя грешим…
Цветок есть орган растения и, как таковой, так же мало отрицает растение, как голова г. Михайловского отрицает г. Михайловского. Но «плод», т. е., точнее, оплодотворенное яйцо, есть действительно отрицание данного организма в качестве исходной точки развития новой жизни. Энгельс и рассматривает круговорот жизни растения от начала развития его из оплодотворенного яйца до воспроизведения им оплодотворенного яйца. Г. Михайловский с ученым видом знатока замечает: «жизнь растения не с зерна начинается. Мы теперь очень хорошо знаем» и проч. – коротко сказать, мы знаем теперь, что яйцо оплодотворяется во время цветения. Энгельс, конечно, знает это не хуже г. Михайловского. Но что же это показывает? Если угодно г. Михайловскому, мы заменим зерно – оплодотворенном яйцом, но это не изменит смысла жизненного круговорота растения, не отвергнет «триады». Овес все-таки будет расти «по Гегелю».
Кстати. Допустим на минуту, что "момент цветения" ниспровергает все доводы гегельянцев. Как прикажет поступить г. Михайловский с бесцветковыми растениями? Неужели он оставит их во власти триады? Это напрасно, потому что триада будет иметь в таком случае огромное число подданных.
Но этот вопрос мы задаем собственно только, чтобы выяснить себе мысль г. Михайловского. Сами же мы остаемся при том убеждении, что от триады не отобьешься даже "цветком". Да и одни ли мы так думаем? Вот что говорит, например, специалист-ботаник Ф.Ван Тигэм: «Какова бы ни была форма растения и к какой бы группе оно ни принадлежало, благодаря этой форме, его тело происходит от другого тела, которое существовало раньше его и от которого оно отделилось. В свою очередь, оно отделяет от своей массы в известное время известные части, которые становятся точкой отправления, зародышами новых тел, и т. д. Словом, оно воспроизводится так же, как и родится: диссоциацией» [72]72
«Traité de Botanique par Ph. Van-Tieghem», 2-me édition, premiиre partie, Paris 1891, p. 24.
[Закрыть]. Извольте видеть! Почтенный ученый, член института, профессор в музее естественной истории, а рассуждает как истый гегельянец: начинается, – говорит, – диссоциацией и опять приходит к ней. И ни слова о «моменте цветения»! Мы и сами понимаем, что очень огорчительно должно быть это для г. Михайловского; но делать нечего: истина, как известно, выше Платона.
Допустим еще раз, что "момент цветения" ниспровергает триаду. Тогда, "придерживаясь терминологии Гегеля, мы получаем не трихотомию, а, по крайней мере, тетрахотомию, четверное деление". Терминология Гегеля" напоминает нам об его "Энциклопедии". Мы развертываем первую ее часть и оттуда узнаем, что есть много случаев, когда трихотомия переходит в тетрахотомию, и что вообще трихотомия господствует собственно лишь в области духа [73]73
«Enzyklopädie», Erster Teil, § 230, Zusatz.
[Закрыть]. Выходит, что овес растет «по Гегелю», как об этом уверяет Ван Тигэм, а Гегель мыслит об овсе по г. Михайловскому, как за это ручается «Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse». Чудеса да и только! «Она к нему, а он ко мне, а я к буфетчику Петруше».
Другой пример, заимствованный у Энгельса г. Михайловским для вразумления "непосвященных", касается учения Руссо.
"По Руссо, люди в естественном состоянии и дикости были равны равенством животных. Но человек отличается способностью к совершенствованию, и это совершенствование началось возникновением неравенства, а затем каждый дальнейший шаг цивилизации был противоречив: "по-видимому, это были шаги к усовершенствованию отдельного человека, в действительности же они вели к упадку человеческого рода… Металлургия и земледелие, вот два искусства, открытие которых произвело великую революцию. С точки зрения поэта, – золото и серебро, а с точки зрения философа – железо и хлеб – цивилизовали людей и погубили человеческий род". Неравенство продолжает развиваться и, достигнув своего апогея, обращается в восточных деспотиях опять во всеобщее равенство всеобщего ничтожества, то есть возвращается к своей исходной точке, а затем дальнейший процесс таким же порядком приводит к равенству общественного договора".
Так г. Михайловский передает приведенный Энгельсом пример. Как это само собою ясно, он "может спорить" и тут.
"Можно бы кое-что заметить по поводу изложения Энгельса, но нам важно только знать, что именно в трактате Руссо ("Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes") ценится Энгельсом. Он не касается вопроса о том, верно или неверно понимает Руссо ход истории, он интересуется только тем, что Руссо "мыслит диалектически": усматривает противоречие в самом содержании прогресса и располагает свое изложение так, что его можно подогнать под гегельянскую формулу отрицания и отрицания отрицания. И действительно можно, хотя Руссо и не знал гегельянской диалектической формулы".
Это только первое, аванпостное нападение на "гегельянство" в лице Энгельса. Далее идет атака sur toute la ligne.
"Руссо, не зная Гегеля, мыслил по Гегелю диалектически. Почему именно Руссо, а не Вольтер, не первый встречный? Потому, что все люди, по самой природе своей, мыслят диалектически. Однако выбран именно Руссо, человек, выделявшийся из среды современников не только по своим дарованиям, – в этом отношении ему не уступят многие, – а по самому складу своего ума и характеру миросозерцания. Столь исключительное явление не следовало, казалось бы, брать для проверки на нем всеобщего правила. Но у нас своя рука владыка. Руссо интересен и важен прежде всего потому, что он первый с достаточной резкостью показал противоречивость цивилизации, а противоречие составляет непре-менное условие диалектического процесса. Надо, однако, заметить, что противоречие, усмотренное Руссо, не имеет ничего общего с противоречием в гегельянском смысле слова. Гегелевское противоречие состоит в том, что каждая вещь, находясь в постоянном процессе движения, изменения (и именно последовательно тройственным путем) есть в каждую данную единицу времени «она» и вместе с тем «не-она». Если оставить в стороне обязательные три стадии развития, то противоречие является здесь просто как бы подкладкою изменений, движения, развития. Руссо также говорит о процессе изменений. Но отнюдь не в самом факте изменений усматривает он противоречие. Значительная часть его рассуждений, как в Discours l'inégalité, так и в других сочинениях, может быть резюмирована так: умственый прогресс сопровождался нравственным регрессом. Очевидно, диалектическое мышление тут решительно не при чем: тут нет «отрицания отрицания», а есть только указание на единовременное существование добра и зла в данной группе явлений, и все сходство с диалектическим процессом держится на слове «противоречие». Это, однако, только одна сторона дела. Энгельс видит, кроме того, в рассуждении Руссо явственную трихотомию: за первобытным равенством следует его отрицание – неравенство, затем наступает отрицание отрицания – равенство всех в восточных деспотиях перед властью хана, султана, шаха. «Эта последняя степень неравенства и есть крайняя точка, завершающая круг и возвращающая нас к нашей исходной точке». Но история на этом не останавливается, развивает новые неравенства и т. д. Приведенные в кавычках слова суть подлинные слова Руссо, и они-то особенно дороги для Энгельса, как очевидное свидетельство, что Руссо мыслит по Гегелю [74]74
Все эти выписки взяты из цитированной уже книжки «Русского Богатства».
[Закрыть].
Руссо "резко выделялся из среды современников". Это справедливо. Чем выделялся? Тем, что мыслил диалектически, между тем как его современники были почти сплошь метафизиками. Его взгляд на происхождение неравенства есть именно диалектический взгляд, хотя г. Михайловский и отрицает это.
По словам г. Михайловского, Руссо лишь указал на то, что умственный прогресс сопровождался в истории цивилизации нравственным регрессом. Нет, Руссо указал не только на это. У него умственный прогресс являлся причиной нравственного регресса. В этом можно было бы убедиться, даже не читавши сочинений Русак достаточно было бы припомнить, на основании предыдущей выписки, какую роль играла у него обработка металлов и земледелие, совершившие великую революцию, разрушившие первобытное равенство. Но кто читал самого Руссо, тот не забыл, конечно, следующего места из его «Dis-cours sur l'origine de l'inégalité»: «Il me reste à considérer et à rapprocher les différents hasards qui ont pu perfectionner la raison humaine en détériorant l'espиce, rendre un кtre méchant en le rendant sociable…» («Мне остается сделать оценку и сближение тех различных случаев, которые могли усовершенствовать человеческий разум, внося порчу в человеческий род, сделать данное животное злым, делая его общественным…»).
Это место особенно замечательно тем, что оно прекрасно освещает взгляд Руссо на способность человеческого рода к прогрессу. Об этой особенности не мало говорили и его "современники". Но у них она являлась таинственной силой, которая сама из себя творит успехи разума. По Руссо, эта способность «никогда не могла развиваться сама собою». Для своего развития она нуждалась в постоянных толчках со стороны. Это одна из важнейших особенностей диалектического взгляда на умственный прогресс сравнительно со взглядом метафизическим. Нам придется еще говорить о ней впоследствии. Теперь для нас важно то, что приведенное место, как нельзя более ясно, выражает мнение Руссо насчет причинной связи нравственного регресса с умственным прогрессом[75]75
Для сомневающихся есть еще одна выписка: «J'ai assigné ce premier degré de la décadence des mœurs au premier moment de la culture des lettres dans tous les pays du monde». Lettre à M. l'abbé Raynal, Oeuvres de Rousseau, Paris 1820, t. IV, p. 43.
[Закрыть]. А это очень важно для выяснения взгляда этого писателя на ход цивилизации. У г. Михайловского выходит так, что Руссо просто указал «противоречие» да, может быть, пролил по его поводу несколько благородных слез. На самом деле, Руссо считал это противоречие основной пружиной исторического развития цивилизации. Основателем гражданского общества и, следовательно, могильщиком первобытного равенства был человек, оградивший участок земли и сказавший: «он принадлежит мне», иначе сказать, основанием гражданского общества служит собственность, которая вызывает столько споров между людьми, вызывает в них столько жадности, так портит их нравственность. Но возникновение собственности предполагало известное развитие «техники и знаний» (de l'industrie et des lumiиres). Таким образом, первобытные отношения погибли именно благодаря этому развитию; но в то время, когда это развитие привело к торжеству частной собственности, первобытные отношения людей, с своей стороны, находились уже в таком состоянии, что их дальнейшее существование стало невозможно[76]76
См. начало второй части «Discours sur l'inégalité».
[Закрыть]. Если судить о Руссо по тому, как изображает указанное им «противоречие» г. Михайловский, можно подумать, что знаменитый женевец был не более, как плаксивым «субъективным социологом», который в лучшем случае способен был придумать высоконравственную «формулу прогресса» для уврачевания ею человеческих бедствий. На самом деле Руссо более всего ненавидел именно такого рода «формулы» и побивал их всякий раз, когда к этому представлялся случай.
Гражданское общество возникло на развалинах первобытных отношений, оказавшихся неспособными к дальнейшему существованию. Эти отношения заключали в себе зародыш своего собственного отрицания. Доказывая это положение, Руссо как бы заранее иллюстрировал мысль Гегеля: всякое явление само себя уничтожает, превращается в свою противоположность. Рассуждение Руссо о деспотизме может считаться новой иллюстрацией этой мысли.
Судите же сами, как много понимания Гегеля и Руссо обнаруживает г. Михайловский, говоря: "очевидно, диалектическое мышление тут решительно не причем", и наивно пред-полагая, что Энгельс произвольно зачислил Руссо по диалектическому ведомству лишь на том основании, что тот употребил выражения: "противоречие", "круг", "возвращение к исходной точке" и т. д.
Но почему же Энгельс сослался на Руссо, а не на кого другого? "Почему именно Руссо, а не Вольтер, не первый встречный? Потому что, ведь, все люди, по самой природе своей, мыслят диалектически"…
Ошибаетесь, г. Михайловский, – далеко не все: вас первого Энгельс никогда не принял бы за диалектика. Ему достаточно было бы прочесть вашу статью "Карл Маркс перед судом г. Ю. Жуковского", чтобы бесповоротно отнести вас к числу неисправимых метафизиков.
О диалектическом мышлении Энгельс говорит: "Люди мыслили диалектически задолго до того, как узнали, что такое диалектика, подобно тому, как они говорили прозой гораздо раньше появления слова проза. Закон отрицания, который и в природе, и в истории, а также, пока он остается непознанным, и в наших головах осуществляется бессознательно, был Гегелем только впервые резко формулирован" [77]77
«Herrn Eugen Dühring's Umwälzung etc.». Zw. Aufl., S. 134.
[Закрыть]. Как видит читатель, здесь речь идет о бессознательном диалектическом мышлении, от которого еще очень далеко до сознательного. Когда мы говорим: «крайности сходятся», мы, сами того не замечая, высказываем диалектический взгляд на вещи; когда мы движемся, мы, опять-таки не подозревая этого, занимаемся прикладной диалектикой (мы уже сказали выше, что движение есть осуществленное противоречие). Но ни движение, ни диалектические афоризмы еще не спасают нас от метафизики в области систематической мысли. Напротив. История мысли показывает, что в течение долгого времени метафизика все более и более усиливалась – и необходимо должна была усиливаться – на счет первобытной наивной диалектики: "Разложение природы на отдельные ее части; распределение различных явлений и предметов природы по определенным классам, исследование внутренних свойств органических тел, в связи с разнообразием их органического строения, – все это было основой тех исполинских успехов, которыми ознаменовалось естествознание в последние четыре столетия. Но вместе с тем эта же причина наделила нас привычкой брать явления и предметы природы в их обособленности, вне их великой совокупной связи, и притом не в движении, а в неподвижном состоянии, не как существенно изменяющиеся, а как вечно неизменные, не как живые, а как мертвые. И этот-то способ исследования, перенесенный Бэконом и Локком из естествознания в философию, причинил характеристическую односторонность последних столетий – метафизическое мышление".
Так говорит Энгельс, от которого мы узнаем также, что "хотя и в новой философии диалектика имела блестящих представителей (Декарт и Спиноза), но, особенно под влиянием английской философии, она все более и более склонялась к… метафизическому способу мышления, почти исключительно овладевшему также и французами XVIII века, по крайней мере, в их специально философских трудах. Вне этой области они смогли, однако, оставить нам высокие образцы диалектики: припомним только «Племянника Рамо» Дидро и сочинение Руссо "О происхождении неравенства между людьми"[78]78
Там же, стр. 4–6.
[Закрыть].
Кажется, ясно, почему Энгельс говорит о Руссо, а не о Вольтере и не о первом встречном. Мы не смеем думать, что г. Михайловский не прочел той самой книги Энгельса, которую он цитирует, из которой берет разбираемые им "примеры". И если г. Михайловский пристает к Энгельсу "с первым встречным", то остается предположить одно: наш автор и здесь пускает в ход уже знакомый нам "момент" подмена, "момент"… целесообразного искажения слов своего противника. Эксплуатация подобного "момента" могла показаться ему тем более удобной, что книга Энгельса не переведена на русский язык и не существует для читателей, незнающих по-немецки. Тут у нас "своя рука владыка". Тут новое искушение, и опять «мы нехотя грешим».
Но отдохнем от г. Михайловского. Вернемся к немецким идеалистам anund für sich.
Мы сказали, что философия природы была слабою стороною этих мыслителей, главных заслуг которых надо искать в различных областях философии и истории. Теперь мы прибавим, что иначе и быть не могло в то время. Философия, называвшая себя наукой наук, всегда имела в себе много «светского содержания», т. е. всегда занималась многими собственно-научными вопросами. Но в различные времена «светское содержание» ее было различно. Так, – чтобы ограничиться здесь примерами из истории новой философии, – в XVII веке философы преимущественно занимались вопросами математики и естественных наук. Философия XVIII века воспользовалась для своих целей естественнонаучны-ми открытиями и теориями предыдущей эпохи, но сама она занималась естественными науками разве в лице Канта; во Франции на первый план выступили тогда общественные вопросы. Те же вопросы продолжали главным образом занимать собою, хотя и с другой стороны, и философов XIX столетия. Шеллинг, например, прямо говорил, что он считает решение одного исторического вопроса важнейшей задачей трансцендентальной философии. Каков был этот вопрос, мы скоро увидим.
Если все течет, все изменяется; если всякое явление само себя отрицает; если нет такого полезного учреждения, которое не стало бы, наконец, вредным, превратившись таким образом в свою собственную противоположность, то выходит, что нелепо искать "совершенного законодательства", что нельзя придумать такое общественное устройство, которое было бы лучшим для всех веков и народов: все хорошо на своем месте и в свое время. Диалектическое мышление исключало всякие утопии.
Оно тем более должно было исключать их, что "человеческая природа", это будто бы постоянный критерий, которым, как мы видели, неизменно пользовались и просветители XVIII века, и социалисты-утописты первой половины XIX столетия, испытала общую судьбу всех явлений: она сама была признана изменчивой.
Вместе с этим исчез и тот наивно-идеалистический взгляд на историю, которого также одинаково держались и просветители, и утописты и который выражается в словах: разум, мнения правят миром. Конечно, разум, – говорил Гегель, – правит историей, но в том же смысле, в каком он правит движением небесных светил, т. е. в смысле законосообраз-ности. Движение светил законосообразно, но они не имеют, разумеется, никакого представления об этой законосообразности. То же и с историческим движением человечества. В нем, без всякого сомнения, есть свои законы; но это не значит, что люди сознают их и что, таким образом, человеческий разум, наши знания, наша «философия» являются главными факторами исторического движения. Сова Минервы начинает летать только ночью. Когда философия начинает выводить свои серые узоры на сером фоне, когда люди начинают вдумываться в свой собственный общественный строй, вы можете с уверенностью сказать, что этот строй отжил свое время и готовится уступить место новому порядку, истинный характер которого опять станет ясен людям лишь после того, как сыграет свою историческую роль: сова Минервы опять вылетит только ночью. Нечего и говорить, что периодические воздушные путешествия мудрой птицы очень полезны; они даже совершенно необходимы. Но они ровно ничего не объясняют; они сами нуждаются в объяснении и, наверное, подлежат ему, потому что в них есть своя законосообразность.








