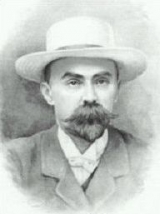
Текст книги "Обоснование и защита марксизма .Часть первая"
Автор книги: Георгий Плеханов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
Связь правовых понятий людей с их экономическим бытом хорошо выясняется тем примером, который охотно и часто приводил в своих сочинениях Родбертус. Известно, что древние римские писатели энергично восставали против ростовщичества. Катон-цензор находил, что ростовщик вдвое хуже вора (так и говорил старик: ровно вдвое). В этом отношении с языческими писателями совершенно сходились отцы христианской церкви. Но – замечательное дело! – и те, и другие восставали против процента, приносимого денежным капиталом. К ссудам же натурой и к лихве, приносимой ими, они относились несравненно мягче. Почему эта разница? Потому, что именно денежный, ростовщический капитал производил страшное опустошение в тогдашнем обществе, потому что именно он «губил Италию». Правовое «убеждение» и здесь шло рука об руку с экономией.
"Право есть чистый продукт необходимости или, точнее, нужды, – говорит Пост, – напрасно стали бы мы искать в нем какой бы то ни было идеальной основы" [114]114
«Der Ursprung des Rechts. Prolegomena zu einer allgemeinen vergleichenden Rechtswissenschaft» von Dr. Alb. Herm. Post, Oldenburg 1876.
[Закрыть]. Мы сказали бы, что это – совершенно в духе новейшей науки права, если бы наш ученый не обнаруживал довольно значительного и очень вредного по своим последствиям смешения понятий.
Говоря вообще, всякий социальный союз стремится выработать такую систему права, которая бы наилучше удовлетворяла его нуждам, которая была бы наиболее полезна для него в данное время. То обстоятельство, что данная совокупность правовых учреждений полезна или вредна для общества, никоим образом не может зависеть от свойств какой бы то ни было или чьей бы то ни было "идеи": оно зависит, как мы видели, от тех способов производства и от тех взаимных отношении между людьми, которые создаются этими способами. В этом смысле у права нет и не может быть идеальной основы, так как основа его всегда реальна. Но реальная основа всякой данной системы права не исключает идеального отношения к ней со стороны членов данного общества. Взятое в целом, общество только выиграет от такого отношения к ней его членов. Наоборот, в переходные его эпохи, когда существующая в обществе система права уже не удовлетворяет его нуждам, выросшим вследствие дальнейшего развития производительных сил, передовая часть населения может и должна идеализировать новую систему учреждений, более соответствующую «духу времени». Французская литература полна примерами такой идеализации нового, наступающего порядка вещей.
Происхождение права из «нужды» исключает «идеальную» основу права только в представлении тех людей, которые привыкли относить нужды к области грубой материи и противопоставлять эту область «чистому», чуждому всяких нужд «духу». В действительности "идеальное только то, что полезно людям, и всякое общество при выработке своих идеалов руководствуется только своими нуждами. Кажущиеся исключения из этого неоспоримо общего правила объясняются тем, что, вследствие развития общества, его идеалы нередко отстают от его новых нужд[115]115
Пост именно принадлежит к числу людей, которые далеко еще не покончили с деализмом. Так, на-пример, у него родовой союз соответствует охотничьему и кочевому быту; с появлением же земледелия и связанной с ним оседлости родовой союз уступает место Baugenossenschaft" (мы сказали бы: соседской общине). Кажется, ясно, что человек ищет ключа к объяснению истории общественных отношений ни в чем ином, как в развитии производительных сил? В отдельных случаях. Пост почти всегда верен такому направлению. Но это не мешает ему смотреть на. «im Menschen schaffend ewigen Geist», как на основную причину истории правя. Этот человек как будто нарочно создан для того, чтобы радовать г. Кареева.
[Закрыть].
Сознание зависимости общественных отношений от состояния производительных сил все более и более проникает в современную общественную науку, несмотря на неизбежный эклектизм множества ученых, несмотря на их идеалистические предрассудки. "Подобно тому, как сравнительная анатомия возвысила на степень научной истины латинскую поговорку: «покогтям узнаю льва», так народоведение может от вооружения данного народа с точностью умозаключить о степени его цивилизации", – говорит уже цитированный нами Оскар Пешель [116]116
L. с., S. 139. Когда мы делали эту выписку, нам представилось, что г. Михайловский быстро поднимается с своего места, восклицая: «Я могу спорить против этого: китайцы могут быть вооружены английскими ружьями. Позволительно ли на основании этих ружей судить о степени их цивилизации?». Очень хорошо.
[Закрыть] – …
"Со способом добывания пищи теснейшим образом связано расчленение общества. Всюду, где человек соединяется с человеком, является известная власть. Слабее всего общественные узы у бродячих охотничьих орд Бразилии… Пастушеские племена находятся по большей части под властью патриархальных владык, так как стада принадлежат обыкновенно одному господину, которому служат его соплеменники, или прежде независимые, а впоследствии обедневшие обладатели стад. Пастушескому образу жизни преимущественно, хотя и не исключительно, свойственны великие передвижения народов, как на севере Старого Света, так и в южной Африке; напротив, история Америки знает только частные нападения диких охотничьих племен на привлекательные для них нивы культурных народов. Целые народы, покидая свои прежние места жительства, могли совершать большие, продолжительные походы лишь в сопровождении своих стад, которые составляли им в пути необходимую пищу. Кроме того, степное скотоводство само побуждает к перемене пастбищ. С оседлым же образом жизни и земледелием тотчас является стремление воспользоваться трудом рабов… Рабство рано или поздно ведет к тирании, так как тот, кто имеет наибольшее число рабов, может с их помощью подчинить своему произволу слабейших… Разделение на свободных и рабов есть начало сословного разделения общества [117]117
L. с. S.S. 252–253.
[Закрыть].
У Пешеля много соображений такого рода. Одни из них совершенно справедливы и очень поучительны; против других "можно спорить" не одному только г. Михайловскому. Но для нас важны здесь не частности, а общее направление мысли Пешеля. А это общее направление совершенно совпадает с тем, которое мы заметили уже у г. Ковалевского: в способах производства, в состоянии производительных сил ищет он объяснения истории права и даже всего общественного устройства.
А это именно и есть то, что давно уже и настоятельно советовал делать Маркс людям общественной науки. А в этом и заключается в значительной степени, хотя и не вполне (читатель ниже увидит, почему мы говорим: не вполне), смысл того знаменитого предисловия к "Zur Kritik der Politischen Ökonomie", которому так не повезло у нас в России, которое было так страшно и так странно плохо понято большинством русских писателей, читавших его в подлиннике или в извлечениях.
г. Михайловский: от английских ружей нелогично умозаключать к китайской цивилизации; от них надо заключать именно к английской цивилизации.
"В общественном производстве своей жизни люди наталкиваются на известные, необходимые, от их воли независящие отношения – отношения производства, которые соответствуют определенной степени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих отношений производства составляет экономическую структуру общества, реальную основу, на которой возвышается юридическая и политическая надстройка".
Гегель говорит о Шеллинге, что у этого философа основные положения системы остаются неразвитыми, и абсолютный дух является неожиданно, как пистолетный выстрел (wie aus der Pistole geschossen). Когда средний русский интеллигент слышит, что у Маркса «все сводится к экономической основе» (иные говорят просто: «к экономическому»), он теряется, как будто над его ухом неожиданно выстрелили из пистолета: «да почему же к экономическому?» – спрашивает он в тоске и недоумении. «Слова нет, важно и экономическое (особенно для бедных крестьян и рабочих). Но ведь не менее же важно и умственное (особенно для нас, для интеллигенции)». Предыдущее изложение, надеемся, показало читателю, что недоумение среднего российского интеллигента происходит в этом случае лишь оттого, что он, интеллигент, всегда был несколько беззаботен насчет «особенно важного» для него «умственного». Когда Маркс говорил, что «анатомию гражданского общества надо искать в его экономии», он вовсе не думал смущать ученый мир неожиданными выстрелами: он лишь давал прямой и точный ответ на «проклятые вопросы», мучившие мыслящие головы в течение целого века.
Французские материалисты, последовательно развивая свои сенсуалистические взгляды, пришли к тому выводу, что человек со всеми своими мыслями, чувствами и стремлениями составляет продукт окружающей его общественной среды. Чтобы идти дальше в применении материалистического взгляда к учению о человеке, надо было решить вопрос о том, чем же обусловливается строение общественной среды и каковы законы ее развития. Французские материалисты не умели ответить на этот вопрос, и тем самым вынуждены были изменить себе, вернуться на старую, ими столь резко осужденную, идеалистическую точку зрения: они говорили, что среда создается «мнением» людей. Не довольствуясь этим поверхностным ответом, французские историки времен реставрации поставили себе целью анализировать общественную среду. Результатом их анализа был тот чрезвычайно важный для науки вывод, что политические конституции коренятся в социальных отношениях, а социальные отношения определяются состоянием собственности. Вместе с этим выводом перед наукою возникал новый вопрос, не разрешив которого она не могла двинуться дальше: от чего же зависит состояние собственности? Разрешение этого вопроса оказалось не по силам французским историкам времен реставрации, и они вынуждены были отговариваться от него ровно ничего не объясняющими соображениями о свойствах человеческой природы. Жившие и действовавшие одновременно с ними великие идеалисты Германии – Шеллинг и Гегель – уже хорошо понимали неудовлетворительность точки зрения человеческой природы. Гегель едко подсмеивался над нею. Они понимали, что ключа к объяснению исторического движения человечества надо искать вне природы человека. Это было большей заслугой с их стороны, но, чтобы эта заслуга оказалась вполне плодотворной для науки, надо было показать, где же именно следует искать этого ключа. Они искали его в свойствах духа, в логических законах развития абсолютной идеи. Это было коренной ошибкой великих идеалистов, возвращавшей их, окольным путем к точке зрения человеческой природы, так как абсолютная идея, – мы уже видели это, – есть не что иное, как олицетворение нашего логического процесса мышления. Гениальное открытие Маркса исправляет эту коренную ошибку идеализма, тем самым нанося ему смертельный удар: состояние собственности, а с ним и все свойства социальной среды (в главе об идеалистической философии мы видели, что и Гегель вынужден был признавать решающее значение «состояния собственности») определяются не свойствами абсолютного духа и не характером человеческой природы, а теми взаимными отношениями, в которые люди по необходимости становятся друг к другу «в общественном процессе производства своей жизни», т. е. в своей борьбе за существование. Маркса часто сравнивали с Дарвином, – сравнение, приводящее в смешливое настроение гг. Михайловского, Кареева и братию их. Ниже мы скажем, в каком смысле надо понимать это сравнение, хотя, вероятно, и без нас уже видят это многие читатели; теперь же мы позволим себе, не во гнев нашим субъективным мыслителям, другое сравнение.
До Коперника астрономия учила, что земля есть неподвижный центр, вокруг которого обращаются солнце и другие небесные светила. С помощью этого взгляда невозможно было объяснить очень многие явления небесной механики. Гениальный поляк подошел к делу их объяснения с совершенно противоположной стороны: он предположил, что не солнце вращается вокруг земли, а, наоборот, земля вокруг солнца, и правильная точка зрения была найдена, и многое стало ясно из того что было не ясно до Коперника. – До Маркса люди общественной науки исходили из понятия о человеческой природе; благодаря этому оставались неразрешимыми важнейшие вопросы человеческого развитая. Учение Маркса придало делу совершенно другой оборот: между тем как человек, для поддержания своего существования, сказал Маркс, воздействует на природу вне его, он изменяет свою собственную природу. Следовательно, дело научного объяснения исторического развития надо начинать с противоположного конца: надо выяснить, каким образом совершается этот процесс производительного воздействия человека на внешнюю природу. По своей великой важности для науки это открытие может быть смело поставлено наряду с открытием Коперника и вообще наряду с величайшими, плодотворнейшими научными открытиями.
Собственно говоря, до Маркса общественная наука была гораздо более лишена твердой основы, чем астрономия до Коперника. Французы называли и называют все науки, имеющие дело с человеческим обществом, sciences morales et politiques, в отличие от "sciences", «наук» в собственном смысле этого слова, которые признавались и признаются единственно точными науками. И надо сознаться, что до Маркса общественная наука не была и не могла быть точной. Пока ученые апеллировали к человеческой природе, как к верховной инстанции, они по необходимости должны были объяснять общественные отношения людей их взглядами, их сознательною деятельностью; но сознательная деятельность есть такая деятельность человека, которая необходимо должна представляться ему деятельностью свободной. Свободная же деятельность исключает понятие о необходимости, т. е. законосообразности, а законосообразность есть необходимая основа всякого научного объяснения явлений. Представление о свободе заслоняло собою понятие о необходимости и тем мешало развитию науки. Эту аберрацию можно до сих пор с поразительной ясностью наблюдать в «социологических» произведениях «субъективных» русских писателей.
Но мы уже знаем: свобода должна быть необходимостью. Заслоняя понятие о необходимости, представление о свободе само сделалось до крайности тусклым и очень мало утешительным. Выгнанная в дверь необходимость влетала в окно; исходя из представления о свободе, исследователи поминутно наталкивались на необходимость и приходили, в конце концов, к печальному признанию ее рокового, неотразимого, ничем непреоборимого действия. К их ужасу, свобода оказывалась вечной, беспомощной и безнадежной данницей, бессильной игрушкой в руках слепой необходимости. И поистине трогательно то отчаяние, в которое приходили по временам самые ясные, самые благородные идеалистические головы. «Уже в течение нескольких дней я каждую минуту берусь за перо, – говорит Георг Бюхнер, – но не могу написать ни слова Я изучал историю революции. Я чувствовал себя как бы раздавленным ужасным фатализмом истории. Я вижу в человеческой природе отвратительную заурядность, в человеческих же отношениях непреодолимую силу, принадлежащую всем вообще и никому в частности. Отдельная личность есть лишь пена на поверхности волны, величие – лишь случай, власть гения – лишь кукольная комедия, смешное стремление бороться против железного закона, который в лучшем случае можно лишь узнать, но который невозможно подчинить своей воле» [118]118
В письме к невесте, писанном в 1833 г. Примечание для г. Михайловского. Это не тот Бюхнер, который проповедовал материализм в «общефилософском смысле»; это его рано умерший брат, автор знаменитой трагедии «Смерть Дантона».
[Закрыть]. Можно сказать, что уже для избежания таких припадков вполне, впрочем, законного отчаяния стоило хоть на время покинуть старую точку зрения и попытаться освободить свободу, апеллируя к этой же самой, глумящейся над нею, необходимости; следовало еще раз пересмотреть выдвинутый уже идеалистами-диалектиками вопрос о том, не вытекает ли свобода из необходимости, не составляет ли эта последняя единственной твердой основы, единственной прочной гарантии, неизбежного условия человеческой свободы?
Мы увидим, к чему приводит подобная попытка у Маркса. Но предварительно постараемся выяснить себе его исторические взгляды так, чтобы у нас не оставалось на их счет уже никаких недоразумений.
На почве данного состояния производительных сил слагаются известные отношения производства, которые получают свое идеальное выражение в правовых понятиях людей и в более или менее "отвлеченных правилах", в неписаных обычаях и писанных законах. Доказывать это нам уже нет надобности: это, как мы видели, доказывает за нас современная наука права (пусть читатель припомнит, что говорит по этому поводу г. Ковалевский). Но не мешает взглянуть на это дело с другой именно вот с какой стороны. Раз мы выяснили себе, каким образом правовые понятия людей создаются их отношениями производства, нас уже не удивят следующие слова Маркса: «Не сознание людей определяет их бытие (т. е. форму их общественного существования), а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание». Теперь мы уже знаем, что, по крайней мере, по отношению к одной области сознания, это действительно так, и почему это так. Нам остается только решить, всегда ли это так и если да, то почему же это всегда так? Будем держаться пока тех же правовых понятий.
"На известной ступени своего развития производительные силы общества вступают в противоречие с существующими в этом обществе отношениями производства, или, выражая то же самое юридическим языком, – с отношениями собственности, внутри которых они развивались до сих пор. Из форм, содействовавших развитию производительных сил, эти отношения превращаются в препятствие для их развития. Тогда наступает эпоха общественного переворота".
Общественная собственность на движимость и недвижимость возникает вследствие того, что она удобна, больше того – необходима для процесса первобытного производства. Она поддерживает существование первобытного общества, она содействует дальнейшему развитию его производительных сил, и люди держатся за нее, они считают ее естественной и необходимой. Но вот, благодаря этим отношениям собственности и внутри их, производительные силы развились настолько, что открылось более широкое поле для приложения индивидуальных усилий. Теперь общественная собственность становится в некоторых случаях вредной для общества, она препятствует дальнейшему развитию его производительных сил и потому она уступает место личному присвоению: в правовых учреждениях общества совершается более или менее быстрый переворот. Этот переворот необходимо сопровождается переворотом в правовых понятиях людей: люди, которые прежде думали. что хороша только общественная собственность, стали думать теперь, что в некоторых случаях лучше единичное присвоение. Впрочем, нет, мы выражаемся неточно, мы изображаем, как два отдельных процесса, то, что совершенно неразделимо, что представляет лишь две стороны одного и того же процесса: вследствие развития производительных сил должны были измениться фактические отношения людей в процессе производства, и эти новые фактические отношения выразились в новых правовых понятиях.
Г. Кареев уверяет нас, что материализм так же односторонен в применении к истории, как и идеализм. И тот, и другой представляют собою, по его мнению, лишь "моменты" в развитии полной научной истины. "За первым и вторым моментами надлежит наступить третьему моменту: односторонности тезиса и антитезы найдут свое примирение в синтезе, как выражении полной истины" [119]119
«Вестн. Европы», июль 1894 г., стр. 6.
[Закрыть]. Это будет очень интересный синтез. «В чем будет заключаться такой синтез, – я пока говорить не стану». Жаль! К счастью, наш «историософ» не очень строго соблюдает эту, наложенную им самим на себя, заповедь молчания. Он немедленно дает понять, в чем будет заключаться и откуда вырастает та полная научная истина, которая со временем будет понятна, наконец, всем просвещенным человечеством, а пока известна лишь г. Карееву. Она вырастет из следующих соображений: «Каждая человеческая личность, состоя из тела и души, ведет двоякую жизнь – физическую и психическую, не являясь перед нами ни исключительно плотью с ее материальными потребностями, ни исключительно духом с его потребностями интеллектуальными и моральными. И у тела, и у души человека есть свои потребности, ищущие своего удовлетворения и ставящие отдельную личность в различное отношение к внешнему миру, т. е. к природе и другим людям, т. е. к обществу, и эти отношения бывают двоякого рода» [120]120
Там же, стр. 7.
[Закрыть].
Что человек состоит из души и тела, это "синтез" справедливый, хотя и не то, чтобы уже очень новый. Если г. профессор знаком с историей новейшей философии, то он должен же знать, что об него, об этот самый синтез, она обламывала свои зубы в течение целых столетий, не будучи в состоянии справиться с ним, как следует. И если он воображает, что этот "синтез" откроет ему "сущность исторического процесса", то сам г. В. В. должен будет согласиться, что с его "профессором" происходит что-то неладное, и что не г. Карееву суждено стать Спинозой "историософии".
С развитием производительных сил, ведущих к изменению взаимных отношений людей в общественном процессе производства, изменяются все отношения собственности. Но ведь еще Гизо говорил нам, что в отношениях собственности коренятся политические конституции. Это вполне подтверждается новейшей наукой. Кровный союз уступает место территориальному союзу именно вследствие перемен, возникших в отношениях собственности. Более или менее крупные территориальные союзы сливаются в организмы, называемые государствами, опять-таки вследствие уже совершившихся перемен в отношениях собственности или вследствие новых нужд общественного производственного процесса. Это прекрасно выяснено, например, по отношению к крупным государствам Востока [121]121
См. книгу покойного Л. Мечникова о «великих исторических реках». В этой книге автор, в сущности, лишь подвел итог тем выводам, к которым пришли наиболее авторитетные историки-специалисты, например, Ленорман. Элизе Реклю в предисловии к названной книге говорит, что взгляд Мечникова составит эпоху в истории науки. Это неверно в том смысле, что этот взгляд не нов: еще Гегель высказывал его самым определенным образом. Но несомненно, что наука чрезвычайно много выиграет, если будет последовательно держаться его.
[Закрыть]. Не менее хорошо выяснено это и по отношению к античным государствам [122]122
См. книгу Моргана: «Ancient society» и книгу Энгельса: «Происхождение семьи, частной собственности и государства».
[Закрыть]. И вообще не трудно показать это по отношению ко всякому данному государству, о происхождении которого у нас есть достаточно сведений. При этом нужно только не суживать, умышленно или неумышленно, взгляд Маркса. Мы хотим сказать вот что.
Данным состоянием производительных сил обусловливаются внутренние отношения данного общества. Но ведь этим же состоянием обусловливаются и внешние его отношения к другим обществам. На почве этих внешних отношений у общества являются новые нужды, для удовлетворения которых вырастают новые органы. При поверхностном взгляде на дело, взаимные отношения отдельных обществ представляются, как ряд «политических» действий, не имеющих прямого отношения к экономии. В действительности, в основе междуобщественных отношений лежит именно экономия, определяющая собою как действительные (а не внешние только) поводы к междуплеменным и международным отношениям, так и их результат. Каждой ступени в развитии производительных сил соответствует своя система вооружения, своя военная тактика, своя дипломатия, свое международное право. Конечно, можно указать много случаев, в которых международные столкновения не имеют прямого отношения к экономии. И никому из последователей Маркса не придет в голову оспаривать существование таких случаев. Они говорят только: не останавливайтесь на поверхности явлений, спускайтесь глубже, спросите себя, на какой почве выросло данное международное право? Что создало возможность данного рода международных столкновений? – и вы придете, в конце концов, к экономии. Правда, рассмотрение отдельных случаев затрудняется тем, что в борьбу вступают нередко общества: переживающие неодинаковые фазисы экономического развития.
Но тут нас прерывает хор проницательных противников. "Хорошо, – кричат они, – допустим, что политические отношения коренятся в экономических. Но раз даны политические отношения, они, – откуда бы ни взялись, – в свою очередь влияют на экономию. Следовательно, тут существует взаимодействие и ничего, кроме взаимодействия".
Это возражение не придумано нами. До какой степени оно ценится противниками "экономического материализма", показывает следующее "истинное происшествие".
Маркс в своем "Капитале" приводит факты, показывающие, что английская аристокра-тия пользовалась своей политической властью для того, чтобы обделывать свои делишки по части землевладения. Доктор Пауль Барт, написавший "критический опыт" под названием: "Die Geschichlsphilosophie Hegel's und der Hegelianer", ухватился за это, чтобы упрекнуть Маркса в противоречии: сами же, дескать, признаете, что тут существует взаимодействие, а для доказательства того, что взаимодействие действительно существует, наш доктор ссылается на книгу Штэрнега, писателя, много сделавшего для исследования экономической истории Германии. Г. Кареев думает, что "страницы, посвященные в книге Барта критике экономического материализма, могут быть указаны в качестве образчика того, как следует решать вопрос о роли экономического фактора в истории". Само собою разумеется, что он не преминул указать читателям на возражения Барта и на авторитетное заявление Инамы-Штэрнега, "который даже формулирует такое общее положение, что взаимодействие между политикой и хозяйством является основной чертой развития всех государств и всех народов". Надо хоть немного разобраться в этой путанице.
Во-первых, что, собственно, говорит Инама-Штэрнег? По поводу каролингского периода экономической истории Германии он делает следующее замечание: "Взаимодействие между политикой и хозяйством, составляющее основную черту развития всех государств и всех народов, можно проследить здесь самым точным образом. Политическая роль, выпадающая на долю данного народа, оказывает решительное влияние на дальнейшее развитие его сил, на склад и выработку его социальных учреждений; точно так же внутренняя сила, присущая народу, и естественные законы ее развития определяют собою меру и род его политической деятельности. Совершенно так, политическая система Каролингов не менее повлияла на социальный строй, на хозяйственные отношения, в которых народ жил в то время, чем стихийные силы народа, его хозяйственная жизнь повлияла на направление этой политической системы, наложив на нее своеобразную печать [123]123
«Deutsche Wirtschaftgeschichte bis zum Schluß der Karolingenperiode», I Band, Leipzig 1889 SS. 223–234.
[Закрыть]. И только. Это немного, но это немногое считается достаточным для того, чтобы опровергнуть Маркса.
Припомним теперь, во-вторых, что говорит Маркс об отношении экономии к праву и политике.
"Правовые и политические учреждения складываются на почве фактических отношений людей в общественном процессе производства. До поры, до времени эти учреждения содействуют дальнейшему развитию производительных сил народа, процветанию его экономической жизни". Это точные слова Маркса; и мы спрашиваем первого встречного добросовестного человека, заключается ли в этих словах отрицание значения политических отношений в развитии экономии и опровергают ли Маркса те люди, которые напоминают ему об этом значении? Не правда ли, такого отрицания у Маркса нет и следа, и что указанные люди ровно ничего не опровергают? До такой степени-правда, что считаться приходится с вопросом не о том, опровергнут ли Маркс, а о том, отчего же так плохо его поняли? А на этот вопрос мы можем ответить только французской пословицей: la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Критики Маркса не могут превзойти ту меру понимания, которая отпущена им благодетельной натурой {Маркс говорит: «Всякая классовая борьба есть борьба политическая». Следовательно, умозаключает Барт, политика, по вашему, совсем не влияет на экономию, а между тем вы сами же приводите факты, показывающие… и прочее. – Браво, – восклицает г. Кареев, – вот это я называю образцом того, как надо спорить с Марксом. «Образец» г. Кареева вообще обнаруживает удивительную силу мысли. «Руссо, – говорит образец, – жил в обществе, где до крайности были доведены сословные различия и привилегии, где все подчинены были всемогущему деспотизму; и однако, заимствованный из древности метод рационально-го построения государства, – метод, которым пользовались также Гоббс и Локк, привел Руссо к созданию идеала общества, основанного на всеобщем равенстве и самодержавии народа. Этот идеал совершенно про-тиворечил существовавшему во Франции строю. Теория Руссо была осуществлена конвентом на практике; стало быть, философия повлияла на политику, а через ее посредство и на экономию» (L. с., S. 58).
Как вам нравится эта блестящая аргументация, в интересах которой Руссо, сын бедного женевского республиканца, оказался продуктом аристократического общества? Оспаривать г. Барта значит вдаваться в повторения. Но что сказать о г. Карееве, рукоплещущем Барту? Ах, г. В. В., плох, ей-богу, плох ваш "профессор истории"! Советуем вам совершенно бескорыстно: ищите себе нового "профессора".}.
Взаимодействие между политикой и экономией существует. Это так же несомненно, как и то, что г. Кареев не понимает Маркса. Но существование взаимодействия запрещает ли нам идти дальше в деле анализа общественной жизни? Нет, думать так – значило бы почти то же самое, что вообразить, будто непонимание, обнаруживаемое г. Кареевым, может помешать нам добраться правильных «историософических» понятий.
Политические учреждения влияют на хозяйственную жизнь. Они – или содействуют развитию этой жизни, или препятствуют ему. Первый случай нисколько не удивителен с точки зрения Маркса, так как данная политическая система затем и создается, чтобы содействовать дальнейшему развитию производительных сил (сознательно или бессознательно создается – для нас в данном случае решительно все равно). Второй случай нисколько не противоречит этой точке зрения, так как исторический опыт показывает, что раз данная политическая система перестает соответствовать состоянию производительных сил, раз она превращается в препятствие для их дальнейшего развития, она начинает клониться к упадку и, наконец, устраняется. И, мало того, что этот случай не противоречит учению Маркса: он наилучшим образом его подтверждает, потому что именно он показывает, в каком смысле экономия господствует над политикой, каким образом развитие производительных сил опережает политическое развитие народа.
Экономическая эволюция ведет за собою правовые перевороты. Нелегко понять это метафизику, который, – хотя и кричит о взаимодействии, – привык рассматривать явление одно после другого и одно независимо от другого. Напротив, без труда понимает это человек, хоть немного способный к диалектическому мышлению. Он знает, что количественные изменения, постепенно накопляясь, приводят, наконец, к изменениям качества и что эти изменения качеств представляют собою моменты скачков, перерывов постепенности.
Тут уже наши противники не выдерживают и произносят свое "слово и дело": да ведь так рассуждал Гегель, кричат они. Так поступает вся природа, отвечаем мы.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Применительно к истории эту пословицу можно видоизменить так: сказка сказывается очень просто, а дело делается до крайности сложно. Ведь это легко сказать: развитие производительных сил ведет за собою перевороты в правовых учреждениях! Перевороты эти представляют собою сложные процессы, в течение которых интересы отдельных членов общества группируются самым прихотливым образом. Одним выгодно поддерживать старые порядки, – и они отстаивают их всеми зависящими от них средствами. Для других старые порядки стали уже вредны и ненавистны, они нападают на них со всею тою силою, какою они располагают. И это еще не все. Интересы новаторов тоже далеко не всегда одинаковы: одним важнее одни реформы, другим – другие. Споры возникают в самом лагере реформаторов, борьба усложняется. И хотя, по справедливому замечанию г. Кареева, человек состоит из души и тела, борьба за самые несомненные материальные интересы необходимо ставит перед спорящими сторонами самый несомненно-духовный вопрос: вопрос о справедливости. Насколько противоречит ей старый порядок? Насколько согласны с нею новые требования? Эти вопросы неизбежно возникают в умах борющихся, хотя борющиеся не всегда назовут справедливость просто справедливостью, а, может быть, олицетворят ее в виде какой-нибудь человекоподобной или даже звероподобной богини. Так, вопреки заклятию, наложенному на них г. Кареевым, «тело» порождает «душу»: экономическая борьба вызывает нравственные вопросы, а «душа» при ближайшем рассмотрении оказывается «телом»: «справедливость» староверов нередко оказывается интересом эксплуататоров.








