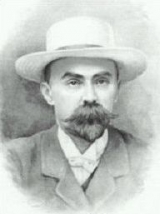
Текст книги "Обоснование и защита марксизма .Часть первая"
Автор книги: Георгий Плеханов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)
Ясно, что рецензент не понял или не хотел понять мысли Буля, но для нас это не важно. Мы обратились к Германии лишь для того, чтобы с помощью уроков, даваемых ее историей, лучше разобраться в некоторых умственных течениях современной России. А в этом смысле движение немецкой интеллигенции сороковых годов заключает в себе много поучительного для нас.
Во-первых, аргументация Буля напоминает нам аргументацию г. Н.-она. И тот, и другой начинают указанием на развитие производительных сил, как на причину понижения спроса на труд и, следовательно, относительного уменьшения числа рабочих. И тот, и другой говорит о переполнении внутреннего рынка и о вытекающей из этого неизбежности дальнейшего уменьшения спроса на рабочую силу. Буль не признавал, по-видимому, возможности завоевания немцами иностранных рынков; г. Н.-он решительно не признает этой возможности по отношению к русским промышленникам. Наконец, и у того, и у другого этот вопрос об иностранных рынках остается совершенно не исследованным: ни тот, ни другой не приводят в пользу своего мнения ни одного серьезного довода.
Буль не делает из своего исследования другого явного вывода, кроме того, что надо хорошо вдуматься в положение рабочего класса, прежде чем помогать ему. Г. Н.-он приходит к тому заключению, что перед нашим обществом стоит, правда, трудная, однако не неразрешимая задача организовать наше национальное производство. Но если дополнить взгляды Буля теми соображениями, которые высказал по поводу их цитированный нами рецензент журнала "Der Gesellschafts-Spiegel", то получится как раз вывод г. Н.-она. Г. Н.-он=Буль+рецензент. А эта "формула" наводит нас вот на какие размышления.
Г. Н.-она называют у нас марксистом и даже единым "истинным" марксистом. Но можно ли сказать, что сумма взглядов Буля и рецензента на положение Германии сороковых годов равнялась взглядам Маркса на то же положение? Другими словами, был ли Буль, – дополненный рецензентом, – марксистом, и притом единым истинным марксистом, марксистом par excellence? Конечно, нет. Из того, что Буль указывал на противоречие, в которое попадает капиталистическое общество, благодаря развитию производительных сил, еще не следует, что он стоял на точке зрения Маркса. Он рассматривал эти противоречия с очень отвлеченной точки зрения, и уже благодаря одному этому его исследование не имело, по духу своему, ничего общего со взглядами Маркса. Наслушавшись Буля, можно было подумать, что немецкий капитализм не сегодня, завтра задохнется под тяжестью собственного развития, что ему дальше идти уже некуда, что промыслы окончательно капитализированы и что число немецких рабочих быстро пойдет на убыль. Таких взглядов Маркс не высказывал. Напротив, когда ему случалось говорить в конце сороковых годов, а в особенности в начале пятидесятых годов, о ближайшей судьбе немецкого капитализма, он говорил совсем другое. Только люди, совершенно не понимавшие его взглядов, могли бы признать истинными марксистами немецких Н.-онов [176]176
Н.-онов было много в тогдашней Германии, и самых различных направлений. Замечательнее всего, может быть, консервативные. Так, например, доктор Карл Фолльграф, ordentlicher Professor der Rechte, в брошюре, носящей чрезвычайно длинное заглавие («Von der über und unter ihr naturnothwendiges Maas erweiterten und herabgedrückten Konkurrenz in allen Nahrungs– und Erwerbszweigen des bürgerlichen Lebens, als der nächsten Ursache des allgemeinen, alle Klassen mehr oder weniger drückenden Notstandes in Deutschland, insonderheit des Getreidewuchers, sowie von den Mitteln zu ihrer Abstellung», Darmstadt 1848), изображал экономическое положение «немецкого отечества» поразительно сходно с тем, как изображено русское экономическое положение в книге «Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства». Фолльграф тоже изображал дело так, как будто развитие производительных сил уже привело, «под влиянием свободной конкуренции», к относительному уменьшению числа занятых в промышленности рабочих. У него подробнее, чем у Буля, изображено влияние безработицы на состояние внутреннего рынка. Производители одной отрасли промышленности являются в то же время потребителями для продуктов других отраслей, но так как безработица лишает производителей платежной силы, то спрос уменьшается, вследствие чего безработица становится всеобщей, и возникает полный пауперизм (völliger Pauperismus). «Атак как и крестьянство разоряется, вследствие чрезмерной конкуренции, то наступает полный застой в делах. Общественный организм разлагается, его физиологические процессы приводят к появлению дикой массы, а голод вызывает в этой массе брожение, против которого бессильны государственные кары и даже оружие». Свободная конкуренция ведет в деревнях к измельчанию крестьянских участков. Ни в одном из крестьянских дворов рабочие силы не находят себе достаточного приложения в течение круглого года. «Таким образом, в тысячах деревень, особенно в малоплодородных местностях, почти совершенно, как в Ирландии, бедные крестьяне стоят без работы и без занятий перед дверями своих домов. Никто из них не в состоянии помочь другому, ибо все они имеют слишком мало, все нуждаются в заработке, все ищут и не находят работы». Фолльграф с своей стороны придумал ряд «мероприятий» для борьбы с разрушительным действием «свободной конкуренции», хотя и не в духе социалистического журнала «Der Gesellschafts-Spiegel».
[Закрыть]. Немецкие Н.-оны рассуждали так же отвлеченно, как и наши нынешние Були и Фолльграфы. Рассуждать отвлеченно значит ошибаться даже в тех случаях, когда исходишь из совершенно верного принципа.
Знаете ли вы, читатель, что такое антифизика д'Аламбера? Д'Аламбер говаривал, что он, на основании самых бесспорных физических законов, докажет неизбежность явлений, совершенно невозможных в действительности. Надо только, следя за действием каждого данного закона, забыть на время, что существуют другие законы, видоизменяющие его действие. Результат, наверное, получится совершенно нелепый. В доказательство этого Д'Аламбер приводил несколько действительно блистательных примеров и собирался даже написать в свободное время целую антифизику. Гг. Фолльграфы и Н.-оны уже не в шутку, а серьезно пишут антиэкономии. Их прием таков. Они берут известный неоспоримый экономический закон, они правильно указывают на его тенденцию; затем они забывают, что осуществление этого закона в жизни есть целый исторический процесс, и изображают дело так, как будто тенденция данного закона уже целиком осуществилась в жизни к тому времени, когда они стали писать свои исследования. Если при этом данный Фолльграф, Буль или Н.-он нагромоздит вороха хотя бы плохо переваренного статистического материала, да примется кстати и некстати цитировать Маркса, то его «очерк» примет вид научного, убедительного исследования в духе автора «Капитала». Но это оптический обман, не более того.
Что, например, Фолльграф многое упустил при анализе экономической жизни в современной ему Германии, показывает то бесспорное обстоятельство, что совершенно не сбылось его пророчество относительно «разложения общественного организма» этой страны. А что г. Н.-он совершенно всуе приемлет имя Маркса, подобно тому, как г. Ю. Жуковский всуе прибегал, бывало, к интегральному исчислению, без труда поймет даже почтеннейший С. Н. Кривенко.
Вопреки мнению тех господ, которые упрекают Маркса в односторонности, этот писатель никогда не рассматривал экономического движения данной страны вне связи его с теми общественными силами, которые, вырастая на его почве, сами влияют на его дальнейшее направление (это пока еще не совсем ясно для вас, г. С. Н. Кривенко, но– терпение!). Дано известное экономическое состояние, – этим самым даны известные общественные силы, действие которых необходимо отразится на дальнейшем развитии этого положения (терпение оставляет вас, г. Кривенко? Вот вам наглядный пример). Дана экономия Англии эпохи первоначального капиталистического накопления. Этим самым были даны те общественные силы, которые, между прочим, заседали в тогдашнем английском парламенте. Действие этих общественных сил было необходимым условием дальнейшего развития данного экономического положения, а направление их действия обусловливалось свойствами этого положения. – Дано экономическое положение современной Англии; этим самым даны ее современные общественные силы, действие которых скажется на будущем экономическом развитии Англии. Когда Маркс занимался тем, что некоторым угодно называть его гаданиями, он принимал в соображение эти общественные силы и не воображал, что их действие может остановить по своему произволу та или другая группа лиц, сильных лишь своими прекрасными намерениями («Mit der Gründlichkeit der geschichtlichen Action wird der Umpfang der Masse zunehmen, deren Action sie ist»).
Немецкие утописты сороковых годов рассуждали иначе. Когда они ставили перед собою известные задачи, они имели в виду только неудобства экономического положения своей страны, забывая исследовать те общественные силы, которые выросли из этого положения. Экономическое положение нашего народа печально, рассуждал вышеупомянутый рецензент: следовательно, перед нами стоит трудная, но не неразрешимая задача организации производства. А не помешают ли этой организации те самые общественные силы, которые выросли на почве печального экономического положения? Об этом не спрашивал себя благожелательный рецензент. Утопист никогда не считается в достаточной мере с общественными силами своего времени, по той простой причине, что он, по выражению Маркса, всегда ставит себя над обществом. А по этой же причине и, по выражению того же Маркса, все расчеты утописта оказываются «ohne Wirt gemacht» и вся его «критика» есть не более, как полное отсутствие критики, неумение критически взглянуть на окружающую его действительность.
Организация производства в данной стране могла бы явиться лишь результатом действия тех общественных сил, которые в этой стране существуют. Что нужно для организации производства? Сознательное отношение производителей к производительному процессу, взятому во всей его сложности и совокупности. Там, где пока нет такого сознательного отношения, могут выдвигать организацию производства, как ближайшую общественную задачу, лишь люди, которые всю жизнь свою останутся неисправимыми утопистами, хотя бы они пять миллиардов раз произнесли имя Маркса с величайшим почтением. Что говорит о дознании производителей г. Н.-он в своей пресловутой книге? Ровно ничего: он уповает на сознание «общества». Если, после этого, его можно и должно признать истинным марксистом, то мы не видим, почему нельзя было бы признать г. Кривенко единственным истинным гегельянцем нашего времени, гегельянцем par excellence.
Но пора кончать. Какими результатами подарил нас наш сравнительно-исторический прием? Если мы не ошибаемся, следующими:
1) Убеждение Гейнцена и его единомышленников относительно того, что Маркс своими собственными взглядами был осужден на бездействие в Германии, оказалось вздором. Таким же вздором окажется и убеждение г. Михайловского относительно того, будто бы не могут принести пользы русскому народу, а, напротив, должны вредить ему, люди, держащиеся у нас теперь взглядов Маркса.
2) Взгляды Булей и Фолльграфов на тогдашнее экономическое положение Германии оказались узкими, односторонними и ошибочными в силу своей отвлеченности. Можно опасаться, что дальнейшая экономическая история России обнаружит подобные же недостатки во взглядах г. Н.-она.
3) Люди, ставившие в Германии сороковых годов организацию производства своей ближайшей задачей, были утопистами. Такими же утопистами являются люди, толкующие об организации производства в нынешней России.
4) История смела иллюзию немецких утопистов сороковых годов. Есть все основания думать, что подобная же участь постигнет и иллюзии наших русских утопистов. Капитализм насмеялся над первыми; с болью в сердце предвидим, что насмеется он и над вторыми.
Но неужели эти иллюзии не принесли никакой пользы немецкому народу? В экономическом отношении ровно никакой, или, если вы требуете более точного выражения, почти никакой. Все эти базары для продажи кустарных изделий и все эти попытки создания производительных ассоциаций едва ли облегчили положение хотя бы сотни немецких производителей. Но они содействовали пробуждению самосознания этих производителей и тем принесли им большую пользу. Такую же пользу, и уже прямым, а не обходным путем, принесла просветительная деятельность немецкой интеллигенции: школы, народные читальни и т. п. Вредные для немецкого народа последствия капиталистического развития могли быть в каждое данное время ослабляемы или устраняемы лишь в такой мере, в какой развивалось самосознание немецких производителей. Маркс понимал это лучше утопистов, и потому его деятельность оказалась более полезной для немецкого народа.
То же, несомненно, окажется и в России. Не далее, как в октябрьской книжке "Рус. Богатство" 1894, г. С. Н. Кривенко "хлопочет", – как говорят у нас, – об организации русского производства. Ничего не устранит, никого не осчастливит г. Кривенко этими "хлопотами". Его "хлопоты" неуклюжи, неловки, бесплодны: но если они, несмотря на все эти отрицательные свои качества, разбудят самосознание хоть одного производителя, они ока-жутся полезными, и тогда выйдет, что г. Кривенко жил на свете не затем только, чтобы делать логические ошибки или неверно переводить отрывки из "несимпатичных" ему статей, написанных на чужом языке. Бороться против вредных последствий нашего капитализма и у нас можно будет лишь в той мере, в какой будет развиваться самосознание производителя. А из этих наших слов господа субъективисты могут видеть, что мы вовсе не "грубые материалисты". Если мы "узки", то только в одном смысле: в том, что ставим перед собою прежде всего совершенно идеалистическую задачу.
А теперь, до свиданья, гг. наши противники. Мы заранее предвкушаем все то величайшее удовольствие, которое доставят нам ваши возражения. Только присматривайте вы, господа, за г. Кривенко. Пишет он, пожалуй, и не дурно, по крайней мере, – с чувством, но "что к чему", – это ему не дана!
Приложение I
Еще раз г. Михайловский, еще раз "триада"
В октябрьской книжке «Русского Богатства» г. Михайловский, возражая г. П. Струве, опять высказал несколько соображений о философии Гегеля и об «экономическом» материализме.
По его словам, материалистическое понимание истории и экономический материализм не одно и то же. Экономические материалисты все выводят из экономии. "Ну, а если я буду искать корня или фундамента не только правовых и политических учреждений, философских и иных воззрений общества, но и его экономической структуры, в расовых или племенных особенностях его членов: в пропорциях продольного и поперечного диаметров их черепов, в характере личного угла, в размерах и направлении челюстей, в размерах грудной клетки, силе мускулов и т. д., или, с другой стороны, в факторах чисто географических: в островном положении Англии, в степном характере части Азии, в гористой природе Швейцарии, в замерзании рек на севере и т. д., – разве это не будет материалистическое понимание истории? Ясно, что экономический материализм, как историческая теория, есть лишь частый случай материалистического понимания истории…" [177]177
«Русское Богатство», октябрь 1894 г., отд. II, стр. 50.
[Закрыть].
Монтескье склонен был объяснять историческую судьбу народов "факторами чисто географическими". Поскольку он последовательно держался этих факторов, он был, без сомнения, материалистом. Современный диалектическим материализм не игнорирует, как мы видели, влияния географической среды на развитие общества. Он только лучше выясняет, каким образом влияют географические факторы на "общественного человека". Он показывает, что географическая среда обеспечивает людям большую или меньшую возможность развития их производительных сил, и тем, более или менее энергично, толкает их по пути исторического движения. Монтескье рассуждал так: известная географическая среда обусловливает собою известные физические и психические свойства людей, а эти свойства ведут за собою то или другое общественное устройство. Диалектический материализм обнаруживает, что такое рассуждение неудовлетворительно, что влияние географической среды сказывается прежде всего и в сильнейшей степени на характере общественных отношений, которые, в свою очередь, бесконечно сильнее влияют на взгляды людей, на их привычки и даже на их физическое развитие, чем, например, климат. Современная географическая наука (напомним опять книгу Мечникова и предисловие к ней Элизе Реклю) вполне соглашается в этом случае с диалектическим материализмом. Этот материализм есть, конечно, частный случай материалистического взгляда на историю. Но он полнее, всестороннее объясняет ее, чем могут сделать это остальные «частные случаи». Диалектический материализм есть высшее развитие материалистического понимания истории.
Гольбах говорил, что историческая судьба народов иногда на целое столетие определяется движением атома, зашалившего в мозгу общественного человека. Это был также материалистический взгляд на историю. Но он ничего не мог дать в смысле объяснения исторических явлений. Современный диалектический материализм несравненно плодотворнее в этом отношении. Он есть, конечно, частный случай материалистического взгляда на историю, но именно тот частный случай, который один только и соответствует современному состоянию науки. Бессилие гольбаховского материализма сказалось в возвращении его сторонников к идеализму: "мнения правят миром". Диалектический материализм выбивает ныне идеализм из его последних позиций.
Г. Михайловскому кажется, что последовательным материалистом был бы только тот, кто стал бы объяснять все явление с помощью молекулярной механики. Современный, диалектический материализм не может найти механического объяснения истории. В этом, если хотите, заключается его слабость. Но умеет ли современная биология дать механи-ческое объяснение происхождению и развитию видов? – Не умеет. Это ее слабость. Гений, о котором мечтал Лаплас, был бы, разумеется, выше такой слабости. Но мы решительно не знаем, когда явится этот гений, и довольствуемся такими объяснениями явлений, которые наилучше соответствуют науке нашего времени. Таков наш «частный случай».
Диалектический материализм говорит, что не сознание людей определяет собою их бытие, а, напротив, их бытие определяет собою их дознание; что не в философии, а в экономии данного общества надо искать ключ к пониманию его данного состояния. Г. Михайловский делает по этому поводу несколько замечаний; одно из них гласит так:
"… В отрицательных половинах (!) основной формулы социологов материалистов заключается протест или реакция не против философии вообще, а, по-видимому, против гегельянской. Ей именно принадлежит "объяснение бытия из сознания"… основатели экономического материализма – гегельянцы и, в качестве таковых, потому так настойчиво твердят: "не из философии", "не из сознания", что не могут, да и не пытаются выбиться из круга гегельянской мысли" [178]178
Там же, стр. 51 и 52.
[Закрыть].
Когда мы прочли эти строки, мы подумали, что здесь наш автор, по примеру г. Кареева, подбирается к "синтезу". Конечно, сказали мы себе, синтез г. Михайловского будет несколько выше синтеза г. Кареева; г. Михайловский не ограничится повторением той мысли дьякона в рассказе Г. И. Успенского "Неизлечимый", что "дух, часть особая" и что "как материя имеет на свою пользу разные специи, так равно и дух их имеет"; но все-таки не воздержится от синтеза и г. Михайловский: Гегель – тезис; экономический материализм – антитезис, а эклектизм современных русских субъективистов – синтезис. Как не соблазниться подобной "триадой"? И вот мы стали припоминать, каково было действительно отношение исторической теории Маркса к философии Гегеля.
Прежде всего мы "заметим", что у Гегеля историческое движение объясняется вовсе не взглядами людей, вовсе не их философией. Взглядами, «мнениями» людей объясняли историю французские материалистыXVIIIвека. Гегель подсмеивается над таким объяснением: конечно, говорил он, разум правит в истории, но ведь он же правит движением небесных светил, а разве небесные светила сознают свое движение? Историческое развитие человечества разумно в том смысле, что оно законосообразно, но законосообразность исторического движения вовсе еще не доказывает, что последней его причины надо искать во взглядах людей, в их мнениях; совершенно напротив: эта законообразность показывает, что люди делают свою историю бессознательно.
Мы не помним, продолжали мы, каковы выходят исторические взгляды Гегеля по "Льюису"; но что мы не искажаем их, в этом согласится с нами всякий, прочитавший знаменитую "Philosophie der Geschichte". Стало быть, твердя, что не философия людей обусловливает собой их общественное бытие, сторонники "экономического" материализма оспаривают вовсе не Гегеля; стало быть, в этом отношении они никакой антитезы ему не представляют. А это значит, что неудачен будет синтез г. Михайловского, хотя наш автор и не ограничился повторением мысли дьякона.
По мнению г. Михайловского, твердить, что философия, т. е. взгляды людей, не объясняет их истории, можно было только в Германии сороковых годов, когда еще не замечалось восстания против гегелевской системы. Мы видим теперь, что такое мнение основано в лучшем случае только на "Льюисе".
Но до какой степени Льюис плохо знакомит г. Михайловского с ходом развития философской мысли в Германии, показывает, кроме вышеуказанного, еще следующее обстоятельство. Наш автор с восторгом цитирует известное письмо Белинского, в котором тот раскланивается "с философским колпаком" Гегеля. В этом письме Белинский говорит, между прочим: "судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира и здравия китайского императора (т. е. гегелевской Allgemeinheit)". По поводу этого письма г. Михайловский делает много замечаний, но он не «замечает», что у Белинского гегелевская Allgemeinheit припутана совершенно некстати. Г. Михайловский думает, по-видимому, что гегелевская Allgemeinheit есть то же самое, что дух или абсолютная идея, но Allgemeinheit не составляет у Гегеля даже главного отличительного признака абсолютной идеи. Allgemeinheit занимает у него не более почетное место, чем, например, Besonderheit или Einzelheit. А вследствие этого и непонятно, почему именно Allgemeinheit именуется китайским императором и заслуживает, не в пример другим своим сестрам, предупредительно-насмешливого поклона. Это может показаться мелочью, недостойною внимания в настоящее время, но это не так: плохо понятая гегелевская Allgemeinheit до сих пор мешает, например, г. Михайловскому, понять историю немецкой философии, – до такой степени мешает, что даже и «Льюис» не выручает его из беды.
Но мнению г. Михайловского, преклонение пред Allgemeinheit приводило Гегеля к полному отрицанию прав личности. «Нет философской системы, – говорит он, – которая относилась бы к личности с таким уничтожающим презрением и такою (?) холодной жестокостью, как система Гегеля» (стр. 55). Это верно разве только по «Льюису». Почему Гегель считал историю Востока первой, низшей ступенью в развитии человечества? Потому, что на Востоке не развита была и до сих пор не развита личность. Почему Гегель с восторгом говорил о древней Греции, в истории которой современный человек чувствует себя, наконец, «дома»? Потому, что в Греции была развита личность («прекрасная личность», «schöne Individualität»). Почему Гегель с таким восторгом говорил о Сократе? Почему он, едва ли не первый из историков философии, отдал справедливость даже софистам? Неужели потому, что пренебрегал личностью?
Г. Михайловский слышал звон, да не знает, где он.
Гегель не только не пренебрегал личностью, но создал целый культ героев, целиком унаследованный впоследствии Бруно Бауэром. У Гегеля герои были орудием всемирного духа, и в этом смысле они сами были не свободны. Бруно Бауэр восставал против «духа» и тем освободил «героев». У него герои «критической мысли» являются настоящими демиургами истории в противоположность «массе», которая хотя и раздражает почти до слез героев своею непонятливостью и неповоротливостью, но кончает все-таки тем, что идет по пути, проложенному героическим самосознанием. Противоположение «героев массе» («толпе») перешло от Бруно Бауэра к его русским незаконнорожденным детям, и мы имеем теперь удовольствие созерцать ею в статьях г. Михайловского. Г. Михайловский не помнит своего философского родства; но непохвально.
Итак, у нас неожиданно получились элементы для нового "синтеза". Гегелевский культ героев, находящихся в услужении у всемирного духа – тезис; Бауэровский культ героев «критической мысли», руководимых лишь своим «самосознанием» – антитезис; наконец, теория Маркса, примиряющая обе крайности, устраняющая всемирный дух и объясняющая происхождение героического самосознания развитием среды – синтезис.
Нашим, склонным к "синтезу", противникам надо помнить, что теория Маркса вовсе не была первой, непосредственной реакцией против Гегеля, что этой первой – поверхно-стной, вследствие своей односторонности – реакцией явились в Германии взгляды Фейербаха и особенно Бруно Бауэра, с которым нашим субъективистам давно уже пора родными счесться.
Немало и еще несообразностей наговорил г. Михайловский о Гегеле: и о Марксе в своей статье против г. П. Струве. Место не позволяет нам перечислить их здесь. Мы ограничимся тем, что предложим нашим читателям следующую интересную задачу:
Дан г. Михайловский; дано полное незнание им Гегеля; дано совершенное непонимание им Маркса; дано его неудержимое стремление рассуждать о Гегеле, о Марксе и об их взаимном отношении; спрашивается, сколько еще ошибок сделает г. Михайловский, благодаря этому стремлению?
Но едва ли кому удастся решить эту задачу: это уравнение со многими неизвестными. Есть только одно средство заменить в нем определенными величинами величины неизвестные: именно надо внимательно читать статьи г. Михайловского и замечать его ошибки. Дело это, правда, невеселое и нелегкое, ошибок будет очень много, если только г. Михайловский не отделается от своей дурной привычки рассуждать о. философии, не посоветовавшись предварительно с людьми, более его сведущими.
Мы не станем касаться здесь нападок г. Михайловского на г. П. Струве. Поскольку речь идет об этих нападках, г. Михайловский принадлежит отныне автору "Критических заметок к вопросу об экономическом развитии России", а мы не хотим посягать на чужую собственность. Впрочем, г. Струве, может быть, извинит нас, если мы позволим себе сделать два маленьких "замечания".
Г. Михайловский обиделся тем, что г. П. Струве "замахнулся" на него вопросительным знаком. До такой степени обиделся, что, не ограничившись указанием неправильностей в языке г. Струве, выбранил его инородцем и даже вспомнил анекдот о двух немцах, из которых один сказал: "стригнулся", а другой поправил его, утверждая, что по-русски надо говорить "стриговался". По поводу чего же поднял г. Струве на г. Михайловского руку, вооруженную вопросительным знаком? По поводу слов: "Современный экономический порядок в Европе начал складываться еще тогда, когда наука, заведующая этим кругом явлений, не существовала" и т. д. Вопросительный знак сопровождает слово "заведующая". Г. Михайловский говорит: "По-немецки это может быть не хорошо (как зло: по-немецки!), но по-русски, уверяю вас, г. Струве, ни в ком вопроса не возбуждает и вопросительного знака не требует". Пишущий эти строки носит чисто русскую фамилию и обладает столь же русскою душою, как и г. Михайловский: самый ехидный критик не решится обозвать его немцем, и, тем не менее, слово «заведующая» в нем возбуждает вопрос. Он спрашивает себя: если можно сказать, что наука заведует известным кругом явлений, то нельзя ли после этого произвести технические искусства в начальники особых частей? Нельзя ли сказать, например: пробирное искусство командует сплавами? По-нашему, это неловко, это придало бы искусствам слишком военный вид, совершенно так же, как слово заведующая придает науке вид бюрократа. Стало быть, неправ г. Михайловский. Г. П. Струве молча схватил вопросительный знак; неизвестно, как поправил бы он неудачное выражение г. Михайловского. Допустим, что он стал бы «стриговаться». Но что г. Михайловский уже несколько раз «стригнулся», – это, к сожалению, уже совершившийся факт. А кажется, совсем не инородец!
Г. Михайловский в своей статье поднял смешной шум по поводу слов г. Струве: "нет, признаем нашу некультурность и пойдем на выучку к капитализму". Г. Михайловский хочет изобразить дело так, как будто бы эти слова означали «отдадим же производителя в жертву эксплуататору». Г. П. Струве легко будет показать тщету усилий г. Михайловского, да ее, вероятно, и теперь видит всякий, внимательно прочитавший «Критические заметки». Но г. Струве все-таки очень неосторожно выразился, чем, вероятно, ввел в соблазн многих простаков и обрадовал нескольких акробатов. Вперед – наука, скажем мы г. Струве, а гг. акробатам напомним, как Белинский уж под конец своей жизни, когда он уж давно раскланялся с «Allgemeinheit», в одном из своих писем высказывал ту (мысль, что культурное будущее России обеспечит только буржуазию. У Белинского это была тоже очень неловкая угроза. Но чем была вызвана его неловкость? Благородным увлечением западника, Таким же увлечением причинена, уверены мы, и неловкость г. Струне. Шуметь по ее поводу позволительно только тому, кому нечего возражать, напр., на экономические доводы этого писателя.
Ополчился на г. П. Струве и г. Кривенко. У того своя обида. Он неверно перевел отрывок из одной немецкой статьи г. П. Струве, а тот уличил его в этом. Г. Кривенко оправдывается, старается показать, что перевод почти совсем верен; но оправдания его неудачны, он все-таки остается виновным в искажении слов своего противника. Но взять с г. Кривенко нечего, ввиду несомненного его сходства с некоей птицей, о которой сказано:
Райская птица Сирин,
Глас ее в пении зело силен,
Когда Господа воспевает,
Сама себя позабывает.
Когда г. Кривенко «учеников» пристыжает, он сам себя позабывает. Что же вы пристаете к нему, г. Струве?








