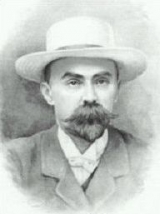
Текст книги "Обоснование и защита марксизма .Часть первая"
Автор книги: Георгий Плеханов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)
Г. Бельтов предпринял показать, что окончательное торжество материалистического монизма установлено так называемой теорией экономического материализма в истории, каковая теория находится, дескать, в теснейшей связи с "общефилософским материализмом". С этою целью г. Бельтов делает экскурсию в историю философии. О степени беспорядочности и неполноты этой экскурсии можно судить уже по названиям глав, ей посвященных: "Французский материализм XVIII века", "Французские историки времен реставрации", "Утописты", "Идеалистическая немецкая философия", "Современный материализм" (стр. 146). Г. Михайловский опять горячится без всякой надобности, и опять его горячность ни к чему доброму не приводит. Если бы г. Бельтов писал хотя бы краткий очерк истории философии, то, действительно, беспорядочна и непонятна была бы та экскурсия, в которой он от французского материализма XVIII века переходит к французским историкам времен реставрации; от этих историков к утопистам, от утопистов к немецким идеалистам и т. д. Но в том-то дело, что г. Бельтов никакой истории философии не писал. На первой же странице своей книги он заявил, что намерен сделать краткий очерк того учения, которое неправильно называется экономическим материализмом. Он нашел некоторые слабые зародыши, этого учения у французских материалистов и показал, что эти зародыши в значительной степени развились у французских историков-специалистов времен реставрации; затем он обратился к людям, которые, не быв историками по своей специальности, все-таки должны были много думать о важнейших вопросах исторического развития человечества, т. е. к утопистам и немецким философам. Он далеко не перечислил всех материалистов XVIII века, всех историков времен реставрации, всех утопистов и всех идеалистов-диалектиков этой эпохи. Но он указал на самых главных из них, на тех, которые более других сделали по интересующему его предмету. Он показал, что все эти люди, так богато одаренные и так много знавшие, путались в противоречиях, из которых единственным логическим выводом являлась историческая теория Маркса. Словом, il prenait son bien ou il le trouvait. Что можно возразить против такого приема? И почему он не нравится г. Михайловскому?
Если г. Михайловский не только прочитал сочинения Энгельса «Ludwig Feuerbach» и «Dühring's Umwälzung», но и, – что самое главное, – понял их, то он и сам знает, какое значение в развитии идей Маркса и Энгельса имели взгляды французских материалистов прошлого столетия, французских историков времен реставрации, утопистов и идеалистов-диалектиков. Г. Бельтов оттенил это значение, сделав краткую характеристику наиболее существенных в этом случае взглядов тех и других, третьих и четвертых. Г. Михайловский презрительно пожимает плечами по поводу этой характеристики, ему не нравится план г. Бельтова. Мы заметим на это, что всякий план хорош, если с помощью его автор достигает своей цели. А что цель г. Бельтова была достигнута, этого не отрицают, насколько мы знаем, даже его противники.
Г. Михайловский продолжает:
"Г. Бельтов говорит и о французских историках и о французских "утопистах", оценивая тех и других в меру их понимания или непонимания экономики, как фундамента общественного здания. Странным, однако, образом он совсем не упоминает при этом о Луи-Блане, хотя одного предисловия в "Histoire de dix ans" достаточно, чтобы предоставить ему почетное место в ряду первоучителей так называемого экономического материализма. Конечно, тут много такого, с чем г. Бельтов согласиться не может, но тут есть и борьба классов, и характеристика их экономическими признаками, и экономика, как скрытая пружина политики, вообще многое, что позже вошло в состав доктрины, так горячо защищаемой г. Бельтовым. Я потому отмечаю этот пробел, что он, во-первых, и сам по себе удивителен и намекает на какие-то побочные цели, не имеющие ничего общего с беспристрастием" (стр. 150).
Г. Бельтов говорил о предшественниках Маркса, Луи Блан же был скорее его современником. Правда, «Histoire de dix ans» вышла в то время, когда исторические взгляды Маркса еще не окончательно сложились. Но сколько-нибудь решительного влияния на их судьбу эта книга не могла иметь уже по той причине, что точка зрения Луи Блана на внутренние пружины общественного развития не заключала в себе решительно ничего нового, сравнительно со взглядами, например, Огюстена Тьерри или Гизо. Совершенно верно, что «тут есть и борьба классов, и характеристика их экономическими признаками, и экономика» и т. д. Но все это было уже и у Тьерри, и у Гизо, и у Минье, как это неопровержимо показал г. Бельтов. Гизо, стоявший на точке зрения борьбы классов, сочувствовал борьбе буржуазии против аристократии, но очень враждебно отнесся к только что начинавшейся в его время борьбе рабочего класса с буржуазией. Луи Блан сочувствовал этой борьбе [184]184
Да и то на свой особый лад, вследствие чего Луи Блан и играл такую жалкую роль в 1818 году. Между классовой борьбой, как ее понимал «позже» Маркс, и классовой борьбой по Луи Блану лежит целая пропасть. Человек, не наметивший этой пропасти, вполне подобен мудрецу, не заметившему слона в зверинце.
[Закрыть]. [183]183
В этом не расходился с Гизо. Но это разногласие было совсем не существенно. Оно не вносило ничего нового во взгляды Луи Блана на «экономику, как скрытую пружину политики»
[Закрыть][185]185
Примеч. ко 2-му изданию.
[Закрыть].
Луи Блан, как и Гизо, сказал бы, что политические конституции коренятся в социальном быте народа, а социальный быт определяется в последнем счете отношениями собственности, но откуда берутся отношения собственности, – это было так же мало известно Луи Блану, как и Гизо. Вот почему Луи Блан, как и Гизо, несмотря на свою "экономику", вынужден был вернуться к идеализму. Что в своих историко-философских взглядах он был идеалистом, это известно всякому, даже не бывшему в семинарии [186]186
В качестве идеалиста низшего разбора (т. е. недиалектика), Луи Блан имел, разумеется, свою «формулу прогресса», которая, при всей своей «теоретической ничтожности», по крайней мере, не хуже «формулы прогресса» г. Михайвского.
[Закрыть].
В то время, как появилась "Histoire de dix ans", очередным вопросом общественной науки был «позже» разрешенный Марксом вопрос о том, – откуда же берутся отношения собственности? Луи Блан ничего не сказал нового на этот счет. Естественно предположить, что именно потому и не сказал ничего о Луи-Блане г. Бельтов. Но г. Михайловский предпочитает инсинуировать на счет каких-то подобных целей. Chacun a son goût!
По мнению г. Михайловского, экскурсия г. Бельтова в область истории философии "еще слабее, чем можно было думать, судя по этим (вышеперечисленным) заглавиям". Почему же так? Да вот почему. Г. Бельтов пишет, что "Гегель называл метафизической точку зрения тех мыслителей, – безразлично, идеалистов или материалистов, – которые, не умея понять процесс развития явлений, поневоле представляют их себе и другим, как застывшие, бессвязные, неспособные перейти одно в другое. Этой точке зрения он противопоставил диалектику, которая изучает явления именно в их развитии и, следовательно, в их взаимной связи". По этому поводу г. Михайловский ехидно замечает: «Г. Бельтов считает себя знатоком философии Гегеля. Я рад поучиться у него, как у всякого сведущего человека, и на первый раз попросил бы г. Бельтова указать то место в сочинениях Гегеля, откуда он взял это будто бы гегелево определение „метафизической точки зрения“. Осмеливаюсь утверждать, что он мне его указать не может. Для Гегеля метафизика была учением о безусловной сущности вещей, лежащей за пределами опыта, и наблюдения о сокровенном субстрате явлений… Свое якобы Гегелево определение г. Бельтов взял не у Гегеля, а у Энгельса (все в той же полемической против Дюринга книге), который совершенно произвольно отделил метафизику от диалектики признаком неподвижности или текучести» (стр. 147).
Не знаем, что ответит на это г. Бельтов. Но, "на первый раз", мы позволим себе, не дожидаясь его разъяснений, ответить почтенному субъективисту.
Развертываем первую часть "Энциклопедии" Гегеля и там, в прибавлении к параграфу 31 (стр. 57 русск. пер: г. В. Чижова), читаем: "Мышление этой метафизики не было свободно и истинно в объективном смысле, потому что оно не предоставляло предмету развиваться свободно из самого себя и самому находить свои определения, а брало его, как готовый… Эта метафизика есть догматизм, потому что, соответственно природе конечных определений, она должна была принять, что из двух противоположных утверждений… одно необходимо истинно, а другое ложно" (пар. 32, стр. 58 того же перевода).
Гегель говорит здесь о старой докантовской метафизике, которая, по его замечанию, "вырвана с корнем, исчезла из ряда наук" (ist so zu sagen, mit Stumpf und Styl ausgerottet worden, aus der Reihe der Wissenschaften verschwunden!) [187]187
«Wissenschaft der Logik», Vorrede, S. 1.
[Закрыть]. Этой метафизике Гегель противопоставил свою диалектическую философию, рассматривавшую все явления в их развитии и в их взаимной связи, а не как готовые и отделенные одно от другого целою пропастью. «Истинно только целое, – говорит он, – целое же обнаруживается во всей своей полноте лишь посредством своего развития» («Das wahre ist das Ganze. Das Ganze aber ist nur das durch seine Entwicklung sich vollendende Wesen») [188]188
«Die Phänomenologie des Geistes», Vorrede, S. XXIII.
[Закрыть]. Г. Михайловский утверждает, что Гегель слил с диалектикой также и метафизику, но тот, от кого он слышал это, не хорошо объяснил ему, в чем дело. У Гегеля к диалектическому моменту прибавляется также и спекулятивный, благодаря которому его философия и становится идеалистической философией. Как идеалист, Гегель делал то же, что и все другие идеалисты: он придавал особенно важное философское значение таким «результатам» (таким понятиям), которыми очень дорожила также и старая «метафизика». Но самые эти понятия (абсолютное в разных видах его развития) явились у него, благодаря «диалектическому моменту», именно как результаты, а не как первоначальные данные. Метафизика растворилась у Гегеля в логике, и вот почему он очень удивился бы, услыхав, что его, спекулятивного мыслителя, называют метафизиком ohne Weiteres. Он сказал бы, что люди, называющие его так, «lassen sich mit Tieren vergleichen, welche alle Töne einer Musik mit durchgehört haben an deren Sinn aber das Eine, die Harmonie dieser Töne nicht gekommen ist» (его собственное выражение, которым он клеймил ученых педантов).
Повторяем, этот спекулятивный мыслитель, презиравший метафизику рассудка (опять его собственное выражение), был идеалистом и в этом смысле имел свою метафизику разума. Но разве г. Бельтов позабыл это обстоятельство или не оговорил его в своей книге? И не позабыл, и оговорил. Он привел из книги Маркса и Энгельса «Die Heilige Familie» длинные выписки, очень едко критикующие спекулятивные результаты Гегеля. Полагаем, что в этих выписках достаточно обнаружена правомерность слияния диалектики с тем, что г. Михайловский называет метафизикой Гегеля. Следовательно, если г. Бельтов и позабыл что-нибудь, то разве лишь одно: именно то, что при удивительной «беззаботности» наших «передовых» людей по части истории философии им надо было объяснить, до какой степени резко различали в эпоху Гегеля метафизику от спекулятивной философии[189]189
Кстати, если г. Михайловский захочет хоть отчасти узнать, наконец, каково было историческое зна-чение «метафизики» Гегеля, то мы порекомендуем ему очень популярную и в свое время очень известную книжку: «Die Posaune des jüngsten Gerichts über Hegel, den Atheisten und Antichristen». Хорошая книжка.
[Закрыть]. А изо всего этого следует, что напрасно г. Михайловский «осмеливается утверждать» то, чего утверждать невозможно.
По словам г. Бельтова, Гегель называл метафизической даже точку зрения материалистов, не умевших рассматривать явления в их взаимной связи. Так это, или не так? Потрудитесь прочитать страницу из 27 параграфа 1-й части "Энциклопедии" того же Гегеля: "Самое полное и недавнее применение этой точки зрения в философии ты находим в старой метафизике, как ее излагали до Канта. Впрочем, только относительно истории философии время этой метафизики уже миновало; сама же по себе она всегда продолжает существовать, представляя собою рассудочное воззрение на предметы". Что такое рассудочное воззрение на предметы? Это именно старое метафизическое воззрение на предметы, противоположное диалектическому. Вся материалистическая философия XVIII века была «рассудочною» по существу: она именно не умела рассматривать явления иначе, как с точки зрения конечных определений. Что Гегель прекрасно видел эту слабую сторону французского материализма, как и всей вообще французской философии XVIII века, в этом может убедиться всякий, кто даст себе труд прочитать относящиеся сюда места из 2-й части его «Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie». Поэтому и точку зрения французских материалистов он не мог не считать старой метафизической точкой зрения [190]190
Впрочем, о материализме он замечал: «Dennoch muss man in dem Materialismus das begeisterungsvolle Streben anerkennen, über den, zweierlei Welten alsgleich substantiell und wahr annehmenden Dualismus hinauszugehen, diese Zerreißung des ursprünglich Einen aufzubeben» («Enzyklopädie», Dritter Teil, S. 54).
[Закрыть]. Стало быть, прав или не прав г. Бельтов? Кажется, ясно, что совершенно прав? А вот г. Михайловский «осмеливается утверждать»… С этим ничего не поделает ни г. Бельтов, ни пишущий эти строки. Беда г. Михайловского именно в том и заключается, что он, вступив в спор с «русскими учениками» Маркса, «осмелился» рассуждать о вещах, ему совершенно неизвестных.
Муж многоопытный, губит тебя твоя храбрость!
Всякий, знакомый с философией, без труда заметил бы, что когда г. Бельтов излагает философские взгляды Гегеля и Шеллинга, то он говорит почти везде собственными словами этих мыслителей: так, например, его характеристика диалектического мышления представляет собою почти дословный перевод примечания и первого прибавления к пар. 81 первой части «Энциклопедии»; затем, он почти дословно приводит некоторые места из предисловия к «Philosophie des Rechts» и из «Philosophie der Geschichte». Но этот человек, очень аккуратно цитирующий всяких Гельвециев, Анфантенов, Оскаров, Пешелей и др., почти ни разу не указывает, какие собственно сочинения Шеллинга и Гегеля и какие места из них имеет он в виду в своем изложении. Почему же он в этом случае отступил от своего общего правила? Нам кажется, что тут г. Бельтов употребил военную хитрость. Мы думаем, что он рассуждал так: наши субъективисты объявили немецкую идеалистическую философию метафизикой и этим удовольствовались, они не изучили ее, как это сделал, например, еще автор примечаний к Миллю. Когда я укажу на некоторые замечательные мысли немецких идеалистов, то гг. субъективисты, не видя никаких ссылок на сочинения этих мыслителей, подумают, что я сам сочинил эти мысли или взял их у Энгельса, и закричат: «с этим можно спорить!» и т. д. Тут-то я и выведу их невежество на свежую воду, тут-то и пойдет потеха! Если г. Бельтов, в самом деле, употребил в своей полемике эту маленькую военную хитрость, то надо сознаться, что она удалась ему как нельзя лучше: потеха вышла, действительно, немалая!
Но пойдем далее. "Всякая философская система, утверждающая, вместе с г. Бельтовым, что "права разума необъятны и неограниченны, как и его силы", что поэтому она открыла безусловную, сущность вещей, – будь это материя или дух, – есть система метафизическая… Додумалась ли она при этом до идеи развития, предлагаемой ею сущности вещей, или нет, и если додумалась, то диалектический ли путь она усваивает этому развитию или какой иной, – это, конечно очень важно для определения ее места в истории философии, но не изменяет ее метафизического характера" ("Р. Б.", янв. 1896 г., 148). Насколько можно судить по этим словам г. Михайловского, он, чуждаясь метафизического мышления, не думает, что права разума неограниченны. Надо надеяться, что за это его по-хвалит князь Мещерский. Не думает, очевидно, также г. Михайловский, что силы разума неограниченны и необъятны. Это может показаться удивительным со стороны человека, не раз уверявшего своих читателей, что la raison finit toujours par avoir raison: при ограниченных силах (и даже правах!) разума эта уверенность едва ли у места. Но г. Михайловский скажет, что в окончательном торжестве разума он уверен лишь в том, что касается практической жизни, сомневается же в его силах там, где речь идет о познании безусловной сущности вещей («будь это материя или дух»). Прекрасно. Что же это за безусловная сущность вещей?
Не правда ли, – это то, что Кант называл вещью в себе (Ding an sich)? Если – да, то мы категорически заявляем, что «вещь в себе» нам известна и что знанием ее мы обязаны Гегелю. (Караул! – кричат наши «трезвые философы», – но мы просим их не горячиться.)
"Вещь в самой себе… есть предмет, в котором отвлеклись от всего, что делает его доступным сознанию от всех чувственных элементов, как и от всех определенных мыслей". Очевидно, что после этого остается только чистое отвлечение, пустое бытие, которое только отнесено за пределы сознания, которое есть отрицание всякого чувства и всякой определенной мысли. Но, в этом отношении, легко сделать очень простое рассуждение, что это caput mortuum само есть продукт мысли, составляющей это чистое отвлечение, или пустого я, которое делает себе предметом свое пустое тождество. Отрицательное определение, которое дают этому отвлеченному тождеству, делая его своим предметом, упоминается в числе Кантовых категорий и так же хорошо известно, как это пустое тождество. Должно, следственно, удивляться, что так часто повторяют, будто неизвестно, что ничего не может быть легче, как знать это" [191]191
Примеч. ко 2-му изданию.
[Закрыть].
Итак, повторяем, нам прекрасно известно, что такое безусловная сущность вещей, или вещь в самой себе. Это – пустая абстракция. И этой-то пустой абстракцией г. Михайловский думает запугать людей, гордо повторяющих вместе с Гегелем von der Grösse und Macht seines Geistes kann der Mensch nicht gross genug denken! [192]192
Гегель, «Энциклопедия», 1 часть, стр. 79–80, пар. 44.
[Закрыть]. Стара эта песенка, г. Михайловский! Sie sind zu spät gekommen [193]193
«Geschichte der Phil.», I, 6.
[Закрыть].
Мы уверены, что строки, только что нами написанные, покажутся г. Михайловскому пустой софистикой. Позвольте, – скажет он, – что же в таком случае, понимаете вы под материалистическим объяснением природы и истории?" – Вот что.
Когда Шеллинг говорил, что магнетизм есть внедрение субъективного в объективное, – это было идеалистическим объяснением природы; а когда магнетизм объясняется с точки зрения современной физики, то его явлениям дается материалистическое объяснение. Когда Гегель или хотя бы наши славянофилы объясняли известные исторические явления свойствами народного духа, то они смотрели на эти явления с идеалистической точки зрения, а когда Маркс объяснял, положим, хоть французские события 1848–1850 годов борьбой классов во французском обществе, то он давал этим событиям материалистическое объяснение. Ясно ли? Ну, еще бы нет! Так ясно, что для непонимания сказанного нами нужна значительная доза упрямства.
"Тут что-то не так, – соображает г. Михайловский, растекаясь мыслию по древу (c'est bien le moment!). Ланге говорит… Мы позволяем себе перебить г. Михайловского: нам очень хорошо известно, что говорит Ланге, но мы уверяем г. Михайловского, что его авто-ритет очень ошибается. В своей «Истории материализма» Ланге позабыл привести, например, такое характерное заявление одного из самых видных французских материалистов: Nous ne connaissons que l'écorce des phénomиnes (нам известна только кора явлений). Другие, и не менее видные, французские материалисты много раз высказывались в том же самом смысле. Как видите, г. Михайловский, французские материалисты еще не знали, что вещь в себе есть лишь caput mortuum абстракции, и стояли как раз на той точке зрения, которая называется теперь многими точкой зрения критической философии.
Все это, разумеется, покажется г. Михайловскому очень новым и даже совершенно невероятным. Но мы пока не скажем ему, каких именно французских материалистов и какие именно их сочинения мы имеем в виду. Пусть он сначала «осмелится утверждать», а потом мы с ним потолкуем.
Если г. Михайловскому угодно знать, как смотрим мы на отношение наших ощущений к внешним предметам, то мы отошлем его к статье г. Сеченова: «Предметная мысль и действительность» в сборнике «Помощь голодающим». Полагаем, что с нашим знаменитым физиологом вполне согласится г. Бельтов, и всякий другой, русский или нерусский, ученик Маркса. А г. Сеченов говорил вот что: «Каковы бы ни были внешние предметы сами по себе, независимо от нашего сознания, – пусть наши впечатления от них будут лишь условными знаками, – во всяком случае чувствуемому нами сходству и различию знаков соответствует сходство и различие действительное. Другими словами: сходства и различия, находимые человеком между чувствуемыми им предметами, суть сходства и различия действительные» [194]194
Сборн., стр. 207.
[Закрыть].
Когда Михайловский опровергнет г. Сеченова, тогда мы согласимся признать ограниченность не только сил, но даже и прав человеческого разума [195]195
Нашим противникам представляется очень хороший случай поймать нас на таком противоречии: с одной стороны, мы объявляем кантовскую «вещь в себе» пустой абстракцией, а с другой – мы с похвалой цитируем г. Сеченова, который говорит о предметах, как они существуют сами по себе, независимо от нашего сознания. Люди понимающие, конечно, не увидят никакого противоречия; но ведь много ли понимающих между нашими противниками?
[Закрыть].
Г. Бельтов сказал, что во второй половине нашего столетия в науке, с которой тем временем совершенно слилась философия, восторжествовал материалистический монизм. Г. Михайловский замечает: "боюсь, что он ошибается". В оправдание своего опасения он ссылается на Ланге, по мнению которого "die gründliche Naturforschung durch ihre eignen Konsequenzen über den Materialismus hinausführt". Если г. Бельтов ошибается, то, значит, материалистический монизм не восторжествовал в науке. Что же, – значит, ученые до сих пор объясняют природу посредством внедрения субъективного в объективное и прочих тонкостей идеалистической натурфилософии? "Боимся, что ошибся" бы тот, кто предположил бы это, тем более боимся, что вот, как, например, рассуждает имеющий очень громкое имя в науке английский натуралист Гексли:
"В наши дни никто из стоящих на высоте современной науки и знающих факты не усомнится в том, что основы психологии надо искать в физиологии нервной системы. То, что называется деятельностью духа, есть совокупность мозговых функций, и материалы нашего сознания являются продуктами деятельности мозга" [196]196
Th. Huxley, «Hume. Sa vie, sa philosophie», p. 108.
[Закрыть]. Заметьте, что это говорит человек, принадлежавший к так называемым в Англии агностикам. Он полагает, что высказанный им взгляд на деятельность духа вполне совместим с чистейшим идеализмом. Но мы, знакомые с теми объяснениями явлений природы, которые может дать последовательный идеализм, понимающие, откуда происходит стыдливость почтенного англичанина, повторяем вместе с г. Бельтовым: во второй половинеXIXвека в науке восторжествовал материалистический монизм.
Г. Михайловский, вероятно, знаком с психологическими исследованиями Сеченова? Точку зрения этого ученого когда-то горячо оспаривал Кавелин. Мы боимся, что покойный либерал очень ошибался. Но, может быть, г. Михайловский согласен с Кавелиным? или может быть ему вообще требуются какие-нибудь другие разъяснения по этой части? Мы отлагаем их на тот случай, если он станет "утверждать".
Г. Бельтов говорит, что господствовавшая до Маркса в общественной науке точка зрения "человеческой природы" подавала повод к злоупотреблению биологическими аналогиями, которое и до сих пор дает себя сильно чувствовать в западной социологической и особенно в русской quasi-социологической литературе. Это дает г. Михайловскому повод обвинить автора книги об историческом монизме в вопиющей несправедливости и лишний раз заподозрить добросовестность его полемических приемов.
"Апеллирую к читателю, даже вполне ко мне неблагосклонному, но сколько-нибудь знакомому с моими сочинениями, хотя бы не со всеми, а только, например, с одной статьей: "Аналогический метод в общественной науке" или "Что такое прогресс?" Неправда, что русская литература особенно злоупотребляет биологическими аналогиями: в Европе, с легкой руки Спенсера, этого добра несравненно больше, не говоря уже о временах комических аналогий Блюнчли с братией. И если у нас дело не пошло дальше аналогических упражнений покойного Стронина ("История и метод", "Политика как наука"), г. Лилиенфельда ("Социальная наука будущего"), да нескольких журнальных статей, то наверно и "моего тут капля меду есть". Ибо никто не потратил столько усилий на борьбу с биологическими аналогиями, как я. И в свое время я немало претерпел за это от "Спенсеровых детей". Буду надеяться, что и нынешняя гроза в свое время минует…" (стр. 145–146). Эта тирада имеет такой вид искренности, что и, в самом деле, даже неблагосклонный к г. Михайловскому читатель может сказать себе: "Тут, кажется, г. Бельтов в своем полемическом увлечении зашел слишком далеко". Но это неверно, и сам г. Михайловский знает, что это неверно; если же он жалобно взывает к читателю, то единственно по той причине, по которой Плавтовский Транион говорил себе: Pergam turbare porro: ita, haec res postulat.
Что, собственно, сказал г. Бельтов? Он сказал: "Если разгадки всего исторического общественного движения надо искать в природе человека и если, как справедливо заметил еще Сен-Симон, общество состоит из индивидуумов, то природа индивидуума и должна дать ключ к объяснению истории. Природу индивидуума изучает физиология в обширном смысле этого слова, т. е. наука, охватывающая также и психические явления. Вот почему физиология уже в глазах Сен-Симона и его учеников являлась основой социологии, которую они называли социальной физикой. В изданных еще при жизни Сен-Симона и при его деятельнейшем участии «Opinions philosophiques, littéraires et in-dustrielles» напечатана чрезвычайно интересная, к сожалению, неоконченная статья анонимного доктора медицины, под заглавием: «De la physiologie appliquée à l'amélioration des institutions sociales» (О физиологии в применении к улучшению общественных учрежде-ний). Автор рассматривает науку об обществе, как составную часть «общей физиологии», которая, обогатившись наблюдениями и опытами специальной физиологии над индивиду-умами, предается соображениям «высшего порядка». Индивидуумы являются для нее лишь «органами общественного тела», функции которых она изучает, «подобно тому как специальная физиология изучает функции индивидуумов». Общая физиология изучает (автор говорит: выражает) законы общественного существования, с которыми и должны сообразоваться писаные законы. Впоследствии буржуазные социологи, например, Спенсер, пользовались учением об общественном организме для самых консервативных выводов. Но цитируемый нами доктор медицины – прежде всего реформатор. Он изучает об-щественное тело в видах общественного переустройства, так как только социальная физиология и тесно связанная с нею гигиена дают положительные основы, на которых можно построить требуемую современным состоянием цивилизованного мира систему общественной организации".
Уже из этих слов видно, что, по мнению г. Бельтова, биологическими аналогиями мож-но злоупотреблять не только в смысле буржуазного консерватизма Спенсера, но и в смысле утопических планов социальной реформы. Уподобление общества организму играет при этом совершенно второстепенную, если не десятистепенную роль: дело не в уподоблении общества организму, а в стремлении обосновать «социологию» на тех или других выводах биологии. Г. Михайловский горячо восставал против уподобления общества организму; в борьбе против этого уподобления есть, несомненно, «капля его меду». Но это вовсе не существенно. Существенное значение имеет вопрос о том, считал или не считал г. Михайловский возможным обосновать социологию на тех или других выводах биологии? А на этот счет никакое сомнение невозможно, как в этом убедится всякий, прочитавший, например, статью "Теория Дарвина и общественная наука". В этой статье г. Михайловский говорит, между прочим, следующее: "Под общим заглавием «Теория Дарвина и общественная наука» мы будем говорить о различных вопросах, затрагивавмых, решаемых и перерешаемых теорией Дарвина и тем или другим из ее со дня на день прибывающих сторонников. Основная наша задача состоит все-таки в определении, с точки зрения Дарвиновой теории, взаимного отношения между физиологическим разделением труда, т. е. разделением труда между органами в пределах одного неделимого, и разделением труда экономическим, т. е. разделением труда между целыми неделимыми в пределах вида, расы, народа, общества. С нашей точки зрения эта задача сводится к изысканию основных законов кооперации, т. е. фундамента общественной науки. Искать основных законов кооперации, т. е. фундамента общественной науки, в биологии – значит стоять на точке зрения французских сен-симонистов двадцатых годов; другими словами, «зады твердить и лгать за двух».
Тут г. Михайловский может воскликнуть: да ведь в двадцатых годах теория Дарвина еще не существовала! Но читатель понимает, что дело ничуть не в теории Дарвина, а в утопическом стремлении, – общем г. Михайловскому с сенсимонистами, – применить физиологию к улучшению общественных учреждений. В указанной нами статье г. Михайловский совершенно соглашается с Геккелем («Геккель совершенно прав»), который говорил, что будущим государственным людям, экономистам и историкам придется, главным образом, обратить свое внимание на сравнительную зоологию, т. е. на сравнительную морфологию и физиологию животных, если они пожелают получить верное понятие о своем специальном предмете. Как хотите, а если Геккель «совершенно прав», т. е. если социологам (и даже историкам!) надо обратить «главным образом» свое внимание на морфологию и физиологию животных, то без злоупотребления, – в ту или иную сторону, – биологическими аналогиями дело не обойдется! И не ясно ли, что точка зрения г. Михайловского на социологию есть старая точка зрения сен-симонистов?
Вот только это и говорил г. Бельтов, и напрасно г. Михайловский как бы снимает с себя теперь ответственность за социологические идеи Бухарцева-Ножина. В своих собственных исследованиях он не очень далеко ушел от взглядов своего покойного друга и учителя. Г. Михайловский не понял, в чем заключается открытие Маркса, и потому остался неисправимым утопистом. Это очень печальное оложение, но из него могло бы вывести нашего автора только новое усилие мысли; плаксивое же обращение к читателю, даже вполне неблагосклонному, нимало не поможет бедному "социологу".
Г. Бельтов сказал два слова в защиту г. П. Струве. Это подало гг. Михайловскому и Н.-ону повод "утверждать", что Бельтов взял г. Струве под свое «покровительство». Мы очень много говорили в защиту г. Бельтова. Что скажут о нас г. Михайловский и г. Н.-он? Они, наверное, сочтут г. Бельтова нашим вассалом. Заранее извиняясь перед г. Бельтовым, что мы предвосхитили его возражения гг. субъективистам, мы спросим этих последних: неужели согласиться с тем или другим писателем значит взять его под свое покровительство? Г. Михайловский Должны мы понимать их согласие в том смысле, что г. Михайловский согласен с г. Н.-оном по некоторым очередным вопросам русской жизни, взял г. Н.-она под свое покровительство? Или, может быть, г. Н.-он покровительствует г. Михайловскому? Что сказал бы покойный Добролюбов, услышав этот странный язык современной нашей «передовой» литературы?
Г. Михайловскому кажется, что г. Бельтов исказил его учение о героях и толпе. Мы опять думаем, что г. Бельтов вполне прав, и что, возражая ему, г. Михайловский играет роль Траннона. Но прежде, чем подтвердить это наше мнение, мы считаем нужным сказать несколько слов о заметке г. Н.-она – «Что же значит экономическая необходимость?», появившейся в мартовской книжке «Русского Богатства».
В этой заметке г. Н.-он воздвигает против г. Бельтова две батареи. Мы возьмем их одну за другою.








