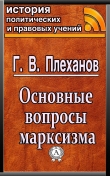Текст книги "Н. Г. Чернышевский. Книга вторая"
Автор книги: Георгий Плеханов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
Здесь у Чернышевского понятие "нация" не совпадает с понятием: "масса общества". А ввиду того, что под обществом понимались и до сих пор иногда понимаются у нас так называемые образованные классы, то можно подумать, что вышеприведенная, весьма не лестная характеристика массы относится только к этой части населения. Мысль эту можно было бы подтвердить выписками из других его статей [59]59
Удовольствуемся одной. «До февраля 1848 г. Виктор Гюго не знал, какой у него образ мыслей в политике, ему не приходилось думать об этом; а впрочем он был прекраснейший человек и отличный семьянин, добрый, честный гражданин, и сочувствовал всему хорошему, в том числе, славе Наполеона I и рыцарскому великодушию Александра I, доброму сердцу герцогини Орлеанской, матери наследника тогдашнего короля Луи-Филиппа, и несчастиям благородной герцогини Беррийской, матери соперника этому королю и этому наследнику, сочувствовал прекрасному таланту Тьера, соперника Гизо, гениально простому красноречию Гизо (едва ли не величайшего из тогдашних ораторов), честности Одилона Барро, противника Гизо и Тьера, гению и честности Араго, знаменитого астронома, главного представителя республиканцев в тогдашней палате, благородству фурьеристов, добродушию Луи Блана, великолепной диалектике Прудона, любил монархические учреждения, и, кроме того, все остальное хорошее, в том числе и Спартанскую республику, и Вильгельма Телля, – образ мыслей известный и заслуживающий всякого почтения уже и по одному тому, что из сотни честных образованных людей чуть ли не 99 человек во всех странах света имеют наверно такой образ мыслей» (т. X, ч. 2, отд. 2, стр. 95–96). Тут уже Чернышевский сам говорит, что, характеризуя «массу общества», он имеет в виду собственно обработанные классы.
[Закрыть]. Но неправильно было бы заключать отсюда, что Чернышевский подобно нашим народникам ставил «простолюдинов» выше интеллигенции. Мы уже знаем, каким низким представлялся ему умственный уровень «простонародья» даже в самых передовых странах Европы; мы видели, что поддержка, оказанная французским народом либеральной буржуазии в 1830 году, объяснялась у него тем соображением, что масса везде живет рутиною. Значит, если он в своих отзывах о массе делает иногда молчаливо подразумеваемое исключение для «простолюдинов», то то происходит по какой-нибудь особенной причине, а вовсе не потому, что он ставит их выше общества. Какая же это причина? Та, что «простолюдины», вообще говоря, не занимаются, по его мнению, политикою, а потому и не имеют случая обнаружить свою склонность к рутине. В политическом обозрении 6-й книжки «Современника» за 1859 год, он, сообщив о том, что в Германии усиливается движение, требующее вмешательства Немецкого Союза в пользу Австрии, замечает: «Мы говорили не о простолюдинах, а собственно о классах, в которых сосредоточивается общественное мнение, которые заняты политическими делами, читают газеты и обнаруживают влияние на ход дел, – эта толпа, повсюду служащая игрушкою своекорыстия и интриги» [60]60
Сочинения, т. V, стр. 249.
[Закрыть].
"Простолюдины" не читают газет, не занимаются политическими делами и не имеют влияния на их ход. Так обстоит дело теперь, пока еще глубоко спит их сознание. А когда оно пробудится под влиянием передового отряда действующей исторической армии, состоящего из "лучших людей", усвоивших себе выводы современной науки, тогда" простолюдины" поймут, что их задача состоит в коренном переустройстве общества, и тогда они возьмутся за дело этого переустройства, не имеющее прямого отношения к вопросам о формах политического устройства. Таков был преобладавший взгляд Чернышевского, который и обнаруживается в большинстве его многочисленных политических обозрений [61]61
Эти обозрения составляют по объему, по крайней мере, два тома полного собрания его сочинений.
[Закрыть]. Если иногда этот, по существу своему идеалистический, взгляд на политику уступает место другому взгляду, являющемуся как бы зачатком материалистического понимания, то это есть лишь исключение, совершенно подобное тому, с которым мы встречались при изучении исторических взглядов Чернышевского: читатель помнит, что в этих взглядах, тоже идеалистических по своему существу, тоже встречались зачатки материалистического взгляда на историю. Поясним же теперь двумя примерами, какой характер должны были принимать политические обозрения Чернышевского под влиянием только что указанного нами и преобладавшего у него взгляда на отношение политики к главным задачам рабочего класса.
Первый пример. В январе 1862 года он в своем политическом обозрении вступает в спор с прусской либеральной "National Zeitung" по поводу внутренней политики Австрии. "National Zeitung" писала: "Судьба Австрии да послужит для других государств уроком, чтобы они не делали расходов, превышающих финансовую их силу. Причиною разорения Австрии служит безмерность расходов ее на войско". Чернышевскому не нравится это размышление "National Zeitung". Он сознается, что не имеет возможности опровергнуть данные, на которых оно построено. Эти данные засвидетельствованы, "к сожалению", самим австрийским правительством, которое имело неосторожность "объявить цифру своего дефицита". Но, "к счастью", спор можно перевести в область принципов и на почву исторической необходимости. При таком его обороте окажется, что австрийское правительство право. Чернышевский рассуждает так:
Расходы на войско в Австрии действительно очень велики. Но, ведь иначе и быть не может: австрийская армия многочисленнее французской, а ее содержание обходится почти вдвое дешевле. Стало быть, нельзя обвинять австрийское правительство в излишней расточительности. Правда, можно сказать, что Австрия могла бы уменьшить свою армию. Но Чернышевский утверждает, что австрийское правительство решительно не в состоянии сделать это. Чтоб иметь возможность уменьшить армию, оно должно было бы отказаться от Венеции и удовлетворить требования венгров. Но какое же правительство отказывалось когда-нибудь добровольно от обладания какою-нибудь землею. Англия никогда не отказывалась от господства над Ирландиею; Пруссия – от господства над Познанью. "Значит, – заключает Чернышевский, – обскурантизм и деспотизм австрийского правительства остается тут не при чем: либеральное правительство точно так же старалось бы сохранить власть над Венециею" [62]62
Сочинения, т. IX, стр. 205.
[Закрыть]. То же и насчет Венгрии. Советовать австрийскому правительству удовлетворить ее желаниям, это все равно, как если бы советовать купцу, чтоб он не брал торговой прибыли, или советовать землевладельцу, чтобы он не брал дохода со своей земли, или советовать «National Zeitung», чтобы она отказывалась от подписчиков. Даже более того: Чернышевский находит, что даже эти нелепые советы менее странны, чем советы, даваемые австрийскому правительству либералами. Австрийское правительство не может последовать этим советам [63]63
Там же, стр. 206.
[Закрыть].
Подобные доводы, приводившие к тому заключению, что деспотическое австрийское правительство поступает совершенно правильно, должны были поражать и в самом деле поражали очень многих читателей "Современника". Они производили впечатление даже не равнодушия к вопросам политической свободы, а прямого сочувствия обскурантам. Противники не раз обвиняли Чернышевского в таком сочувствии. Именно ввиду подобных обвинений он в конце своего мартовского политического обозрения 1862 года делает ироническое признание: "для нас нет лучшей забавы, как либерализм, – так вот и подмывает нас отыскать где-нибудь либералов, чтобы потешиться над ними". Но на самом деле он писал свои парадоксальные обозрения, разумеется, не за тем, чтобы "потешиться" над либералами, и не за тем, чтобы защищать деспотические правительства. В их основе лежала та мысль, что при наличности данных общественных отношений дела не могут идти иначе, чем они идут, и что тот, кто желает, чтобы они шли иначе, должен направить свои усилия на коренную переделку общественных отношений. Поступать иначе значит только даром тратить свое время. Либералы вызывали насмешки Чернышевского именно тем, что они предлагали паллиативы там, где нужно было радикальное лечение [64]64
В своих «Очерках политической экономии» Чернышевский, указывая на несоответствие существующего экономического порядка с «требованиями здравой теории», прерывает иногда свое изложение вопросом: «Должен ли оставаться такой быт, при котором возможна подобная несоответственность?». (См., например, Соч., т. VII, стр. 513). На такой же вопрос должны были наводить его читателей и политические его обозрения – особенно те, из которых следовал тот несообразный" вывод, что правы не враги деспотизма, а его защитники. Такой вывод являлся у Чернышевского только лишним доводом против нынешнего «быта». Но либералы часто не понимали этого.
[Закрыть].
Второй пример. В апреле того же года по поводу столкновения прусского правительства с прусскою палатою депутатов, Чернышевский опять как будто берет сторону абсолютизма в его борьбе с либерализмом. По его словам, либералы напрасно удивлялись тому, что прусское правительство не сделало им добровольной уступки, а предпочло волновать страну распущением палаты. "Мы находим, – говорит он, – что прусскому правительству так и следовало поступить" [65]65
Там же, стр. 236.
[Закрыть]. Это опять должно было поразить наивного читателя и показаться ему изменою делу свободы. Само собою понятно, однако, что и тут наш автор вовсе не ополчался на защиту деспотизма, а только хотел воспользоваться прусскими событиями для сообщения наиболее догадливым из своих читателей правильного взгляда на то главное условие, от которого зависит в последнем счете исход всех крупных общественных столкновений. И вот что говорит он на этот счет:
"Как споры между различными государствами ведутся сначала дипломатическим путем, точно так же борьба из-за принципов внутри самого государства ведется сначала средствами гражданского влияния или так называемым законным путем. Но как между различными государствами спор, если имеет достаточную важность, всегда приходит к военным угрозам, точно так и во внутренних делах государства, если дело не маловажно. Если спорящие государства слишком неравносильны, дело обыкновенно решается уже одними военными угрозами: слабое государство исполняет волю сильного, и этим отвращается действительная война. Точно так же и в важных внутренних делах война отвращается только тем, если одна из спорящих сторон чувствует себя слишком слабою, сравнительно с другой: тогда она смиряется, лишь только увидит, что противная партия действительно решилась прибегнуть к военным мерам. Но если два спорящие государства не так неравносильны, чтобы слабейшее из них не могло надеяться отразить нападение, то от угроз доходит дело и до войны. Обороняющийся имеет на своей стороне очень большую выгоду, и потому, если он уже не слишком слаб, то не падает духом от решимости более сильного противника напасть на него" [66]66
Там же, стр. 241.
[Закрыть].
С этой точки зрения он и смотрел на то, что происходило тогда в Пруссии. Он защищал и хвалил прусское правительство, – необходимо заметить это, – единственно потому, что оно "действовало как нельзя лучше в пользу национального прогресса", разрушая политические иллюзии тех наивных пруссаков, которые, неизвестно на каком основании, воображали, что система истинно конституционного правления водворится у них сама собою, без борьбы со старым порядком. И если он не обнаруживал ни малейшего сочувствия к прусским либералам и даже потешался над ними, то это объясняется тем, что и они, по его справедливому мнению, хотели добиться своих целей без решительной борьбы со своими политическими врагами. Говоря о возможном исходе столкновения между палатою и правительством, он с большою проницательностью замечает, что "судя по нынешнему настроению общественного мнения в Пруссии, надобно полагать, что противники нынешней системы находят себя слишком слабыми для военной борьбы и готовы смириться при первой решительной угрозе правительства, что оно прибегнет к военным мерам" Так оно и вышло. Чернышевский был прав в своем презрении к прусским либералам. Они действительно хотели, чтобы конституционный порядок утвердился в Пруссии сам собою. Они не только не прибегли к решительным действиям, – за это их нельзя было бы винить, так как при тогдашнем соотношении общественных сил это было невозможно, – но в принципе осуждали всякую мысль о таких действиях, т. е. препятствовали, насколько это зависело от них, такому изменению общественных сил, которое позволило бы прибегнуть к таким действиям в будущем. Чернышевский не мог простить им это, как не простил и Лассаль. Замечательно, что именно в то время, когда Чернышевский осмеивал прусских либералов в своих политических обозрениях, Лассаль громил их в своих речах. И еще более замечательно, что в этих речах германский агитатор иногда теми же словами, как и Чернышевский, говорил о соотношении общественных сил, как об основе политического строя каждой данной страны. Лассаль имел во многих отношениях тех же учителей, что и Чернышевский. Естественно, что политическая мысль обоих работала в одном и том же направлении и приходила к результатам, отчасти совпадающим между собою. Мы потому говорим: "отчасти", что, отмечая большое сходство между взглядами Лассаля, с одной стороны, и Чернышевского, с другой, не следует закрывать глаза и на различие между ними. Лассаль не ограничивается тем выводом, что конституция каждой данной страны служит юридическим выражением существующего в ней соотношения общественных сил. Он старается найти те причины, которыми определяется это соотношение, и находит их в общественной экономике. Относящиеся к этому вопросу речи Лассаля проникнуты материалистическим духом, чего совсем нельзя сказать, например, об его речи о философии Фихте или об его "Системе приобретенных прав". Чернышевский тоже не игнорирует вопроса о причинах, обусловливающих собою соотношение общественных сил, но в своем анализе он останавливается, дойдя до общественного самосознания, т. е. не переступает той границы, которая отделяет исторический идеализм от исторического материализма. В противоположность Лассалю, он в своих рассуждениях о прусских делах выступает гораздо более последовательным идеалистом, чем во многих других своих статьях политического или исторического содержания. Эта разница тоже должна быть целиком отнесена на счет "соотношения общественных сил". В Пруссии, как ни слаб был прусский капитализм сравнительно с тем, что он представляет собою в настоящее время, все-таки уже начиналось рабочее движение в новейшем смысле этого слова; а в России только начинало расцветать то движение разночинцев, которое называется обыкновенно движением интеллигенции. Под влиянием нужд рабочего движения даже идеалисты нередко оказываются вынужденными рассуждать по материалистически. Примеров такого влияния нужд рабочего движения можно не мало насчитать в современной Франции. Движение интеллигенции, наоборот, даже материалистов толкает иногда на путь чисто идеалистических рассуждений. Это особенно хорошо наблюдается в нынешней России.
Политические обозрения Чернышевского предназначались для "лучших людей", которым нужно было знать, чему они должны учить отсталую массу. Дело "лучших людей" сводилось, главным образом, к пропаганде. Однако, не исключительно к ней. "Простонародье", вообще говоря, не фигурирует на политической сцене. И то, что происходит на этой сцене, – тоже говоря вообще, – мало касается его интересов. Но бывают исключительные эпохи, в течение которых народная масса пробуждается от своей обычной спячки и делает энергичные, хотя нередко малосознательные, попытки к улучшению своей судьбы. В такие исключительные эпохи деятельность "лучших людей" более или менее утрачивает свой преимущественно пропагандистский характер и становится агитационной. Вот что говорит Чернышевский о подобных эпохах:
"Исторический прогресс совершается медленно и тяжело… так медленно, что если мы будем ограничиваться слишком короткими периодами, то колебания, производимые в поступательном ходе истории случайностями обстоятельств, могут затемнить в наших глазах действие общего закона. Чтобы убедиться в его неизменности, надобно сообра-зить ход событий за довольно продолжительное время… Сравните состояние обществен-ных учреждений и законов Франции в 1700 году и ныне, – разница чрезвычайная, и вся она в выгоду настоящего; а между тем, почти все эти полтора века были очень тяжелы и мрачны. То же самое и в Англии. Откуда же разница? Она постоянно подготовлялась тем, что лучшие люди каждого поколения находили жизнь своего времени чрезвычайно тяжелою; мало-помалу хотя немногие из их желаний становились понятны обществу, и потом, когда-нибудь, через много лет, при счастливом случае, общество полгода, год, много три или четыре года, работало над исполнением хотя некоторых из тех немногих желаний, которые проникли в него от лучших людей. Работа никогда не была успешна: на половине дела уже истощалось усердие, изнемогала сила общества и снова практическая жизнь общества впадала в долгий застои, и по-прежнему лучшие люди, если переживали внушенную ими работу, видели свои желания далеко не осуществленными и по-прежнему должны были скорбеть о тяжести жизни. Но в короткий период благородного порыва многое было переделано. Конечно, переработка шла наскоро, не было времени думать об изяществе новых пристроек, которые оставались не отделаны начисто, некогда было заботиться о субтильных требованиях архитектурной гармонии новых частей с уцелевшими остатками, и период застоя принимал перестроенное здание со множеством мелких несообразностей и некрасивостей. Но этому ленивому времени был досуг внимательно всматриваться в каждую мелочь, и так как исправление не нравившихся ему мелочей не требовало особенных усилий, то понемногу они исправлялись; а пока изнеможенное общество занималось мелочами, лучшие люди говорили, что перестройка не докончена, доказывали, что старые части здания все больше и больше ветшают, доказывали необходимость вновь приняться за дело в широких размерах. Сначала их голос отвергался уставшим обществом, как беспокойный крик, мешающий отдыху; потом, по восстановлении своих сил, общество начинало все больше и больше прислушиваться к мнению, на которое негодовало прежде, понемногу убеждалось, что в нем есть доля правды, с каждым годом признавало эту долю все в большем размере, наконец, готово было согласиться с передовыми людьми в необходимости новой перестройки, и при первом благоприятном обстоятельстве с новым жаром принималось за работу, и опять бросало ее, не кончив, и опять дремало, и потом опять работало" [67]67
Сочинения, т. V, стр. 490–491.
[Закрыть].
Политические обозрения Чернышевского имели целью именно показать "лучшим людям", что старое здание современного общественного порядка все более и более ветшает, и что необходимо "вновь приняться за дело в широких размерах". И, как это по всему видно, ему к концу первого, – т. е. досибирского, – периода его литературной деятельности стало казаться, что общество все больше и больше прислушивается к его мнению и все больше и больше соглашается с ним. Другими словами, он стал думать, что и в русской истории приближается один из тех благодетельных скачков, которые редко совершаются в истории, но зато далеко подвигают вперед процесс общественного развития. Настроение передовых слоев русского общества в самом деле быстро поднималось, а вместе с ним поднималось и настроение Чернышевского. Он, находивший когда-то возможным и полезным разъяснять правительству его собственные выгоды в деле крестьянского освобождения, теперь уже и не думает обращаться к правительству. Всякие расчеты на него кажутся ему вредным самообольщением. В статье "Русский реформатор" ("Современник", 1861 года, октябрь), написанной по поводу выхода книги Н. Корфа: "Жизнь графа Сперанского", Чернышевский подробно доказывает, что никакой реформатор не должен обольщаться у нас подобными расчетами. Враги называли Сперанского революционером. Этот отзыв смешит Чернышевского. У Сперанского, действительно, были очень широкие планы преобразования, но смешно называть его революционером по размеру средств, какими он думал воспользоваться для исполнения своих намерений. Он держался только тем, что успел приобресть доверие имп. Александра I. Опираясь на это доверие, он и думал осуществить эти планы. И именно поэтому Чернышевский называет его мечтателем. Он был человеком очень тонкого ума, но горячность его стремлений ввела его в ошибку. Мечтатели часто бывают смешны; но они становятся вредны обществу, когда обольщаются в серьезных делах. "В своей восторженной хлопотливости на ложном пути, – говорит Чернышевский, – они как будто добиваются некоторого успеха и тем сбивают с толку многих, заимствующих из этого мнимого успеха мысль идти тем же ложным путем. С этой стороны деятельность Сперанского можно назвать вредною" [68]68
Сочинения, т. VIII, стр. 319.
[Закрыть].
Не поддается вредным увлечениям в политике только тот, кто постоянно помнит, что ход общественной жизни определяется соотношением общественных сил. Тому, кто хочет действовать сообразно с этим основным положением, приходится иногда переживать тяжелую нравственную борьбу. Чернышевский старается предупредить на этот счет "лучших людей" своего времени ввиду приближавшегося, как он думал, скачка. Так, еще в январе 1861 года, разбирая одну книгу известного американского экономиста Кери, ничтожество которого, мимоходом сказать, разоблачается у него самым лучшим образом, он неожиданно переходит к известной еврейской героине Юдифи и горячо оправдывает ее поступок. Он говорит: "Исторический путь не тротуар Невского проспекта; он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то через болота, то через дебри. Кто боится быть покрыт пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность: она – занятие благородное для людей, когда вы думаете действительно о пользе людей, но занятие не совсем опрятное. Правда, впрочем, что нравственную чистоту можно понимать различно: иному, может быть, кажется, что, например, Юдифь не запятнала себя… Расширьте круг ваших соображений, и у вас по многим частным вопросам явятся обязанности, различные от тех, какие следовали бы из изолированного поставления тех же вопросов" [69]69
Сочинения, т. VIII, стр. 37–38.
[Закрыть].
В начале 60-х годов правительство вознамерилось несколько ослабить цензурные стеснения. Решено было написать новый цензурный устав, и печати позволили высказаться по вопросу об ее собственном обуздании. Чернышевский не замедлил выразить по этому поводу свой собственный взгляд, по обыкновению сильно расходившийся с обычным либеральным взглядом. Правда, Чернышевский сам едко смеется над теми людьми, которые полагают, что типографский станок имеет какую-то специфическую силу вроде белладонны, серной кислоты, гремучего серебра и т. п. "Наше личное мнение не расположено к ожиданию ненатурально вредоносных результатов от предметов и действий, в которых нет силы производить такие бедствия. Мы думаем, что для произведения общественных бед типографский станок слишком слаб. Ведь нет на нем столько чернил, чтобы, прорвавшись как-нибудь, затопили они страну, и нет в нем таких пружин, чтобы, сорвавшись как-нибудь и хлопнув по литерам, стрельнули они ими, как картечью". Однако Чернышевский признает, что бывают такие эпохи, когда печать может оказаться опасною для правительства данной страны не менее картечи. Это именно такие эпохи, когда интересы правительства расходятся с интересами общества и приближается революционный взрыв. Находясь в подобном положении, правительство имеет все основания стеснять печать, потому что печать, наравне с другими общественными силами, готовит его падение. В таком положении постоянно находились почти все часто сменявшиеся французские правительства нынешнего века. Все это очень обстоятельно и спокойно изложено Чернышевским. О русском правительстве до самого конца статьи нет и речи. Но в заключение Чернышевский неожиданно спрашивает читателя, – а что если бы оказалось, что законы о печати действительно нужны у нас? "Тогда мы вновь заслужили бы имя обскурантов, врагов прогресса, ненавистников свободы, панегиристов деспотизма и т. д., как уже много раз подвергали себя такому нареканию". Поэтому он и не хочет исследовать вопроса о надобности или ненадобности специальных законов о печати у нас. "Мы опасаемся, – говорит он, – что добросовестное исследование привело бы нас к ответу: да, они нужны" [70]70
Сочинения, т. IX, стр. 130, 155–156.
[Закрыть]. Вывод ясен: нужны потому, что и в России приближается время «скачка».
В той же мартовской книжке "Современника", в которой была напечатана только что цитированная нами статья, появилась также полемическая заметка: "Научились ли?" по поводу известных студенческих беспорядков 1861 года. Чернышевский защищает в ней студентов от упрека в нежелании учиться, который делали им наши "охранители", и по пути высказывает также много горьких истин правительству. Ближайшим поводом к этой полемике послужила статья неизвестного автора в "С.-Петербургских Академических Ведомостях" под заглавием: "Учиться или не учиться?". Чернышевский отвечает, что по отношению к студентам такой вопрос не имеет смысла, так как они всегда хотели учиться, но им мешали стеснительные университетские правила. Студентов, – людей, находящихся в том возрасте, когда по нашим законам мужчина может жениться, принимается на государственную службу и "может быть командиром военного отряда", – университетские правила хотели поставить в положение маленьких ребят. Неудивительно, что они протестовали. Им запрещали даже такие совершенно безвредные организации, как товарищества взаимной помощи, безусловно необходимые при материальной необеспеченности большинства учащихся. Студенты не могли не восстать против таких порядков, так как тут дело шло о "куске хлеба и о возможности слушать лекции. Этот хлеб, эта возможность отнимались". Чернышевский прямо заявляет, что составители университетских правил именно хотели отнять возможность учиться у большинства людей, поступающих в студенты университета. "Если автор статьи или его единомышленники считают нужным доказать, что эта цель нисколько не имелась в виду при составлении правил, пусть они напечатают документы, относящиеся к тем совещаниям, из которых произошли правила". Безыменный автор статьи "Учиться или не учиться?" направил свой упрек в нежелании учиться не только против студентов, но и против всего русского общества. Этим и воспользовался Чернышевский, чтобы свести спор о беспорядках в университете на более общую почву. Противник его допускал, что существуют некоторые признаки желания русского общества учиться. Доказательством этому служили, по его мнению, "сотни" возникающих у нас новых журналов, "десятки" воскресных школ. "Сотни новых журналов, да где же это автор насчитал сотни? – восклицает Чернышевский. – А нужны были бы действительно сотни, и хочет ли автор знать, почему не основываются сотни новых журналов, как было бы нужно? Потому, что по нашим цензурным условиям невозможно существовать сколько-нибудь живому периодическому изданию нигде, кроме нескольких больших городов. Каждому богатому торговому городу было бы нужно несколько хотя маленьких газет; в каждой губернии нужно было бы издаваться нескольким местным листкам. Их нет потому, что им нельзя быть… Десятки воскресных школ… Вот это не преувеличено, не то, что сотни новых журналов: воскресные школы в империи, имеющей более 60 миллионов населения, действительно считаются только десятками. А их нужны были бы десятки тысяч, и скоро могли бы точно устроиться десятки тысяч, и теперь же существовать; по крайней мере, много тысяч. Отчего же их только десятки? Оттого, что они подозреваются, стесняются, пеленаются, так что у самых преданных делу преподавания в них людей отбивается охота преподавать".
Сославшись на существование "сотен" новых журналов и "десятков" воскресных школ, как на кажущиеся признаки желания общества учиться, автор разобранной Чернышевским статьи поспешил прибавить, что признаки эти обманчивы. "Послушаешь крики на улицах, – меланхолически повествовал он, – скажут, что вот там-то случилось то-то, и поневоле повесишь голову и разочаруешься"… "Позвольте, г. автор статьи, – возражает Чернышевский, – какие крики слышите вы на улицах? Крики городовых и квартальных, – эти крики и мы слышим. Про них ли вы говорите? Скажут, что вот там-то случилось то-то… – что же такое, например? Там случилось воровство, здесь превышена власть, там сделано притеснение слабому, здесь оказано потворство сильному, – об этом беспрестанно творят. От этих криков, слышных всем, и от этих ежедневных разговоров в самом деле поневоле повесишь голову и разочаруешься".
Обвинитель студентов нападал на их мнимую нетерпимость к чужим мнениям, на то, что они в своих протестах прибегают к свисткам, моченым яблокам и тому подобным "уличным орудиям". Чернышевский возражает ему, что "свистки и моченые яблоки употребляются не как уличные орудия: уличными орудиями служат штыки, приклады, палаши". Он предлагает своему противнику вспомнить, "студентами ли употреблялись эти уличные орудия против кого-нибудь, или употреблялись они против студентов… и была ли нужда употреблять их против студентов".
Понятно, какое впечатление должны были производить подобные статьи Чернышевского на русское студенчество. Когда впоследствии студенческие беспорядки повторились в конце шестидесятых годов, то статейка "Научились ли?" читалась на сходках студентов, как лучшая защита их требований. Понятно также, как должны были встречать подобные вызывающие статьи гг. "охранители". "Опасное" влияние великого писателя на учащуюся молодежь все более и более становилось для них несомненным. Мы уже знаем, как было устранено это влияние.
Стоя на точке зрения утопического социализма, Чернышевский находил, что те планы, к осуществлению которых стремились его западные единомышленники, могли осуществиться при самых различных политических формах. Так говорила теория. И пока Чернышевский не уходил из ее области, он не обинуясь высказывал этот свой взгляд. В начале его литературной деятельности наша общественная жизнь как будто обещала дать некоторое, хотя бы только косвенное, подтверждение справедливости этого взгляда: у наших передовых людей явилась тогда надежда на то, что правительство возьмет на себя почин беспристрастного решения крестьянского вопроса. Это была несбыточная надежда, от которой Чернышевский отказался едва ли не ранее, чем кто-либо другой. И если в теории он и впоследствии неясно видел связь экономики с политикой, то в своей практической деятельности, – говоря это, мы имеем в виду его деятельность, как публициста, – он выступал непримиримым врагом нашего старого порядка, хотя его своеобразная ирония продолжала вводить многих либеральных читателей в заблуждение на этот счет. На деле, – если не в теории, – он стал человеком непримиримой политической борьбы, и жажда борьбы сказывается едва ли не в каждой строке каждой из его статей, относящихся к 1861 г. и, в особенности, к роковому для него 1862 году.