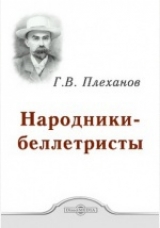
Текст книги "Народники-беллетристы"
Автор книги: Георгий Плеханов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
"Мигай часто надолго забывал Бляшку, но когда ему приходилось жутко, он вспоминал его. Епишка сам лез к нему, мелькал перед глазами, расшибал все старые его представления и направлял мечты его в другую сторону. Главное, Епишка во всем успевал; не потому ли он успевал, что никакого "опчисва" у него нет?"
На этом роковом для общинных "идеалов" объяснении он невольно останавливался все чаще и чаще. "Епишка ни с чем не связан, Епишка никуда не прикреплен; Епишка может всюду болтаться… Были бы только деньги, а в остальном прочем ему все трын-трава… Мигай неминуемо приходил к вывощу, что для получения удачи необходимы следующие условия: не иметь ни сродственников, ни знакомых, ни "опчисва" – жить самому по себе. Быть от всего оторванным и болтаться, где хочешь… Для Мигая Епишка был факт, которым он поражался до глубины души. Сделав свой доморощенный вывод из факта, он принимался размышлять дальше". "Иногда ему приходило на мысль бегством разорвать связывавшие его "апчественные" путы. "Опчисво" казалось ему врагом, от которого надо удрать как можно скорее. Но и удрать нелегко было бедному фантазеру. Нелегко – по многим причинам. Во-первых. Епишка был не только свободным от общественной тяготы человеком, но еще и человеком с деньгами, а именно денег-то и не было у нашего героя. Кроме того, Мигай прекрасно знал, что "опчисво" не так-то легко отпускает своих членов на все четыре стороны. И на каком бы месте ни садился Минай в своем воображении, перед ним всегда мелькает такая картина:
– Минай Осипов, здесь?
– Я – Минай Осипов.
– Ложись…
Это представление преследовало его, как тень. Куда бы он ни залетал в своих фантастических поездках, но, в конце концов, он соглашался, что его найдут, привезут и разложат.
Одного этого обстоятельства, так много говорящего в пользу несокрушимости "устоев", достаточно было, чтобы замедлить полет фантазии Миная, давала себя чувствовать также и сильно укоренившаяся привычка к обществу. "Минай только на минуту забывал его. Когда же он долго останавливался на какой-нибудь картине одиночной "жисти", его вдруг охватывала тоска".
"Как же это так можно? – с изумлением спрашивал он себя. – Стало быть, я волк? И окромя, стало быть, берлоги мне уж некуда будет сунуть носа?!" У него не будет тоща ни завалинки, на которой он по праздникам шутки шутит и разговоры разговаривает со всеми парашкинцами, ни схода, на котором он пламенно орет и бушует, – ничего не будет! "Волк и есть", – оканчивал свои размышления Мигай. Тоска, понятная только ему одному, охватывала его так сильно, что он яростно плевал на Епишку и уж больше не думал подражать ему".
Когда люди держатся за данные общественные отношения лишь в силу старой привычки, между тем как действительность идет вразрез с их привычкой, то можно с уверенностью сказать, что отношения эти близятся к концу. Тем или другим образом они будут заменены новым общественным порядком, на почве которого возникнут новые привычки. Хотя наш Дон-Кихот с ужасом думал о разрыве с общиной, но, тем не менее, связь его с нею была уже окончательно подорвана. Под нею не было никакой реальной основы. "Это только временная узда, – говорит Каронин. – Придет время, когда парашкинское общество растает, потому что Епишка недаром пришел… Он знаменует собой пришествие другого-Епишки, множества Епишек, которые загадят парашкинское общество". Впрочем, Минаю пришлось покинуть деревню, не дожидаясь пришествия "множества Епишек". Он "утек" в город, когда у него вышел последний, взятый в долг, мешок муки и когда занимать было уже негде, потому что он и без того задолжал всем и каждому. Чтобы обезопасить себя от всяких преследований со стороны парашкинского "опчисва", которое могло бы через посредство администрации его поймать, привести и "разложить" его в волостном правлении, Мигай должен был вступить в таинственные переговоры с писарем Семенычем, выдавшим ему годовой паспорт. Община, уже неспособная поддерживать благосостояние своих членов, могла еще сильно вредить попыткам их устроиться на новом месте.
В письмах к жене Минай фантазировал по-прежнему. Он уверял ее, что скоро заработает большие деньги и что они купят новую избу и станут "жить семейственно с детками". Но автор не говорит, сбылись ли эти новые "фантастические замыслы" его героя.
III.
Вернее всего, что ее сбылись, потому что парашкинское общество совсем исчезло с лица земли. История его исчезновения изложена в рассказе «Как и куда они переселились». Невозможно передать то невыносимо тяжелое впечатление, какое производит этот рассказ г. Каронина. Краски так черны, что читатель невольно спрашивает себя: неужели здесь нет никакого преувеличения?
К несчастью, преувеличения нет, и мы увидим, что автор ни на шаг не отступил от печальной русской действительности.
Когда мы перечитывали этот рассказ, нам припомнились слова Шиллера: "Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst". Увы, к нам неприменимы эти слова! Печальна наша общественная жизнь и вовсе невесело искусство, служащее ее верным отражением.
Но вернемся к нашему предмету. Парашкинское "опчисво" находилось при последнем издыхании. В несчастной деревне водворялась мерзость запустения.
"Прежде деревня тянулась в два ряда вдоль реки, – читаем мы в рассказе, – а теперь остались от улицы одни только следы. На месте большинства изб виднелось пустое пространство, заваленное навозом, щепками и мусором и поросшее травою. Кое-где, вместо изб, – просто ямы. Несколько десятков изб – вот все, что осталось от прежней деревни… Поля вокруг деревни уже не засевались сплошь, как прежде; во многих местах желтели большие заброшенные плешины; там и сям земля покрылась вереском", скот отощал и "едва волочил ноги, паршивый, худой, с ребрами наружу и с обостренными спинами".
Бедные парашкинские обыватели прониклись какими-то странным равнодушием ко всему окружающему. Они, когда-то с тревогой и недоумением задававшие себе вопрос, – "кто же будет платить, если мы все разбежимся?" – теперь забыли и думать об этом роковом вопросе, хотя он не только остался не разрешенным, но делался все более и более неразрешимым, по мере того, как суживался круг плательщиков. На них накопились неоплатные недоимки, кулак Епишка кругом запутал их в свои сети, у них не было ни хлеба, ни других запасов, – и все это не могло пробить коры овладевшего ими равнодушия. "Они перестали понимать себя и свои нужды, вообще потеряли смысл. Существование их за это время было просто сказочное. Они и сами не сумели бы объяснить сколько-нибудь понятно, чем они жили". Иногда им подвертывались случайные заработки, иногда они ухитрялись находить новые питательные вещества вроде отрубей, которыми они раздобылись у мельника Якова, или клевера, который получали от помещика Петра Петровича Абдулова.
Несколько раз приходила им на помощь земская ссуда, но всего этого, разумеется, было недостаточно. Парашкинцы голодали. Встревоженное слухами об их безнадежном положении губернское земство нарочно прислало гласного, который на месте должен был ознакомиться с их нуждами. Гласный собрал парашкинцев около волостного правления и хотел вступить с ними в разговор. "Парашкинцы, однако, молчали, и каждое слово надо было вытягивать ив их уст".
– Все вы собрались? – спросил прежде всего гласный.
Парашкинцы переглянулись, потоптались на своих местах, но молчали.
– Только вас и осталось?
– А то сколько же! – грубо отвечал Иван Иванов.
– Остальные-то на заработках, что ли? – спросил гласный, раздражаясь.
– Остальные-то? Эти уж не вернутся… не-ет! Все мы тут.
– Как же ваши дела? Голодуха?
– Да уж надо полагать она самая… Словно как бы дело выходит на эту точку… стало быть предел… – отвечало несколько голосов вяло и апатично…
– И давно так?
На этот вопрос за всех отвечал Егор Панкратов.
– Как же недавно? – сказал он. – С которых уже это пор идет, а мы все перемогались, все думали, авось пройдет, авось Бог даст… Вот она, слепота-то наша какая!
– Что же вы, чудаки, молчали?
– То-то она, слепота-то, и есть! и т. д.
Впрочем, из дальнейшего разговора парашкинцев с гласным оказалось, что положение их нимало не изменилось бы даже и в том случае, если бы они не молчали.
"А что, ежели спросить вашу милость, – сказали они ему, – насчет, будем прямо говорить, ссуды… Будет нам ссуда, ай нет?" – Ничего вам не будет, – мрачно ответил он и уехал".
Его отказ мало огорчил парашкинцев. Они уже и не ожидали помощи ни откуда. По-видимому, им оставалось только "помирать", как вдруг крестьянин Ершов неожиданно заговорил о переселении на новые места. По его словам, он знал такие благодатные места, добравшись до которых парашкинцам "помирать" не было бы уже никакой надобности. "Перво-наперво – лес, гущина такая, что просвету нет… – говорил он после одной сходки, – и земля… сколько душе угодно, а назем, чернозем стало быть, косая сажень в глубь, во как!" Радостно забились от этих слов одичавшие сердца парашкинцев. Соблазнительная картина тех мест, где "земли сколько душе угодно", сообщила им новую энергию, "прежней апатии и спокойствия не замечалось уже ни на одном лице". Ершова окружили со всех сторон и засыпали вопросами.
Главный вопрос, немедленно возникший в головах этих, будто бы "свободных" земледельцев, заключался в том, отпустит ли их начальство.
– Ловок! уйдешь! Как же ты уйдешь, выкрутишься-то как отсюда? – кричали Ершову
– Отселе-то как выкрутишься? Говорю – возьмем паспорта и уйдем, по причине, например, заработков, – возразил Ершов и сам начал волноваться.
– А как поймают?
– На кой ляд ты нужен? Поймают… Кто нас ловить-то будет, коли ежели мы внимания не стоим по причине недоимок? А мы сделаем все, как следует, честь-честью с пашпортами"…
Чтобы окончательно столковаться относительно того, как "выкрутиться", постановили устроить тайный сход ночью в лесу, вдали от бдительного ока волостного начальства. На этом сходе решено было на другой же день взять паспорта, а затем, не откладывая, выступить в путь.
Весьма характерна следующая подробность. Так как вместе с притоком новых сил к парашкинцам возвратилось сознание о роковой необходимости платить, то они тотчас же поняли, что хотя они и "не стоят внимания по причине недоимок", как говорил Ершов, но предержащим властям все-таки, пожалуй, не понравится их исчезновение.
Поэтому заговорщики упросили своего деревенского грамотея Фрола, всегда игравшего у них роль ходатая по делам, "отправиться немедленно по начальству и ходатайствовать за них; хоть задним числом – все же может простят их!" Сказано – сделано. Парашкинцы взяли паспорта и отправились в путь-дорогу. На старом пепелище осталось только четыре семьи: старуха Иваниха (мать знакомого нам Демы), да еще дедушка Тит, сильно не одобрявший затеи парашкинцев. "Не донесете вы своих худых голов, – кричал он, грозно стуча в землю костылем, – свернут вам шею! Помяните слово мое, свернут!" У этого старика связь с землею была, вообще, гораздо прочнее, чем у остальных парашкинцев, принадлежавших уже к другому поколению. "Где он родился, там и помирать должен; которую землю облюбовал, в ту и положит свои кости", – так отвечал он на все убеждения своих односельчан, казавшихся ему легкомысленными мальчишками. Эта черта заслуживает большого внимания. Н. Златовратский также показывает во многих из своих очерков, что привычка к "устоям" у стариков гораздо сильнее, чем у крестьян молодого поколения.
Итак, парашкинцы двинулись на новые места. Они шли с легким сердцем, бодрые и радостные. Радость их была, однако, очень кратковременна. За ними по пятам гнался становой, как фараон за бежавшими из Египта евреями.
– Это вы куда собрались, голубчики? – закричал он, нагнавши их на пятнадцатой версте.
Парашкинцы в оцепенении молчали.
– Путешествовать вздумали? а?
Парашкинцы сняли шапки и шевелили губами.
– Путешествовать, говорю, вздумали? В какие же стороны? – спросил становой и, потом вдруг переменяя тон, заговорил горячо. – Что вы затеяли… а? Перес-е-ление? Да я вас… вы у меня вот где сидите!
– Я из-за вас двое суток не спавши… Марш домой… У! Покою не дадут!
Парашкинцы все еще стояли оцепенелые, но вдруг, при одном слове домой, заволновались и почти в раз проговорили:
– Как тебе угодно, ваше благородие, а нам уже все едино! Мы убегем!"
Полицейский фараон не испугался этой угрозы и повел беглецов назад, в Парашкино. Двое понятых сели на переднюю телегу переселенцев, а сам он поехал сзади. В таком виде тронулся этот странный поезд, напоминавший, по словам г. Каронина, "погребальное шествие, в котором везли несколько десятков трупов в общую для них могилу – в деревню". На половине дороги становой выехал на середину поезда и громко спросил:
– Ну, что, ребята, надумались? или все еще хотите бежать? Бросьте! Пустое дело!
– Убегем! – твердо отвечали парашкинцы.
Перед въездом в деревню становой возобновил меры кротости и увещания.
– Убегем! – с тою же мрачною твердостью отвечали парашкинцы. Бдительный и расторопный начальник ее ожидавший ничего подобного, струсил и растерялся.
Его положение в самом деле было затруднительное. Впрочем, он еще не окончательно потерял надежду сломить упорство беглецов, и, чтобы "пробудить в их ожесточившихся сердцах любовь к благодетельной «власти» болотцев, он решил употребить несколько более энергичные средства. Он запер пойманных парашкинцев в бревенчатый загон, куда пастухи помещика Абдулова загоняли скот. Там он решил держать их, «пока не сознаются в незаконности своих действий и не откажутся от желания бежать».
Более трех дней просидели пленники в скотском загоне, без пищи для себя, без корму для лошадей, но решение их было неизменно.
– Убегем! – говорили они на все угрозы. Наконец терпение фараона лопнуло. На него напала такая "меланхолия", что он не звал, как вырваться из несчастной деревни. "Черт с вами! Живите, как знаете!", – воскликнул он и уехал. "А через день после его отъезда парашкинцы бежали. Только не вместе и не на новые места, а в одиночку, кто куда мог, сообразуясь с направлением, по которому в данную минуту смотрели глаза. Одни бежали в города… Другие ушли неизвестно куда и никем после не могли быть отысканы, продолжая, однако, числиться жителями деревни. Третьи бродили по окрестностям, не имея ни семьи, ни определенного занятия, ни пристанища, потому что в свою деревню ни за что не хотели вернуться. Так кончили парашкинцы".
Не правда ли, читатель, вам кажется все это странным и до крайности тенденциозным преувеличением? Но мы можем уверить вас, что нарисованная г. Карониным картина совершенно верна действительности. Рассказ "Как и куда они переселились", – это настоящий "протокол", хотя и не в духе золяистов. Вот вам довольно убедительное доказательство. В 1868 г. в славянофильской газете "Москва" (No от 4 октября) было сообщено, что многие крестьяне Смоленской губернии продают все свое имущество и бегут, куда глаза глядят. Пореческий исправник так излагал это явление в своем донесении о нем губернским властям: "Вследствие затруднительного в последнем году положения по продовольствию крестьян государственных имуществ вверенного мне уезда, Верховской, Касплинской, Лоинской и Иньковской волости, крестьяне-одиночки, обремененные семействами, распродали на продовольствие скот и другое имущество; не удовлетворив же этим своих нужд по продовольствию, приступили к распродаже засеянного хлеба, построек и всего остального своего хозяйства и под предлогом заработков забирают свои семейства с целью переселиться в другие губернии"…
"Безысходное голодающее состояние крестьян, – писал тот же исправник дальше, – поселило в них дух отчаяния, недалекий до беспорядков"… Разбредающихся крестьян отправились ловить и водворять на место жительства смоленский вице-губернатор, исправник и жандармский полковник, но убеждения их оказались тщетными. "Крестьяне Иньковской волости заявили вице-губернатору, что они во всяком случае уйдут и что, если их воротят с дороги и подвергнут тюремному заключению, это все-таки будет лучше, чем умирать дома от голода".
Мы передали этот факт так, как он рассказан "Москвою". Скажите, заявление смоленских крестьян – разве это не то же, что каронинское "убегем"? А ловля их вице-губернатором, исправником и жандармским офицером, – ведь это нечто, еще более грандиозное, чем каронинская погоня станового за парашкинцами. Извольте же, после этого обвинять нашего автора в преувеличениях!
IV
Когда наша народническая «интеллигенция» рассуждает о так называемых «устоях» народной жизни, она забывает о реальных, исторических условиях, в которых этим «устоям» приходилось развиваться.
Даже не сомневаясь в том, что сельская поземельная община очень хорошая вещь, следовало бы помнить, что история часто шутит очень злые шутки с самыми хорошими вещами и что под ее влиянием сплошь да рядом разумное превращается в нелепое, полезное во вредное. Это хорошо знал еще Гете. Недостаточно одобрять общину в принципе, нужно спросить себя, каково живется современным русским общинникам в современной русской общине и не лучше ли было бы, если бы эта современная община – со всеми ее современными, действительными, а не вымышленными условиями – перестала существовать? Мы видели, что самым фактом своего бегства парашкинцы ответили на этот вопрос утвердительно. И они были нравы, потому что деревня стала для них «могилой». Мы все боимся вторжения в деревню «цивилизации», т. е. капитализма, который будто бы разрушит народное благосостояние. Но, во-первых, в лице «множества Епишек», т. е. в лице представителей ростовщического капитала, «цивилизация» уже вторглась в деревню, несмотря та все наши жалобы, а, во-вторых, пора же, наконец, сообразить, что нельзя разрушить то благосостояние, которое не существует. Что потерял Дема, переходя из-под власти «болотцев» под власть машины? Вы помните: «Как ни жалки были условия его фабричной жизни, но, сравнивая их с теми, среди которых он принужден был жить в деревне, он приходит к тому заключению, что жить на миру нет никакой возможности… Пища его улучшилась, т. е. он был уверен, что и завтра будет есть, тогда как дома он не мог предсказать этого… Но важнее всего: вне деревни его не оскорбляли, деревня же предлагала ему ряд самых унизительных оскорблений».
Вспомните также, что у Демы при мысли о деревне "страдало человеческое достоинство, проснувшееся от сопоставлении двух жизней", т. е. жизни деревенской, на почве старых «основ», и жизни на фабрике, под властью капитализма. «Меня арканом сюда не затащишь!» – говорит однодеревенец Демы, Потапов, может быть, под влиянием подобного же ощущения. «Эти уже не вернутся, не-е-т!» – уверяет гласного Иван Иванов насчет покинувших деревню «кочевых народов». Или все это не убедительно? Или, может быть, вы опять заговорите о преувеличениях? Но тогда обвиняйте всю народническую беллетристику, потому что и у Гл. Успенского, и у Златовратского, и даже у Решетникова вы можете найти совершенно подобные черты современной народной психологии, хотя и в менее ярком виде. Загляните также в статистические исследования, – и вы увидите там, что многие крестьяне-"собственники" платят своим арендаторам за то только, чтобы те хоть на время развязали их с землею. Да что статистика! Снимите народническую повязку с своих глаз, присмотритесь к быту рабочих, познакомьтесь с ними, – и вы у многого множества из них встретите по отношению к деревне то же самое «недоброе чувство», какое, по словам г. Каронина, питал к ней Дема.
Многому множеству из них деревня и деревенское общество действительно представляются не чем иным, как "местом мучений". Странно ввиду этого, скорбеть о пришествии к нам "цивилизации" и о разрушении фабрикой несуществующего народного благосостояния. Известно, что нашего брата, русского марксиста, очень часто и очень охотно обвиняют в западничестве. Вообще говоря, мы гордимся этим упреком, потому что все лучшие русские люди, оставившие наиболее благодетельные следы в истории умственного развития нашей страны, были решительными и безусловными западниками. Но на этот раз мы хотим повернуть против наших противников их собственное оружие и показать им, как много в их рассуждениях бессознательного (а следовательно, и необдуманного) западничества.
Толки о разрушении капитализмом народного благосостояния ведутся у нас с западноевропейского голоса. Но на Западе толки эти имели огромный смысл, потому что вполне соответствовали действительности.
Развитие капитализма в большинстве западноевропейских стран действительно понизило уровень народного благосостояния. И в Англии, и в Германии, и даже во Франции перед началом капиталистической эпохи, в конце средних веков, трудящиеся классы отличались такой степенью зажиточности, до какой им очень далеко в настоящее время [14]14
См. Янсена «Die allgemeinen Zustände des deutschen Volkes beim Ausgang des Mittelalters», Freiburg 1881, Drittes Buch, Volkswirtschaft. О положении английских рабочих накануне окончатель-ного торжества капитализма, см. Энгельса «Lage der arbeitenden Klasse in England», Маркса «Das Kapital», а также книгу Роджерса «Six centuries of Work and Wages».
[Закрыть].
Поэтому западноевропейские социалисты правы, когда говорят, что капитализм принес к ним с собою народное оскудение (хотя необходимо заметить, что они вовсе не заключают отсюда, что капитализм был не нужен). Но разве же можно приравнивать современное положение русских крестьян к положению, хотя бы, английских трудящихся классов в конце средних веков? Ведь это же величины бесконечно далекие одна от другой? Английский рабочий может иногда вспомнить добром материальное положение своих средневековых предков. Но следует ли отсюда, что современный наш русский фабричный рабочий должен сожалеть о современной нам русской деревне, в которой он не испытывал ничего, кроме физических и нравственных страданий?
По отношению к народному благосостоянию русская история шла совсем не так, как западноевропейская. То, что, напр., в Англии съел капитализм, у нас уже съело государство. Об этом не мешало бы помнить нашим противникам западничества. Герцена поразил когда-то «страшно нелепый факт, что лишение прав большей части населения шло (у нас) увеличиваясь от Бориса Годунова до нашего времени». В этом факте нет ничего нелепого. Иначе и быть не могло при нашей экономической неразвитости и при тех требованиях, которые навязывались русскому государству соседством с гораздо более развитой запашной Европой, а отчасти и самодурством наших самодержцев, часто бравшихся за решение совершенно чуждых интересам России вопросов международной политики. За все это, и за соседство с Западной Европой и за политические прихоти самодержцев, расплачивался русский мужик, наша единственная платежная сила. Русское государство брало и берет у своего трудящегося населения относительно (т. е. применительно к его экономической состоятельности) более, чем брало когда бы то ни было и какое бы то ни было государство в мире. Отсюда беспримерная бедность русского крестьянства, отсюда же и «лишение прав большинства населения», которое посредственно или непосредственно закрепощено было государству. Само освобождение крестьян «с землей», до сих пор приводящее в умиление людей чувствительных, но не очень умных, было у нас не чем иным, как новой попыткой обеспечить на счет крестьян удовлетворение денежных нужд государства. Земля давалась им затем, чтобы обеспечить им исправное исполнение их «обязанностей по отношению к государству», а лучше сказать затем, чтобы оставить государству благовидный предлог для выжимания из них всех соков. Государство спекулировало на выкупной операции, продавая крестьянам земли дороже, чем платило за них помещикам. Так возник новый, современный нам вид крепостной зависимости крестьян, благодаря: которой у них часто отбирается (припомните нашу статистику) не только доход, приносимый наделом, но и значительная часть постороннего заработка. Бегство крестьян из деревень, стремление их разделаться с землей означает только желание их сбросить с себя эти новые крепостные цепи и спасти, по крайней мере, свой посторонний заработок {Вот весьма поучительная сценка, заимствуемая нами из одного очерка Гл. Успенского. Он встречает одного из представителей «кочевых народов», который кажется ему каким-то «воздушным существом», и вступает с ним в беседу.
"Когда я спросил его: – куда он теперь идет и зачем? то воздушное существо" отвечало: – А и сам не знаю!.. Главное – капиталу нет нисколько! да и паспорта нету, подати требуют! Слова о податях являлись какою-то неожиданностью в общем впечатлении воздушного человека; капиталу у него нет, паспорта нет, куда идет-неизвестно; нет у него ни табаку, ни одежи, ни шапки – и вдруг какие-то подати! – За что же ты платишь-то? спросил я, недоумевая. – За две души платим. Один? Вот как есть! – Стало быть у тебя земля есть? Воздушный человек подумал и весело прочирикал по-птичьи: – Не! Мы платим с пуста!
"Разговор о податях, готовый было разрушить мое впечатление о воздушности человека, благо-даря последней фразе "с пуста", вновь прервал всякую связь между ним и действительностью; он опять оказался существом вполне воздушным что и поспешил подтвердить следующими веселыми словами:
"– Нам с пуста платить – самое приятное дело!.. Ежели бы платить не с пуста, так куда бы хуже было… А с пуста-то, слава тебе Господи! – С пуста платить лучше, чем не с пуста? Чувствуя, что я вместе со своим собеседником после последних слов как бы поднялся от земли к небу и нахожусь в воздушном пространстве, – спросил я с удивлением, и с удивлением же услышал еще более веселые слова: – Бесподобно хорошо с пуста-то платить!..
"– Постой! – сказал я, чувствуя как бы головокружение от высоты подъема над земной поверхностью, – ты говоришь с пуста платить лучше? То есть платить, не получая земли? – Это самое! – Почему так? Ведь землю ты мог бы отдать в аренду?" Воздушный человек засиял радостью: – Да она болото у нас!..
Этот ответ опять как бы приблизил нас к земле.
" – Болото!.. Но почему же тебе все-таки выгодно платить и без болота! Чем оно тебе мешает?.. – Да не дай Бог к нему касаться, к болоту-то! – Ты и не касайся! – Не касался бы, так оно касается! Возьми-ко я болото, ан уж я общественник стал! С меня уж и на старосту возьмут, и на волость, к подорожные повинности, и мостовую, и караул, и – Боже мой чего еще!.. А как я от земли отказался, остается мне моя душа, и больше ничего!.. Отдал за две порции, – и знать ничего не надо!.." ("Северный Вестник" 1889 г., 3 книжка, стр. 210–211).}. Ловля же крестьян администрацией показывает, что государство, прекрасно понимает эту сторону дела и, водворяя крестьян на место жительства, снова и снова старается обеспечить исправное исполнение их "обязанностей" по отношению к нему. Нам ли, демократам какого бы то ни было цвета, сочувствовать подобной ловле? Нет, нет и нет, мы приветствуем бегство крестьян от земли, потому что мы видим в нем начало конца, экономический пролог великой политической драмы: падения русской самодержавной монархии. Самодержавная монархия зашла слишком далеко, она "не по чину берет" и, вынуждая крестьян бежать от земли, разрушая все старые основы их экономической жизни, она разрушает вместе с тем свое собственное экономическое основание.
Когда-то, во времена Мамаевской Руси, все не выносившие государственной тяготы бежали на окраины: на "тихий Дон", на "матушку-Волгу" и оттуда, собравшись в огромные шайки "воровских людей", не раз угрожали государству. Теперь обстоятельства изменились. На пустынных некогда окраинах закипела новая экономическая жизнь, пульс которой бьется даже быстрее, чем в центре. Покинувшие деревню "кочевые народы" группируются теперь уже не в "воровские" шайки. а в рабочие батальоны, управиться с которыми русскому правительству будет потруднее, чем с удальцами доброго старого времени. В этих батальонах зреет новая историческая сила. Не стихийный, разбойничий протест подвинет ее на борьбу с правительством, а сознательное стремление перестроить общественное здание на новых началах и на основе тех могучих производительных сил, которые создаются теперь их трудом на фабриках. Пусть же самодержавие делает свое дело, пусть помогают ему в этом дельцы и предприниматели. От их успеха русский народ уже не может ровно ничего потерять. Напротив, он наверное очень много выиграет.
V.
Не подумайте, однако, что разложение старых «устоев» (народной жизни совершается исключительно под влиянием непомерных платежей, взваленных на общину государством. Во-первых, дело не столько в самых тягостях, сколько в том характере денежных платежей, который необходимо принимают эти платежи в современной России и под влиянием которого крестьянское хозяйство из натурального превратилось в товарное. Кроме того, «когда общество попало на след естественного закона своего развития», все его внутренние силы, работая в самых различных направлениях, делают в сущности одно и то же дело. Со времени петровской реформы государство сделало очень много для того, чтобы толкнуть Россию на путь товарного, а затем и капиталистического производства. Но теперь в этом направлении действует уже не одно только государство. Напротив, одной рукой толкая Россию на этот путь, государство другой рукой стремится задержать ее на старом. Об это противоречие и разобьется наше самодержавие, потому что оно пустило в ход такой хозяйственный двигатель, с каким ему необходимо придется столкнуться.
Но в настоящее время помимо государства есть другая, еще более страшная сила, ведущая Россию на путь капитализма. Она называется внутренней логикой народных экономических отношений. И нет власти, которая могла бы остановить ее действие! Она проникает везде, ее влияние сказывается повсюду, она накладывает свою печать на все попытки крестьян улучшить свое хозяйственное положение. Посмотрите, как хорошо изобразил эту сторону дела разбираемый нами автор. Крестьяне деревни Березовки (рассказ "Братья") переселились из внутренней России в одну из привольных степных губерний. На родине они бедствовали, на новых местах им удалось добиться "некоторого материального довольства". Казалось бы, что тут-то и должно было начаться блестящее развитие знаменитых "устоев". Вышло, однако, как раз наоборот. На родине, в нужде и несчастье, у них "была одна душа", как говорили старики; на новых местах началось внутреннее разложение их общества, завязалась невидимая борьба между особью и "миром". Постепенно "каждый сельский житель стал сознавать, что он ведь человек, как все, и создан для себя, и больше ни для кого, как именно для себя! И каждый ведь сам может жить, устраиваясь без помощи бурмистра, кокарда и "опчества" В доказательство этого открытия в соседних с Березовкой местах поселились примеры, Первый пример: приехал из соседнего города, купил у казны участок степи и стал жить на нем, под видом мещанина Ермолаева, и зажил, по выражению всех березовцев, "дюже шибко". Другой пример носил кокарду; самого его никто не видел, но вместо него сел на степь второй гильдии купец Пролетаев: "превосходная шельма". Третий пример проявился в этих местах вроде непомнящего родства, потому что ни один из березовцев не знал его происхождения и звания: "кажись, мужичок по обличью, но уж очень серьезности в ем много"… А прочие-то люди, жившие в пределах деревни, люди, ни к какому обществу не приписанные и ни с чем не связанные, разве они не были вескими доводами в пользу новой жизни? Каждый из сельских жителей очень часто думал об этих явлениях; и решительно не было ни одного человека, который в свободные минуты не думал бы купить себе участочек, завести «лавочку что ли, ин кабак».








