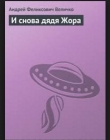Текст книги "Второе дыхание"
Автор книги: Георгий Северский
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
ПОСЛЕДНЯЯ ГРАНАТА [7]7
Рассказ написан в соавторстве с Э. Эльяшевым.
[Закрыть]
Мы сошли на Красном Камне.
Автобус с экскурсией шел дальше. А нас потянуло идти пешком – старыми знакомыми тропами.
Конечно, это была пустая затея. Ни до какого Гурзуфского седла мы не добрались. Наташа увидела славную полянку и заявила:
– Ты как хочешь, а я остаюсь здесь.
Я тоже остался, – начинало темнеть, Наташины глаза подернулись мягким блеском, и, как это часто бывало, мне захотелось положить голову ей на колени, по-мальчишески растянувшись в траве.
Мы расстелили газету, болтая о том, о сем, поужинали всякими вкусными вещами, которые оказались в Наташиной «авоське». А после ужина замолчали, покоренные наступившей в природе тишиной.
– Ой, как же хорошо, – тихонько сказала Наташа. – Ну просто… Ну, так не бывает!..
Ночь была удивительно мягкая, нежная, чуткая. Я улегся на спину и отыскал смуглевшую в темноте Наташину руку. Смотрел в глубокое, шершавое от звезд небо и думал, что в такую ночь все, вероятно, немножко поэты, все по-юношески влюблены и полны тихим счастьем. И почему-то мне стало грустно, но это была хорошая, теплая грусть… Откуда-то пришли стихи:
Ты посмотри,
Какая в мире тишь,
Ночь обложила небо
звездной данью…
Где я это слышал?.. Димка? Ну да, ведь это его любимые строчки. Димка!.. Посмотри, как хорошо! Ты извини, что я жив и я с Наташей. Впрочем, нет, мне не за что просить прощения – ведь это только случайность, что я, – а не ты.
А как хорошо было бы собраться нам вместе на этой тихой полянке под теплыми крымскими звездами…
Знаю, это невозможно. Но так ясно, так близко вижу тебя, ощущаю до последней морщинки у близоруко прищуренных глаз, словно ты действительно рядом. Вот, кажется, сейчас неслышно подсядешь и начнешь читать вслух, как всегда, смущенно и неумело:
…в такие вот
часы
встаешь
и говоришь
Векам,
истории
и мирозданью…
Ты всегда был немного не такой, как все, Димка. И мы почему-то не ожидали, что ты, поэт и мечтатель, тоже пойдешь в горы.
Какой ты был тогда неловкий в старой телогрейке! Она не шла к твоей долговязой фигуре; впрочем, никто на это не обращал внимания.
А помнишь, Димка, первого увиденного нами немца? Мертвый, он лежал у обочины дороги, вдавленный в грязь, и равнодушно смотрел в небо.
По землисто-зеленоватому лицу ползали паразиты. Все мы испытывали самые различные чувства при виде этого завоевателя, но трясло тебя одного. Трясло так, что к тебе подошел командир:
– Отставить! Мы на войне. Вам ясно?
И все-таки ты долго не мог прийти в себя и потом, на привале, спустя много времени, потихоньку спросил:
– Ну, хорошо, я же понимаю – война, но зачем паразиты? Ведь он был все-таки человек….
Со временем все мы как-то приладились, пообтерлись и стали похожи на настоящих солдат – все, кроме тебя.
Помнишь Жору Гогоберидзе в партизанском отряде, нашего весельчака? Он вечно подтрунивал над тобой, и мы хохотали, потому что винтовка действительно висела на тебе хомутом, котелок набивал на бедрах синяки, а тощие икры свободно болтались в широких кирзовых голенищах.
Помнишь, мы рыли землянку, и ты умудрился за пять минут натереть кровавые мозоли? Тебе было очень трудно, может быть, труднее, чем нам, а Жора бросил что-то едкое, и ты полез на него с кулаками.
А когда Жору убили, ты впервые попросил закурить…
А помнишь наш лагерь у реки со смешным названием «Марта»? Надо было срочно доставить донесение в соседний отряд. Ты попросил: «Разрешите, я доставлю», попросил, забыв, что обязательно заблудишься в лесу или наткнешься на немцев.
Командир мельком взглянул в твою сторону и послал другого. Помнишь, как ты выругался по-солдатски? В твоем неумелом ругательстве было столько детской обиды и досады на то, что мы окружены, и на командира, не захотевшего тебя понять, и на проклятый, не вовремя взошедший месяц. Помнишь, Димка?..
…Из-за гор, крадучись, выползла луна. На полянку легли причудливые тени деревьев. Я лежал на спине, смотрел на крупные, яркие звезды и поминутно переносился в далекую весну сорок второго года…
Наташа, – в те времена медсестра отряда, – иногда заглядывала к нам в землянку.
– Ну и роскошно же вы живете! Я только на минуточку, чуть-чуть обогреюсь и побегу дальше.
У нас действительно было великолепно, благодаря почти настоящей печке из автомобильного бака.
Прежде чем пустить Наташу к огню, мы с Димкой растирали ее красные, распухшие от холода пальцы. Вспоминая об этом сейчас, я осторожно коснулся ее нежной узкой руки.
Живое тепло Наташиной ладони согрело и успокоило меня, смягчило боль, разбуженную воспоминаниями. Я прикрыл глаза и… увидел Димку. Он сидел, охватив колени руками, к чему-то прислушиваясь, потом задумчиво спросил:
– Ты чувствуешь? Горы дышат. Вот свежая чистая струя – это вдох… – Он помедлил, и, дождавшись, когда теплый воздух мягко коснулся наших лиц, закончил: – А вот выдох. Дышат, как большой добродушный зверь…
Наташа тихо засмеялась. Приподнявшись на локте, она ласково глядела на Димку:
– Вот мы и снова вместе…
Да, мы всегда были вместе, – в классе, на пляже, в пионерском лагере, в горах, где, став постарше, бродили в дни каникул. Часто партизанский отряд проходил местами недавних школьных экскурсий. Конечно, это было нелепо и дико, – война, смерть там, где мы недавно жгли пионерские костры – и никак не укладывалось в начиненной стихами Димкиной голове.
– Война – это всегда нелепо и дико, – сказал Димка, словно угадав мои мысли.
Где-то за Ай-Петри полыхнула далекая зарница.
– Ребенком я боялась грозы, – поежилась Наташа, – а потом, в отряде – бомбежки. Если просто стреляли, я не так боялась. А вот, когда этот вой падающей бомбы выворачивает всю душу наизнанку, когда прижимаешься к земле – все равно, в луже, в грязи ли… Просто перестаешь чувствовать себя человеком. И земля после бомб становится какой-то больной: рваные ямы на снегу, – как черная оспа… И смерть, страшная внезапная смерть, когда так не хочется умирать!.. А сейчас я опять боюсь грозы, – неожиданно закончила Наташа, инстинктивно придвигаясь ко мне поближе.
– Я тоже не хотел умирать… Вы только не смейтесь – ведь мне было всего восемнадцать!..
– От тебя этого никто не требовал, – чуть-чуть виновато сказала Наташа. – Ты мог уйти. Тревога поднялась после первой гранаты.
– Я знаю, – словно оправдываясь, сказал Димка. – Но вы поймите: может быть, другой случай никогда бы и не представился… Это ведь очень обидно – быть всегда в охране. С тех пор, как я раньше времени выстрелил и чуть не погубил всю группу, меня ни разу не брали на операции. И все презирали за то, что на войне я такой никчемный!..
– Глупости! – сказала Наташа. – Никто тебя не презирал. Просто не все одинаково могут воевать.
– Все равно, – упрямо сказал Димка. – Я сам себя презирал. Даже ты, Наташа, ходила на боевые операции, а меня не брали.
– От тебя никто не ждал подвига, – повторила Наташа. – Но ты умер героем!
– Тогда я об этом не думал. Все случилось так внезапно… Ведь это произошло…
– Это произошло на рассвете, когда лагерь просыпался, – сказал я.
– Да, на рассвете… но я не об этом. Лагерь просыпался… Я любил эти минуты. Вот только что были звезды и лагерь спал, и вдруг потянуло дымком – кто-то развел костер, и на нем уже коптится котелок; куда-то уполз туман; партизаны бегут к реке умываться; комиссар бреется перед осколком зеркальца; разведчики чистят автоматы, – значит, им сейчас выходить…
Я только что сменился с поста и спустился к реке. Партизаны мылись прямо напротив лагеря, но я пошел дальше. Потом я встретил Наташу, – она закручивала сырые волосы в пучок на затылке.
Наташа кивнула головой:
– Ты еще сказал, что у меня волосы как после дождя…
– Да, сказал. И представил себе, как они пахнут после дождя, и у меня закружилась голова.
Но я пошел еще дальше… Мне надо было… – замялся Димка, – выстирать портянки. Это ведь не вяжется, – любовь и портянки… Потому что я был тоже влюблен в тебя, Наташа. Теперь-то, об этом можно сказать.
– Я догадывалась, – тихо ответила Наташа. – В меня все были немножко влюблены. А я… А мне было так трудно!
– Я знаю. Поэтому я и молчал. Все молчали… Да, так мне надо было постирать. Это, может быть, глупо, но я не мог стирать их у тебя на глазах. Поэтому я и отошел так далеко…
Во всем была виновата эта речка с таким хорошим весенним названием – Марта. Я замечтался, глядя на быстро бегущую воду. Вы помните – весна стояла холодная, запоздалая. Небо казалось каким-то сырым и сердитым. Впереди, во мгле – серьезные тихие буки. Чуть слышно журчит Марта. И над всем этим – теплый и сильный ветер. Ветер дул со стороны лагеря и приносил приглушенную боль чьей-то песни:
До тебя мне дойти не легко.
А до смерти четыре шага…
И мне стало очень тоскливо, понимаете… Так тоскливо! Тогда я начал выдумывать сказку, – я их всегда выдумывал, когда было тихо и я был один. Потому что на войне тоже нужна сказка… Вернее, это была даже не сказка. Просто я мечтал о мирном звездном вечере, когда воздух напоен тишиной и дразнящим ароматом сирени. И пруд, тихий тургеневский пруд; лишь изредка плеснувшая рыба потревожит сонное отражение звезды, да прилетит откуда-то обрывок песни… А рядом со мной девушка в белом, легкая, почти призрачная. Она была, как Наташа, хотя с того выпускного вечера я ни разу не видел Наташу в белом… Помните, мы отправились тогда гурьбой в Приморский парк встречать солнце. Наташа сначала была с подругами, а когда пришли в парк, она как-то незаметно оказалась с тобой… Да нет, я не подслушивал, просто был недалеко.
Потом я снова увидел Марту, недостиранную портянку, услышал шорох и поднял голову: мне показалось, что буки только притворяются неподвижными, а на самом деле, как только я отвернусь, делают перебежки. Присмотрелся и понял, что это не деревья, а немцы.
У меня были две гранаты, – те самые гранаты, за которые мне влетело от командира. Помните, накануне я наклонился прикурить, а они висели у пояса и чуть не попали в костер.
Я начал распутывать проволоку, которой были прикручены гранаты. Знаете, я был спокоен, очень спокоен. Нельзя волноваться, если распутываешь проволоку, – она будет распутываться медленней.
Потом надо было вставить запал. Кажется, я сначала вставлял его не той стороной. Наконец, все было готово. Я взялся за кольцо. Тогда я еще не боялся, я знал, что успею уйти. Граната взорвалась недалеко, но это было неважно, важен был взрыв, чтобы поднять тревогу. Я обрадовался. Мне все время казалось, что я сделал что-нибудь не так, и граната не взорвется.
Ну вот. Граната взорвалась, и немцы открыли стрельбу из автоматов. Я огляделся. Берег был достаточно высок, чтобы лежа спрятаться от трассирующих пуль.
Знаете, что я чувствовал в ту минуту? Гордость! Да, гордость! Потому что, если немцы открыли по мне такой огонь, – по мне, понимаете, по мне! – значит, они меня боятся!
Оставалась еще одна граната – последняя. Я подумал, что было бы хорошо задержать немцев хотя бы на несколько минут. Потому что вся война складывается из таких минут. И, быть может, выиграть такую минуту гораздо важнее, чем стать поэтом.
Я остался. Я думал, что стал смелым, но, вставляя запал, убедился, что руки мои трясутся, и невольно считал секунды, в которые еще можно было уйти.
И мне стало обидно, что я такой трус…
Немцы постреляли и пошли дальше. Я ведь молчал – у меня оставалась одна граната… До этого мне приходилось метать гранаты только на учениях. Метал я их скверно. Другие бросали на тридцать метров и попадали в окоп. А моя граната летела шагов на двадцать. Так что я не мог рисковать. Я решил подпустить их не меньше, чем на пятнадцать метров, чтобы наверняка…
– Все равно, – сказала Наташа… – Уходить надо было сразу. А пятнадцать или тридцать метров – какая разница? Все равно!
– Но для меня было не все равно! – возразил Димка. – У меня оставалась одна граната! Одна! И я понимал, что второй такой случай никогда не представится!
Вот я их и подпустил на пятнадцать метров… А может, и на десять. Кольцо было давно выдернуто, оставалось ее швырнуть. Мне пришлось встать – лежа я ни за что бы не попал. Граната взорвалась, и трое упали. Понимаете? Упали!
– А потом? – спросила Наташа. – Что было потом?
– Потом ничего не было, – тихо сказал Димка…
…Я поежился от предрассветной свежести, отряхивая остатки сна.
Ночь уходила. Бледнела и таяла посеревшая луна. С Ай-Петри скатилось маленькое пушистое облачко и поплыло к морю. А потом словно маляр-озорник начал водить кистью по небу, сметая последние запоздалые звезды. Под его широкими щедрыми мазками небо заполыхало небывалыми красками. Узкими полосками ложась один на другой, мазки расплывались, смешивались, переливаясь тончайшими полутонами…
– Димка, – ты только посмотри… – начал я и спохватился: наяву Димки не могло быть. Он лежал там, где мы его похоронили. На берегу реки с таким хорошим весенним названием… Мы нашли его после боя. Его прошило несколько очередей. Недалеко, – шагах в десяти, – валялись три серо-зеленых трупа. Наташа, сама не зная зачем, уложила Димку, как спящего ребенка, поудобнее, поцеловала в бескровные крепко сжатые губы и побежала дальше. Она торопилась – там, впереди, ждали живые, которым она была нужнее…
По верхушкам буков сильным порывом промчался теплый ветер. Совсем как тогда, на рассвете. Спросонья что-то сказала Наташа. Она спала, подсунув руку под щеку, и по-детски шевелила мягкими припухшими губами. Мне было жаль ее будить. Я осторожно поцеловал ее, теплую, сонную. Наташа тихо улыбнулась своим снам, и я снова поцеловал ее – за себя и за Димку.
АРТИСТ ЦИРКА
В том году осень наступила рано и неожиданно. Проливные дожди перемежались с мокрым снегом, который быстро таял, оставляя грязные лужи на мостовой и на тротуарах. По ночам тонкий лед сковывал воду, напоминая о скором приходе ранней и холодной для этих мест зимы.
– Видно, и природа воюет, – говорили люди.
Опустевший город неузнаваемо изменился. Казалось, серым пеплом осыпало улицы, дома, редких пешеходов… Печатая шаг, проходили немецкие патрули, и встречные отводили глаза. Так же не глядя, торопились они пройти мимо знакомых зданий, в которых разместились учреждения с чуждыми для слуха названиями: «Городская управа», «Биржа труда», «Полиция» и различные войсковые штабы. Всюду виднелись расклеенные приказы на русском и немецком языках. Приказы начинались со слова «запрещается» и кончались словом «расстрел».
Запрещалось выходить из дома позже восьми часов, запрещалось жечь свет и топить печи в квартирах позже десяти часов. Запрещалось уходить за город без специальных пропусков. Запрещалось все: серые листки приказов запрещали дышать воздухом, видеть солнце, жить.
…В один из редких этой осенью теплых дней Катя – «артистка» бродячего цирка – устало шагала по базару, подталкивая тяжело нагруженную двухколесную тележку. Тележку тянул Катин партнер, силач Колесов.
На углу убегавшей вдаль, к горам, улицы девушка остановилась и, выпрямившись, грустно улыбнулась. Здесь, неподалеку от перекрестка, была прежде ее школа. Трудно представить, что совсем еще недавно она, худенькая, серьезная десятиклассница, спешила, боясь опоздать к началу занятий, что в классе встречали ее подруги, приветливо щурился классный руководитель Николай Терентьевич.
Трудно, однако возможно. Но совсем уже невозможно поверить, что Николая Терентьевича больше нет, что никогда не сядет рядом за парту сероглазая Нина, закадычный друг Кати… Оба погибли в первый же месяц войны от вражеской бомбы.
– Скорее, скорее, Катя! – поторопил девушку ее спутник.
Катя согнулась и налегла на тележку.
…Базар был самым оживленным местом в оккупированном Симферополе. Здесь происходила не только купля-продажа всякого скарба и продуктов. Это было, пожалуй, единственное место, где можно было встретить знакомых, перекинуться с ними словечком, даже узнать правду о фронтовых делах.
Иногда и тут производились облавы, внезапная проверка документов. Все же рынок и для оккупантов был как бы нейтральной зоной.
По базару бродили немецкие и румынские солдаты, щелкая семечки, меняли хлеб, консервы и другую снедь на ценные вещи. Сидели прямо на земле, подстелив тряпье, измученные голодом и усталостью жители побережья. Там – в районах – было еще голоднее. Люди шли пешком десятки километров, везя в самодельных тачках последнее имущество, чтобы обменять его на что-нибудь годное в пищу.
Бывали на базаре и «культурные развлечения». То вдруг зальется гармонь, сопровождая незатейливую песенку, то фокусник потянет из рукава зазевавшегося мальчишки платок, и какое-то подобие улыбки появится на лицах зрителей.
Разные преподносились «развлечения». Ведь пить-есть надо при всех обстоятельствах…
Наступал полдень, когда Катя и Колесов добрались до базара. Поставив тележку около рундуков, перед большой свободной площадкой, девушка повесила на стенку ларька афишу с броской надписью:
С РАЗРЕШЕНИЯ ГОСПОДИНА
КОМЕНДАНТА
СИЛОВОЙ АТТРАКЦИОН.
ВЫСТУПЛЕНИЕ АРТИСТА ЦИРКА
ИВАНА КОЛЕСОВА.
ПЛАТА ПО ЖЕЛАНИЮ.
Затем она расстелила коврик, а Колесов выгрузил из тележки гири и большую штангу. Закончив приготовления, оба сняли пальто. Колесов в цветастом халате присел на тележку и стал наигрывать на губной гармошке вальс. Под эту музыку Катя в трико и короткой юбке начала проделывать гимнастические упражнения.
Работала Катя легко, грациозно. Зрителей собралось много, и они охотно аплодировали, но особенный успех имело выступление самого Колесова.
Когда он сбросил халат и ленивой, немного неуклюжей походкой вышел на ковер, в толпе одобрительно зашумели.
Огромный мускулистый торс, крепкие ноги, крупная голова с тяжелой нижней челюстью производили впечатление необычайной силы.
Колесов начал с того, что, аккомпанируя сам себе на губной гармошке, исполнил «танец мускулов», заставляя мышцы рук, плеч двигаться в такт музыке.
Затем он принялся жонглировать гирями. Гири, как мячи, летали над его головой из одной руки в другую. Немного отдохнув, он натер руки магнезией и взял штангу. Поднимал ее стоя и лежа, крутил на шее, а в заключение посадил на нее Катю и без толчка, плавным жимом поднял высоко над головой.
Раздались аплодисменты. К коробке с надписью «Касса» подходили восхищенные люди и бросали рубли, оккупационные марки – кто что мог.
В толпе зрителей о чем-то спорили несколько немецких солдат. Катя прислушалась и поняла, что спор касается их. Рослый ефрейтор, показывая на штангу и гири, скептически крутил головой и повторял по-немецки: «Нет, нет, не говорите мне, это не настоящие тяжести».
Катя подошла к сидевшему на тележке Колесову.
– Вон, посмотрите, солдаты сомневаются… не верят, что гири и штанга настоящие.
Колесов медленно повернул голову и безучастно посмотрел в ту сторону, куда указывала Катя.
– Ну, и черт с ними, – равнодушно ответил он.
Но ефрейтор, распаленный спором, подошел к Колесову. Показывая на штангу и на себя, он быстро что-то говорил. Потом примерился, ухватил штангу и, напрягшись, приподнял ее немного от земли, но сейчас же бросил. Лицо его стало багровым; в толпе послышались смешки и голоса:
– Что, попробовал? Кишка тонка!
Однако, посмотрев на выпученные глаза ефрейтора, все смолкли, боясь рассердить немцев и навлечь неприятности на артистов.
Ефрейтор, подойдя к Колесову, покровительственно похлопал его по плечу.
– Гут, зер гут. Колоссаль! – говорил он.
По его знаку солдаты положили в тачку две буханки хлеба.
Небо опять заволокли тучи; базар расходился. Кутаясь в старенькое пальто, Катя шла сбоку тележки. Колесов шагал, как всегда, медленно, равнодушный ко всему, будто и не видя окружающего.
«Немцы или русские, – ему все равно», – с неприязнью подумала Катя.
Ей вспомнилось первое знакомство с Колесовым.
…Катина мать заболела еще в начале войны: у нее отнялись ноги. Когда гитлеровцы подходили к Симферополю, нечего было и думать куда-то увозить больную.
Татьяна Борисовна лежала неподвижно в постели и с отчаянным страхом следила за каждым движением дочери.
– Пропадешь со мной, Катя, – шептала она бескровными губами, – спасайся одна.
Но разве могла Катя бросить мать на произвол судьбы? Они как бы поменялись ролями: раньше Татьяна Борисовна холила и пестовала единственную дочь, рано потерявшую отца, теперь Катя, повзрослевшая в эти тяжкие дни, стала матерью больной и беспомощной, как ребенок, Татьяны Борисовны.
Сбережений и больших ценностей в доме не было. На базар одна за другой уходили необходимые вещи, и вскоре Катя увидела, что менять на продукты уже больше нечего. С ужасом думала она о том, чем же кормить мать?
Работы не было.
Спасение пришло неожиданно. Никогда, даже в эти неправдоподобные дни, Катя не думала, что может стать «артисткой» да еще бродячего цирка. Но так уж получилось…
Однажды недалеко от своего дома она встретила Колесова. Катя знала из рассказов соседей, что на их улице поселился, как его называли, «циркач», и часто видела его. Говорили, что он необыкновенно силен и был прежде популярным артистом силовой труппы, но не то еще перед войной, не то в начале войны получил тяжелый ушиб головы и вынужден был покинуть арену.
Колесов остановил девушку.
– Вы, кажется, ищете работу? – спросил он.
Катя ответила утвердительно.
– Идемте со мной, поговорим.
Преодолев смущение, девушка пошла с Колесовым. По обстановке комнаты, в которую они пришли, сразу можно было составить представление о профессии жильца. В углу были свалены гири, гантели, штанги, на стенах висели портреты Колесова в цирковом облачении и даже красочная старая афиша.
Катя стала разглядывать ее.
ПЕТРОГРАДСКІЙ ЦИРКЪ ЧИНИЗЕЛЛИ
СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО!!
НЕОБЫКНОВЕННЫЙ АТТРАКЦІОНЪ
КОЛЕСОВЪ И ЕГО ТРУППА.
Под этим аншлагом на фото был изображен силач, поднимавший группу людей. Внизу афиши Катя разглядела дату: «1914 год». Она с изумлением посмотрела на Колесова. Он коротко пояснил:
– Мой отец. Афишу храню как память о нем.
Колесов усадил Катю и начал расспрашивать. Видимо, от соседей он узнал, что Катя занималась в спортивной школе гимнастикой и имела первый разряд.
– Надо как-то жить, пока установится порядок, – глуховатым голосом говорил Колесов. – Трудно вам с больной матерью… Откроются театры, цирки, варьете, можно будет туда пойти работать. А пока, – он усмехнулся, – решил я свой цирк организовать.
«О каком это «порядке» он говорит – брезгливо подумала Катя, но предложение Колесова работать с ним партнершей после долгих раздумий приняла. Все-таки – свой, русский, и жить на что-то надо.
Пройдя наскоро курс обучения, Катя стала работать с Колесовым…
К вечеру поднялась метель. Холодный порывистый ветер взвихривал над поселком снег и бил в окна с такой силой, что дрожали рамы.
Командир батальона аэродромного обслуживания майор Отто Фурст взглянул на часы. Еще нет и восьми, а в этой берлоге – полная тьма и безлюдье. Даже собачьего лая не слышно. Впрочем – майор усмехнулся своим мыслям – ничего удивительного! Собаки уничтожены по его же приказу, а жителей отучили выходить на улицу с наступлением темноты.
Авиационный полк тяжелых бомбардировщиков «Голубые кресты» считался одним из лучших полков 8-го воздушного корпуса Рихтгофена. В декабре «крестоносцы» были срочно переброшены а Крым. Вместе с ними на один из аэродромов под Симферополем прибыл и майор Отто Фурст.
Майора раздражало здесь все. Столько забот, возни с подготовкой аэродрома, а тут еще никаких элементарных удобств.
В поселке, где квартировали летчики, бездействовал водопровод, не было теплых уборных, а главное – эта мертвящая скука!
Майор зевнул. Чем заняться в такой вечер? Пойти к кому-нибудь распить бутылку вина? Перекинуться в карты?
Но он тут же вспомнил, что отпустил своего денщика на весь вечер. «Скажу часовому, пусть немного проводит», – решил Фурст и стал одеваться.
Толкнув дверь, майор спустился с крыльца. Ветер и сухой колючий снег ударили ему в лицо. Он поднял воротник и осмотрелся. Укрываясь от ветра, к углу жался часовой.
– Ком гер! – позвал его майор.
Часовой подошел и… вдруг ударом приклада сбил майора с ног.
Через секунду, связанный по рукам и ногам, с кляпом во рту, Отто Фурст лежал на снегу. Когда к нему вернулась способность воспринимать окружающее, он увидел, что рядом с ним лежит раздетый труп часового.
«Майн гот! Партизанен!» – обожгла догадка.
У крыльца двое в полушубках и один в шинели с убитого часового о чем-то тихо совещались. Окутанные снежной пеленой, фигуры партизан казались лежащему майору уродливо огромными. Вот сейчас они подойдут и…
Но тут совершилось то, что майор в кругу друзей называл неслыханным чудом. Чья-то исполинская тень перемахнула через забор. Послышались ругательства, вскрик. Мелькнул в воздухе выбитый из рук партизана автомат. В руках другого блеснул нож. Мгновенье – и страшный удар незнакомца отбросил партизана с ножом далеко в сторону. Схватив лежащий в снегу немецкий автомат, незнакомец хотел открыть стрельбу, но двое партизан, подхватив оглушенного товарища, уже исчезли со двора.
Великан легко поднял Фурста на руки, бережно внес в дом. Здесь он вынул кляп изо рта майора, освободил его от пут, и к тому времени, когда в комнату вбежали перепуганные солдаты караула и поднятые по тревоге офицеры, Отто Фурст, наконец, обрел дар речи.
Слушая рассказ командира БАО, немцы то приходили в негодование от дерзости партизан, то с изумлением разглядывали могучую фигуру незнакомца, выручившего майора.
А тот спокойно стоял в стороне, щурясь от яркого света и безразлично посматривая на возникшую суету.
Майор подошел к нему и похлопал по плечу.
– Ти есть брави храбрец, ти есть кароши германски патриот. Как тебя зовут?
От этой похвалы тень улыбки скользнула по равнодушному лицу незнакомца.
– Фамилия моя Колесов, зовут Иван Григорьевич, – медленно, растягивая слова, ответил он.
– Гут, ты, Иван Колесоф, будешь, как это сказать, мой хранитель.
Улыбаясь, майор пощупал мускулы Колесова и с восхищением воскликнул: – Феномен!
С этого дня бывший артист цирка Колесов стал телохранителем майора Отто Фурста.
Пришел и прошел новый, 1942 год.
Немцы в Крыму нервничали. Приказ фюрера взять Севастополь к полугодовщине войны с Россией, то есть к 21 декабря – выполнен не был.
Гитлеровцы временно прекратили штурм города и начали перегруппировку войск. Все ощутимей становилось сопротивление народа. На горных дорогах появились предупреждающие надписи:
«Внимание! Держи оружие наготове. Здесь партизаны».
Невидимые руки все чаще спускали под откос железнодорожные эшелоны с боеприпасами и военным снаряжением. Каждый камень, каждое дерево грозили пулей.
Даже на тщательно охраняемом аэродроме недавно взорвались баки и сгорело много тонн авиационного горючего. Это причинило немало неприятностей и хлопот майору Фурсту.
…В один из дней начала января перед домом Фурста остановилась легковая машина. Майор, обрадованный, выскочил навстречу своему старому приятелю гауптштурмфюреру [8]8
Гауптштурмфюрер – капитан войск СС.
[Закрыть]Эрнсту Дилле.
Несмотря на то, что гость был чином ниже майора, Фурст почтительно суетился около него. После взаимных приветствий друзья уселись в небольшом кабинете майора, служившем одновременно и спальней.
– Неважно устроился, – поморщился гость.
– У моих офицеров и этого здесь нет. Дыра!
– Да! Не Париж, – насмешливо согласился Дилле.
Отто Фурст настороженно посмотрел на приятеля: что он имеет в виду? В свое время, когда майор был в Париже, ему однажды намекнули, что среди содержимого его посылок на имя фрау Фурст попадаются не личные, а военные трофеи. Но Дилле спокойно закурил сигарету.
– Какие новости, Эрнст? – спросил Фурст, успокоившись.
– Новости? Новостей много, мой дорогой Отто, – заговорил Дилле, раскуривая сигарету.
Эрнста Дилле майор Фурст знал давно, они вместе учились в университете. Несмотря на сравнительно небольшой эсэсовский чин, гауптштурмфюрер вел значительную работу в контрразведке.
– Нового много, – повторил Дилле. – Сейчас в штабе армии тихая паника. Новогодних наград не получил никто. Возможны понижения по службе. Фюрер возмущен срывом военной кампании на юге России. И он прав, – Дилле скомкал в пепельнице папиросу. – Не взяв Севастополя, мы не можем наступать на Кавказ… Декабрьские события под Москвой и затянувшаяся блокада Ленинграда и Севастополя могут иметь для нас очень серьезные последствия, – он перегнулся к Фурсту. – Ты, конечно, понимаешь, Отто, что все это я говорю строго конфиденциально?
– О, конечно! Да, да, – поспешно заверил Фурст.
– Сейчас везде идет подготовка к грандиозному наступлению. Севастополь мы, конечно, возьмем… – Дилле усмехнулся, – фон Манштейн наденет, наконец, мундир фельдмаршала. Кстати, Отто, я приехал по исключительно важному делу. Оно может помочь и тебе получить поскорее следующий чин.
В дверь постучали. На пороге вытянулся денщик.
– Кушать подано, – доложил он.
Фурст повел Дилле в соседнюю комнату к столу, уставленному закусками и вином, наполнил бокалы:
– Благодарю, Эрнст, что вспомнил обо мне.
Дилле покровительственно улыбнулся:
– Да, да, Отто, я не забываю старых друзей. Как у тебя там? – он кивнул на дверь.
– Можно говорить. Не слышно, и посторонних нет.
Глядя на Фурста желтыми прищуренными глазами, Дилле продолжал:
– Разработана операция, значение ее огромно… Одним ударом мы выведем из строя, уничтожим все руководство обороной Севастополя. Наш агент сообщил, что 18 января на улице Карла Маркса, в здании кинотеатра «Ударник», соберутся на совещание командование и руководство обороной города.
Дилле поднялся:
– Есть приказ совершенно секретно готовить авиацию для удара по этому объекту. Налет – с твоего аэродрома. Ты включен в оперативную группу по подготовке операции. Надеюсь, тебе ясны последствия этой операции, – Дилле подчеркнул, – последствия для тех, кто будет принимать в ней участие.
Напряженно слушавший Фурст кивнул головой.
Дилле налил рюмку.
– Обезглавив оборону города, мы быстрей откроем его ворота. Выпьем за успех. Да поможет нам бог! Хайль Гитлер!
Дилле предупредил Фурста, что дня через два его вызовут в Симферополь на оперативное совещание, и стал прощаться.
Майор открыл дверь, крикнул денщика, но вместо него вошел Колесов.
– Где есть Ганс? – спросил у него «по-русски» Фурст.
Колесов пожал плечами.
– Вышел куда-то…
– Одеваться. Быстро!
– Кто это? – удивился Дилле.
– О! Это преданный нам человек, он оказал мне большую услугу.
– А, слышал эту историю, – улыбнулся, прощаясь, Дилле.
Похоронив маму, Катя несколько дней не выходила из дома. Особенно тяжело становилось ночью. Сон не шел к ней. Только иногда девушка забывалась, но тут же, вздрогнув, открывала глаза. В пустой, холодной комнате было тоскливо и жутко. Все время казалось – мать еще здесь, лежит больная, зовет ее. Чтобы отвлечься, Катя при свете коптилки читала. Читала все подряд, что было у нее: книги, старые учебники…