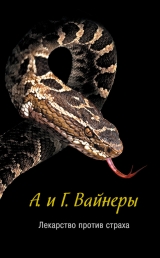
Текст книги "Лекарство против страха. Город принял!.."
Автор книги: Георгий Вайнер
Соавторы: Аркадий Вайнер
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
– А давно его здесь не видно?
– Да уж года два, как не кажется…
Я еще немного поговорил с бабкой Евдокией, но тут заплакал в колясочке энтот,старуха стала шикать на него и сильнее раскачивать коляску, а я вошел в подъезд, поднялся по скрипучей щелястой лестнице в бельэтаж и позвонил в дверь Пачкалиной.
Я стоял на лестнице в темноте, и из освещенной прихожей Пачкалина никак не могла рассмотреть меня, и, когда шагнул на свет, она, все еще не узнавая меня, сказала своим тягучим голосом, так непохожим на тот, что недавно выводил про миленка лысого:
– Позвольте, товарищ, позвольте, чего-то не припоминаю я вас…
Я усмехнулся:
– Здравствуйте, Екатерина Федоровна. Мы с вами недавно виделись. Вот решил еще разок заглянуть – без предупреждения. Ничего?
– Ой, не узнала я вас, значит, не узнала. Гостем будете, заходите, значит, гостем будете…
На разоренном пиршественном столе стояли недоеденные сардины, салат, копченая колбаса, селедка, картошка в масле и искромсанная вареная курица, пластмассовый бидон с пивом и несколько бутылок. Я только сейчас вспомнил, что за весь день так и не удалось толком поесть. Но этот пир предназначался не для меня, а для мордастого парня в териленовом костюме. На безымянном пальце у него было толстое резное кольцо, а на мизинце – длинный серый ноготь.
– Здорово, – сказал он. – Хена меня зовут, слыхал? Ты чё?
Он выговаривал свое имя с придыханием, и вместо «г» у него получалось густое, насыщенное «х».
– Ну, ты чё? Чё тут топчешься, друх, вишь: площадка занята! Ты чё! Плацкарту показать? Давай, чеши отседова, а то я тя живо на образа пошлю…
Парень был давно, мучительно пьян. Я спокойно сел на стул, огляделся.
– Ты чё? Потолкуем? Может, выйдем? Потолкуем?
Я посмотрел на Гену и засмеялся. По виду парень был похож на продавца заграничного мебельного магазина – у них обычно такие же алчные, но туповатые лица. И то, что он хотел «качать права», было тоже смешно, «урки» про таких говорят: «не так блатной, как голодный».
– Это моя женщина, – настойчиво бубнил Гена, – и ты к ней храбки не суй. Если ты ко мне как человек, то и я с тобой выпью. Ща булькнем по стакану, и порядок. Катька, наливай…
– Я с тобой, Гена, водку пить не стану. Я инспектор МУРа и пришел сюда по делу. Поэтому ты посиди десять минут тихо.
– Как не будешь? Ты чё? Ты чё еще?
В это время очнулась Пачкалина, неподвижно стоявшая у двери и, видимо, своим неспешным умом перемалывавшая мысль, зачем я сюда пришел. Она подошла к Гене и, почти взяв его на руки, вышвырнула в соседнюю комнату:
– Сиди, тебе говорят, сиди и не долдонь. Дай с человеком поговорить, с человеком, значит…
Из соседней комнатушки, отделенной только толстой плюшевой портьерой, доносился голос Гены:
– Ты чё? Ты чё? Если ты как человек, то и я могу с тобой выпить…
Пачкалина села за стол, тягуче-воркующе спросила:
– А может, гражданин Тихонов, покушаете чего? И выпить имеется. Вы же после работы – можно и разогреться маленько…
И голос у нее был хоть и тягучий, но не было в нем изнурительного занудства, а гудели низкие завлекающие ноты, и ни разу не сказала она своих любимых «как говорится – конечно значит». Ворот трикотажного легкого платья расстегнулся почти на все пуговицы – нарочно или случайно, когда она волокла своего друга Гену, но сейчас уж наверняка она чувствовала своим могучим женским естеством, что я вижу в распахнутом вырезе ее грудь – белую, крепкую, круглую, как у статуи «Девушка с веслом» в парке культуры, но застегиваться не желала, бросив на прилавок жизни все свое богатство – уютную комнатенку, хорошую выпивку, вкусную закуску и аппетитную белую грудь.
Я вспомнил рассказ бабки Евдокии – «с моей яркой красотой и броской внешностью», и мне почему-то стало жалко Пачкалину, когда-то самую популярную в Кунцеве девицу по прозвищу Катька-Катафалк. Она стала освобождать на столе место, вынула из серванта чистые тарелки и вилки, и, когда она нагибалась над столом, в вырезе ее платья светили две круглые мраморные луны. Она сновала по комнате проворно, легко, но каждый ее маршрут неизбежно проходил мимо моего стула, и она вроде бы случайно – теснота-то какая – задевала меня тугим бедром или мягким плечом, а накладывая закуску на тарелку, согнулась надо мной, и тяжелая, тугая грудь ее легла мне на шею около затылка, и я слышал частые сильные удары ее глупого жадного сердца и тонко струящийся от нее горьковатый, чем-то приятный аромат зверя.
Я отодвинул от себя полную тарелку, взял кусок черного хлеба, густо намазал его горчицей, круто посолил и стал не спеша жевать. Пачкалина уселась напротив и во все глаза смотрела на меня. В ее взгляде не было ни испуга, ни ожидания, а только искреннее удовольствие – настоящий мужик в дом вошел. И я с усмешкой подумал, что с таким выражением лица она кормила, наверное, Николая Сергеича – сгинувшего года два назад друга, у которого всего было полно: и денег, и баб, и вещей, и вернее всего сказать – нахальства…
– Екатерина Федоровна, мне удалось кое-что узнать о вашем похищенном имуществе, – сказал я. – Во всяком случае, о предъявительских сберкнижках.
– Не может быть! – всплеснула руками Пачкалина. – Нашли?
– Пока нет.
– А чего же тогда узнали? – разочарованно протянула она.
– Я узнал, чьи эти деньги, а это уже немало, – спокойно сказал я, морщась от паляще острой горчицы.
– Как это, значит, понимать – чьи? Как это – чьи? Мои, как говорится, мои, значит, конечно, деньги, мои, – забулькала Пачкалина.
– Нет, – покачал головой я. – Это не ваши деньги, это деньги Николая Сергеича. И он их вносил на предъявительские вклады, поэтому вы и не знали, в каких они сберкассах. Вот так-то.
– Это что ж такое вы говорите, это же, значит…
– Одну секунду, Екатерина Федоровна, – я взглянул на часы. – Сейчас начало десятого, значит, я отслужил сегодня тринадцать с лишним часов. Зарплату свою на сегодня я отработал выше маковки. Препираться с вами у меня сейчас нет ни сил, ни желания. Я вам в двух словах опишу ситуацию, а вы решайте, будет у нас разговор или я поеду спать. Значитца, ситуация такая: вас ограбили знакомые Николая Сергеича, или кто-то из его знакомых дал подвод на вашу квартиру. Насчет шубы и драгоценностей ничего конкретного обещать вам не могу, но сберкнижки – это единственная зацепка, которой мы их можем ухватить. Они обязательно попытаются получить вклады. Вам это понятно?
– Понятно, конечно, понятно, – кивнула Пачкалина.
– Я дал распоряжение сберкассам внимательнее присматриваться ко всем, кто будет испрашивать вклады на такую сумму. Но сеть эта слишком велика. Нам нужно установить наблюдение именно за той сберкассой, куда явятся ваши мошенники. Это единственный путь – для вас вернуть свое добро, а для меня задержать их. Они мне очень нужны, потому что натворили кое-что похуже вашего разгона.
– А что же от меня-то требуется? – спросила Пачкалина.
– Подробнее рассказать мне о Николае Сергеиче. Он ведь сидит сейчас, а?
– Не знаю, я никакого Николая Сергеича, – сказала медленно Пачкалина, и мне, несмотря на досаду, снова стало ее жалко: ее тусклый мозг должен был сейчас проанализировать массу всяких комбинаций, чтобы понять, правду говорит инспектор или это их обычные милицейские ловушки, направленные против нее и уважаемого Николая Сергеича. Интуицией человека, всегда живущего в напряженных отношениях с законом, она реагировала однозначно – отрицать лучше все. А думать ей было тяжело. Эх, если бы она могла думать грудью!
– Послушайте, Пачкалина, мне это все надоело. Вам охота и рыбку съесть, и в дамки влезть – чтобы я вам из рукава вынул и шубу, и кольца, и сберкнижки, а откуда это и что – ни мур-мур. Лучше всего, чтобы из средств Госстраха. Но даже там спрашивают, при каких обстоятельствах был нанесен ущерб.
– Что же мне делать-то? – испуганно спросила Пачкалина.
– Ничего. Я бы и так мог найти вашего Николая Сергеича.
– А как? – быстро подключилась Пачкалина, и я усмехнулся:
– Очень просто. Дал бы запрос по местам заключения в Москве: какой Николай Сергеич с такими-то приметами содержался в их учреждении в течении последних двух лет, показал бы фотографию вашим соседям и точно установил бы, кто был ваш приятель. Но у меня и так дел полны руки, чтобы еще этим себе голову морочить, – ваши ценности нужнее вам. Засим разрешите откланяться. Если поймаем мошенников когда-либо, я вас извещу. Сможете им вчинить гражданский иск, лет за восемь – десять они, может быть, отработают вам должок.
Я встал. На лице Пачкалиной была мука – следовало думать, и не просто думать, а думать быстро и принимать какое-то решение. Ей ведь было невдомек, что независимо от того, скажет она мне о Николае Сергеиче или нет, я завтра же с утра стану его искать именно так, как уже рассказал ей. И устанавливать, не было ли связи между ним и Умаром Рамазановым, в доме которого произвели разгон те же аферисты.
– Подождите, – сказала Пачкалина. – А Николаю Сергеичу никакого вреда от этого не будет?
– Опять двадцать пять! Ну какой же может быть ему вред? Он ведь давно осужден, наверное?
Пачкалина тяжело задышала, у нее даже ноздри шевелились.
– Ладно, скажу. Обоимов – его фамилия. Николай Сергеич, значит. Двадцать третьего года. Он был начальник цеха… этого, значит… спортивного оборудования, ну, инвентаря, что ли… Семья у него, как говорится, семья. Но он с женой жить не хотел, конечно. Не хотел. Больная она по-женски. Жениться на мне обещал, очень, значит, замечательный мужчина он был, настоящий человек, представительный, с положением, значит, с положением…
Пачкалина заплакала. По-настоящему – негромко, сильно, и, наверное, ей не хотелось, чтобы я видел, как она плачет, и про распахнутое платье свое она забыла, и забыла про громко высвистывающего носом Гену с золотым перстнем и длинным серым ногтем на мизинце. Судорожно сотрясалось все ее крепкое, здоровое тело, в котором наверняка не было никаких болезней, да только не мог Николай Сергеич Обоимов, хоть и замечательный мужчина был, представительный и с положением, дать ей из тюрьмы ни утешения, ни утоления…
…Храп многоголосый и разнотонный, как звуки труб Кельнского органа, наполняет огромную, жарко натопленную комнату. От духоты и вони трудно дышать. На лавках, у печки, прямо на полу спит народу никак не менее пятидесяти душ. Всех собрали сон и усталость – здесь крестьяне и едущие на ярмарку купцы, беглые солдаты и возчики, странствующие рыцари и нищенствующие монахи-доминиканцы, княжеские шпионы и конокрады. Лежат вповалку здоровые и томящиеся в полусне больные, храпят мужчины, чутко дремлют женщины и свистят носами дети. Пьяные матросы играют в кости, девица причесывается, старик ловит вшей, купец рыгает громко, протяжно, со стоном. Постоялый двор.
Чадно горит свеча, на столе передо мною кувшин с черным нюрнбергским пивом, миска вареных потрохов с горохом, я ем устало, механически, не ощущая вкуса и удовольствия, только пью с жадностью, вытирая тряпицей разгоряченное жарой и смрадом лицо. Иногда, отодвинув от себя миску, беру в руку гусиное перо и, обмакнув во флакон с чернилами, записываю несколько слов в тетради, бросаю перо на стол…
За стенкой слышны неразборчивые голоса, стоны, хрип – там умирает хозяин постоялого двора, сидят при нем измученная жена и двое сыновей, туповатые и покорные. Здесь же, в мягком кресле, с низкой табуреточкой в ногах, врач Клаус Фурнике, которому безутешная женщина платит по талеру за каждый час, что он сидит подле больного. Несчастному сделано двенадцать кровопусканий, шестнадцать раз послаблен желудок и он в тяжелом забытьи.
Вечером я видел больного, у него явная почечная болезнь, и надлежало давно подвергнуть его камнесечению, а расстройство сознания происходит от высокого внутреннего жара и острых болей, но вмешиваться в советы приглашенного врача не позволяет мне святой виртус – врачебная этика, хотя слепому ясно, что кровопусканиями и слабительными почтенный лиценциат Фурнике окончательно добьет больного.
Я поднимаюсь и захожу в комнату за перегородкой, останавливаюсь у дверей. Тяжело бредит больной, выкрикивает бессвязные слова и ругательства. Врач Фурнике объясняет женщине и тихим, придурковатым сыновьям:
– От возмущения физиса в животе больного недуг его перекинулся в мозг и лишил уважаемого герра Шмерца сознания. Кровопускания успокоят возбуждение мозговых соков…
– Господин доктор, разве герр Шмерц болен психически? – тихо спрашиваю я.
Врач поднимает на меня взгляд, отхлебывает из кубка густого бургонского, отвечает снисходительно:
– Вам, молодой друг, неведомо, что потеря человеком разума связана с возмущением природных соков организма. Когда возбуждена в голове слизь, то пациент тих, спокоен и глубоко удручен. Если разлилась под сводом черепа черная желчь, то меланхолия охватывает больного, он мрачен, готов к смерти и склонен к самоубийству, а наш долг – остановить его от этого греховного шага. Но у герра Шмерца возбуждение светлой желчи в мозгу, поэтому он так зол, так беспокоен, криклив и подвижен…
Я не сдерживаюсь:
– Хватит ерунду молоть. У герра Шмерца тяжелая почечная болезнь: я смотрел его мочу, в ней песок и густые сальные осадки. Камнесечение делать ему сейчас нельзя – он измучен, и организм не перенесет такого испытания…
Фурнике, разинув рот, смотрит на дерзкого оборванца, похожего на разорившегося рыцаря, лесного разбойника или странствующего проповедника, – нищего нахала, посмевшего ему указывать. А я говорю испуганной женщине:
– Еще есть надежда – нужно постараться укрепить его организм. Я пропишу для вашего мужа карийское лекарство…
Фурнике, наконец преодолев оцепенение, взвивается с кресла и вопит пронзительно:
– Если вы тотчас же не выгоните этого невежду, нахала, этого грязного шарлатана, ноги моей больше не будет в вашем доме!
Черными крыльями вздымаются полы его шелкового плаща, затканного по воротнику золотыми нитями, на лысине выступает злая испарина, дребезжит золотая цепь на шее, трясутся унизанные кольцами пальцы.
– Взгляните, фрау Шмерц, на этого оборванца, на этого дорожного бродягу – он смеет учить меня, лиценциата медицины! Взгляните на него – разве этот босяк похож на врача?
Женщина затравленно переводит взгляд с него на меня, пытаясь сообразить что-то. Я настойчиво говорю ей:
– Не смотрите на мой заплатанный дорожный кафтан, я известный доктор Теофраст Гогенгейм, и денег никаких за совет не возьму, мне просто хочется помочь вам в вашем горе. Сделайте, как я вам говорю, и если вы не допустите больше кровопусканий, то ваш муж еще может встать на ноги…
– Известный доктор Гогенгейм! – хохочет, брызгая слюной, Фурнике. – доктор с заплатами на заднице и оторванными подметками! Что же тебе больные не собрали на костюм, приличествующий твоему званию?
– Стыдись, неуч! – тихо говорю я Фурнике. – Вспомни, что ты стоишь у скорбного одра…
Но Фурнике кричит так, что не слышно всхлипов и бормотания больного:
– Выбирайте, фрау Шмерц! Не пристало мне терпеть унижения от бродяг и самозванцев! Если вам его шарлатанские выдумки больше по сердцу, то соблаговолите выплатить мне гонорар и велите запрягать! И не извольте более беспокоить меня!
Женщина решается. Повернув ко мне заплаканное лицо, она говорит еле слышно:
– Благодарю вас, сударь, за добрые слова и побуждения. Но я не могу ослушаться доктора Фурнике. Простите меня – я попрошу вас удалиться…
И пока я собираю в дорогу нехитрые пожитки, прячу в мешок тщательно завернутую рукопись, седлаю своего гнедого амбахского коня, на востоке занимается свет нового дня. Через отворенное оконце я слышу, что хрип и стенания больного стихли и плач острый, вдовий, сиротский взметнулся ввысь, навстречу утренним лучам, которых уже больше не доведется увидеть несчастному.
А я, перекрестившись и поправив короткий меч на поясе, скачу в сторону виднеющегося на равнине Франкфурта, где никто не знает и знать не хочет о смерти какого-то Шмерца, ибо сегодня с первыми солнечными бликами народ огромной немецкой страны должен узнать имя нового своего государя, и кто бы им ни стал – король английский Генрих, король французский Франциск или испанский король Карлос, – все равно это такое счастье и честь для немецкого народа, что скорбь какой-то осиротевшей безродной семьи не может и песчинкой черной, траурной лечь на алые мантии семи германских курфюрстов, выбирающих для своего народа нового государя после почившего императора Максимилиана…
Глава 8. Навод или навет?
Лифт не работал. Об этом извещали табличка на двери и голова монтера, торчавшая в сетчатом колодце, как редкостный экспонат на модернистской выставке. Задрав вверх голову, он кричал кому-то:
– Эй вы, охламоны! Забыли про меня? Подымай коляску!
Смешно было мне слышать такие слова в нашем строгом учреждении, где в течение многих лет так боролись против всякого жаргона, что перегнули палку в другую сторону, и народились на свет какие-то ужасные, специфически милицейские официальные словечки вроде «висяк», «отсрочка», «фигурант», «самочинка»…
Неохота было идти на пятый этаж пешком, я спросил монтера, сидевшего на крыше лифтовой кабины.
– Скоро почините?
– Скоро, – пообещал он, нажал какой-то контакт на крыше и плавно вознесся верхом на кабине ввысь.
Я не стал дожидаться, махнул рукой и пошел по лестнице. А поскольку марши у нас огромные, у меня оказалось полно времени, чтобы обдумать свои дела на сегодня. Конечно, было бы так прекрасно, если бы позвонила Рамазанова и сообщила что-нибудь сокровенное. А ей ведь наверняка есть что рассказать.
Но ее обещание позвонить стоило полкопейки в базарный день. Она мне звонить не станет, даже если точно узнает фамилии, имена-отчества и места жительства аферистов. Резон тут простой: страх за судьбу мужа всегда в ней будет сильнее сожаления о потерянных ценностях или стремления отомстить негодяям. Она ведь не хуже меня понимала, что разгон учинили люди, прекрасно информированные о делах мужа. Могли они знать и о его нынешнем местонахождении. Поэтому Рамазанова наверняка уже решила: черт с ними, с деньгами и уже миновавшими переживаниями! Как это ни странно, но ей, конечно, больше хочется, чтобы я не поймал мошенников, поскольку в этом случае всегда будет риск, что я вытрясу из них сведения об Умаре Рамазанове…
По выходным в наших коридорах тихо: не снуют ошалевшие от хлопот инспектора, не стучат каблучками секретарши с бумагами, не видно жмущихся к стенам свидетелей и потерпевших. Гулкое эхо моих шагов провожало меня по всему коридору до самого кабинета. Когда случается бывать здесь в такие дни, я чувствую себя хозяином огромного пустого дома, брошенного на мое попечение. Это ощущение усиливалось в моем кабинете: безмолвие, оттененное очень далекими, еле слышными стуками, шорохами в трубах отопления, внезапным острым звоном оконного стекла от проехавшего мимо автобуса.
Сначала я хотел позвонить в ГАИ насчет номера «Жигулей», но палец чуть ли не бессознательно набрал номер телефона Лыжина. Сейчас его можно, наверное, скорее всего застать дома – ведь сегодня воскресенье, и еще довольно рано, около десяти часов.
Долго гудели замирающие в трубке сигналы вызова, никто не подходил к телефону, и я собрался было положить трубку, но гудок вдруг рассекло пополам, и я услышал уже знакомый мне раздраженный старушечий голос:
– Кого надо?
– Позовите, пожалуйста, Владимира Константиновича.
– Нету его.
– А когда все-таки его можно застать?
– Кто его знает! Передать чего?
– Попросите его позвонить капитану милиции Тихонову. – Я старался придать голосу медовую вежливость, чтобы не злить старуху, а то еще, чего доброго, не передаст.
– Скажу, – коротко ответила старуха и бросила трубку на рычаг.
Потом я позвонил в ГАИ, и у Дугина голос тоже был сердитый:
– Это ты, Тихонов? Замучил ты меня совсем со своим поручением. У меня тут дел полно, и в картотеке для тебя пришлось копаться.
– А выбрал номера-то?
– Выбрал. Только те, которые установлены на «Жигулях».
– Спасибо, Сашок, они мне как раз и нужны.
– Записывай, я тебе продиктую. Серия МКЛ – Дадашев. Записал?
– Записал. Дальше…
– Серия МКП – Садовников…
– Дальше.
– Серия МКУ – Шнеер…
– Дальше.
– Серия МКЭ – Панафидин…
– Как-как? Как ты сказал?
– Панафидин Александр Николаевич, проживает в Мерзляковском переулке, дом…
– Стоп, Сашок. Хватит, мне другие не нужны.
– Больше вопросов не имеется? – переспросил Дугин.
– Спасибо тебе, старик, ты меня здорово выручил.
– Большой привет, – сказал Дугин и отключился.
Уж чего-чего, но такого поворота событий я не ожидал никак. Письмо вывело меня прямо на Панафидина. Что же это? Кто-то захотел помочь мне? Или захотел помочь правосудию? Или, может быть, цель письма – помешать мне? И отвратить правосудие? Или совсем здесь правосудие ни при чем и кто-то хочет воспользоваться сложившейся ситуацией и наклепать на Панафидина?
А если письмо – правда, значит, метапроптизол есть и Панафидин со мной дурака валял? Но почему же он скрывает, что получил метапроптизол? И кто человек, знающий его тайну? Враг? Соперник? Или лицемерный друг, желающий подкопаться под него? Кто же он?
А может быть, это не навод, а навет?
Вдруг кто-то сознательно клевещет на Панафидина? Или хотят вывести из игры меня персонально: ведь если я брошусь обыскивать машину Панафидина и ничего не найду, это может вызвать серьезный скандал.
Как же быть, что предпринять? Ведь второго такого случая может и не быть…
Я метался по кабинету, не в силах решиться на что-то определенное. Из головы напрочь вылетели Пачкалина, Рамазанова, их возлюбленные расхитители, все эти разгонщики… Метапроптизол, если в письме написана правда, был почти рядом. Но как его взять?
А может быть, ничего нет? Мистификация? Нелепый, злобный розыгрыш? Но эти люди не похожи на шутников: когда они отравили Позднякова – если это они, – ими руководило вовсе не стремление повеселиться.
А вдруг письмо написано человеком, который случайно знает об этой истории, но боится заявить о ней вслух? Если он действительно хочет добра и блага, но недостаточно мужествен для того, чтобы сказать во всеуслышание: вот преступник?..
И больше я не чувствовал себя хозяином в большом доме, оставленном на мое попечение. Даже тишина изменилась – она стала терпеливо-угрожающей, словно немо ждала моего решения, одинаково бесстрастная к ошибке и к самому точному выбору.
Я пошел к Шарапову. Как было бы хорошо, окажись он на месте, мне так был нужен чей-то разумный совет!
Тамары на месте не было, а дверь в кабинет к шефу отворена. Он сидел за столом и что-то писал.
– Здравия желаю, товарищ генерал.
Шарапов поднял голову от бумаг и мгновение в меня вглядывался, словно не сразу признал.
– Ба-а! Сколько лет сколько зим, – сказал он, ухмыляясь. – Что это ты здесь в свободное время обретаешься?
И по его улыбке, хотя и ехидной, я понял, что он доволен, увидев меня здесь.
– У нас свободное время начинается на пенсии – вас цитирую, как классика.
– Ну вот, обрадовал. Мне, значит, до свободного времени совсем чуток осталось. Зачем пожаловал?
– Посоветоваться, – сказал я смирно.
– Это надо приветствовать, – кивнул генерал. – Как я понимаю, тебе нужна санкция на какой-нибудь недозволенный поступок: в остальных случаях ты по возможности избегаешь со мной советоваться.
– Недозволительность моего поступка является следствием вашего поступка, – дерзко сказал я.
– Это как понимать тебя прикажешь?
– Вы мне вчера документ переслали…
– А! Интересное письмецо подметное. Ты ему веришь?
– Не знаю. Я проверил машину по картотеке ГАИ – она принадлежит Панафидину.
– Это профессор тот самый? Молодой?
Я кивнул.
– Эге. Значит, неведомый доброжелатель информирует нас о том, что Панафидин возит в своей машине этот… метапроптизол? Так это надо понимать?
– Выходит, что так, – сказал я. – Правда, он не выдает себя за нашего доброжелателя.
– Кстати, ты не поинтересовался, Панафидин-то этот – сам не болельщик футбольный? На стадионе бывает?
– Нет, не интересовался. Мне такая мысль в голову не приходила.
– Жаль, что не приходила. Чем больше мыслей придет в твою многомудрую голову, тем лучше. А ко мне ты зачем пришел, не понял я?
– Я и сам не знаю. Разрешение на обыск машины Панафидина вы же мне вряд ли дадите?
– Не дам, – почти весело сказал Шарапов. И в легкости его тона твердость была несокрушимая. – Конечно, не дам. Если на основании таких серьезных документов мы у почтенных людей обыски учинять станем, то знаешь, куда это нас может завести?
– А что же делать? – спросил я в отчаянии. – Вдруг письмо – правда?
– Это было бы изумительно!
– Но что нам толку с этой изумительности? Вот вы что на моем месте сделали бы?
– Я? – Шарапов переспросил меня так, будто я задаю детские вопросы: и слепому видно, что сделал бы он на моем месте. – Я бы пошел к Панафидину и нашел с ним общий язык, поговорил бы с ним душевно.
– С ним, пожалуй, найдешь общий язык! – зло тряхнул я головой.
– Не найдешь – значит, разговаривать не умеешь, – уверенно сказал генерал. – Со всеми можно найти общий язык. Стройматериал только для такого моста потребен разный. В одном месте – внимание, в другом – ласка и участие, в третьем – нахальство, а где надо – там и угроза. Вот так. Ты только, как прораб, заранее должен рассчитать, что для строительства тебе понадобится.
– Прямо как в песне: мы с тобой два берега у одной реки. Боюсь, повиснет мой мост в воздухе, мы с ним берега разных рек, – сказал я, а Шарапов засмеялся, покачал головой, прищурил хитрые монгольские глаза:
– Ты не прав, друг ситный. Все мы берега у одной реки, и сами мы, как все берега, разные, а вот река нас связала всех одна, потому как название ей – жизнь.
Пошучивал со мной Шарапов, делал вид, что пустяковые вопросы мы с ним решаем в воскресное неслужебное время, все это ерунда и праздное шевеление воздуха и не стоит из-за этого волноваться, но мы ведь десять лет сидим с ним на одном берегу, он – чуть выше, я – пониже, и я хорошо знаю, что в час тревоги мы вместе спускаемся с откоса и по грудь, а когда и по горло идем в быстром, холодном и непроницаемом потоке под названием жизнь, и его иронический тон не мог заслонить от меня пронзительно-зеленых огней сердитого любопытства, которые загорелись в его всегда припухше-узких глазах: ему тоже было очень интересно, действительно ли возит профессор Панафидин в машине загадочный транквилизатор, которым «глушанули на стадионе его мента».
– Ты поговори с ним с точки зрения научной любознательности, – говорил он. – Ищет же профессор это лекарство, вот ты ему и предложи вместе поискать в машине. Корректно, вежливо, для удовлетворения научного и спортивного интереса. И ты будешь удовлетворен, и не прозвучат эти грубые слова – «недоверие», «ложь», «обыск»…
– Это если он согласится. А если нет?
– Тогда надо будет проявить находчивость.
Я не сердился на Шарапова: не мог он мне дать указание обыскать машину Панафидина. И я это хорошо понимал.
Жаль только, что на свою находчивость я не сильно полагался. Вернувшись в свой кабинет, я позвонил Панафидину домой.
– Он в городе и дома не скоро будет, – ответил приятный женский голос. – А кто его спрашивает?
– Моя фамилия Тихонов, – сказал я и подумал, что если это жена Панафидина, было бы невредно поговорить и с ней. – А вы Ольга Ильинична?
– Да, – ответила она, и тень удивления проскользнула в ее голосе.
– Добрый день, Ольга Ильинична. Я инспектор уголовного розыска…
– А-а, да-да, Александр говорил мне…
– Если это не очень нарушает ваши планы, я хотел бы и с вами побеседовать, а тем временем Александр Николаевич подъедет, а?..
– Ради бога, – готовно согласилась Панафидина. – Адрес знаете?
– Спасибо большое. Знаю, еду…
Я вышел на улицу и стал дожидаться дежурной машины. День стоял бесцветный, сизый. Было холодно, ветрено, мелкий, секущий дождик порывами ударял в асфальт серыми брызгами. На другой стороне улицы молодой парень в засаленной куртке возился с «Запорожцем». У этой смешной машинки мотор находится не как у всех автомобилей, впереди, а сзади. Парень заводил мотор ручкой, и издали было похоже, будто маленькому нахохленному ослику накручивают хвост. По тротуару летела желтая листва, обрывки бумаги, мусор, и от всего этого сумрачного дня с моросящим дождем и холодным ветром на душе было погано. В этом тоскливом настроении, с неясным ощущением невыполненных каких-то обязательств, неустроенности дел и несовершенства всего мира, я приехал к Панафидиным в Мерзляковский переулок.
Прямо в прихожей Ольга Панафидина спросила:
– Что будете пить – чай, кофе?
Я замахал руками:
– Нет-нет, ни в коем случае, я не хочу вас утруждать.
– О чем вы говорите, какой труд? Проходите в гостиную, я сейчас принесу.
Я сел в кресло перед низким журнальным столиком, и буквально через несколько минут Ольга внесла на подносе чашечки с кофе, сухари и нарезанный сыр.
– Вот теперь можно беседовать, – сказала она, усаживаясь напротив. – Мне муж говорил, что вы были у него и интересовались Лыжиным…
И я сразу насторожился, потому что в разговоре с Панафидиным имя Лыжина не только не упоминалось – я тогда и не знал о существовании Лыжина. Значит, Панафидину в то время, когда я посетил его, было известно, что Лыжин занимается получением метапроптизола или получил его… Но мне он ничего не сказал.
– Да, меня интересует направление работ Лыжина, – сказал я, решив предоставить Ольге Панафидиной инициативу в разговоре. А сам отпил маленький глоток кофе, который хоть и не был сварен со всеми ритуальными священнодействиями ее отца, но все равно был хороший, очень вкусный кофе: чувствовалась семейная школа, доведенная до уровня традиции.
– Видите ли, мы вам мало что можем рассказать о Лыжине, потому что последние годы практически не общались с ним, – сказала Ольга, раскуривая сигарету.
– Что так? – поинтересовался я.
– Володя Лыжин очень сильно изменился, – вздохнула Ольга. – С ним произошла метаморфоза, хоть и прискорбная, но довольно-таки обычная. Он стал профессиональным неудачником.
– Разве есть такая профессия – неудачник? – серьезно спросил я.
– Не могу утверждать, но когда любительство становится основным занятием, то оно превращается в профессию, – в назидательности фразы я уловил знакомые интонации ее мужа. – Володе не везет буквально во всех увлечениях, и это не могло не отразиться на его поведении.
– И давно ему так не везет?
– Ну, точно я не могу сказать, но ведь начинал-то он очень хорошо. Впрочем, в жизни это часто бывает: до какой-то определенной полосы все, за что ни берешься, получается, все удается, со всех сторон говорят: «Ах, какой человек перспективный! Ах, какой одаренный! Какое у него будущее!» И вдруг подступает какой-то рубеж – и все насмарку, все из рук валится, ничего не выходит, не получается…








