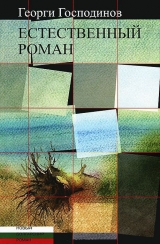
Текст книги "Естественный роман"
Автор книги: Георги Господинов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
3
Они носятся в пустоте, ибо пустота существует, и, соединяясь между собой, они производят возникновение, расторгаясь же, – гибель.
Демокрит (по Аристотелю)
Известно, что Флобер мечтал написать книгу ни о чем, книгу без какой-либо внешней фабулы, «которая держалась бы сама по себе, внутренней силой своего стиля, как земля держится в воздухе без всякой опоры». Пруст в какой-то мере осуществил эту мечту, обратившись к невольной памяти. Но и он не устоял против искушения фабулой. Нескромность моего желания в том, чтобы написать роман из одних только начал. Роман, который бы непрестанно начинался, что-то обещал, доходил до семнадцатой страницы и начинался бы с начала. Идею, или первоначало, такого романа я открыл в античной философии, вернее, у небезызвестной троицы натурфилософов – Эмпедокла, Анаксагора и Демокрита. Роман из начал должен был держаться на этих трех китах. Эмпедокл настаивал на ограниченном числе первоначал, прибавляя к основным четырем элементам (земле, воздуху, огню, воде) Любовь и Вражду, которые и приводили в движение стихии и заставляли их вступать в разнообразные комбинации. Наиболее причастным к моему роману оказался Анаксагор. Идея о панспермиях, или семенах вещей (позднее Аристотель назовет их гомеомериями, но это звучит куда холоднее и безличнее), могла бы стать оплодотворяющей силой задуманного романа. Романа, созданного из бесконечного множества мелких частиц, из первовеществ, то есть начал, которые вступают в неограниченные комбинации. Поскольку Анаксагор утверждал, что все конкретное состоит из мелких, подобных ему частиц, мой роман вполне мог бы быть собран только из начал. Тогда я решил опробовать эту идею на первых страницах романов, ставших уже классикой. Отдавая дань Демокриту, их можно было бы назвать атомами. Атомистический роман из носящихся в пустоте начал. Мой первый вариант звучал так:
Если вам на самом деле хочется услышать эту историю, вы, наверное, прежде всего захотите узнать, где я родился, как провел свое дурацкое детство, что делали мои родители до моего рождения, – словом, всю эту дэвид-копперфильдовскую муть. Но, по правде говоря, мне неохота в этом копаться.
Эти страницы должны показать, буду ли я героем своей собственной жизни, или эта привилегия достанется кому-нибудь другому. Чтобы начать описание моей жизни с самого начала, стоит заметить, что я родился (насколько мне известно и чему я охотно верю) в одну из пятниц в двенадцать часов ночи.
Меня зовут Артур Гордон Пим.
Сквайр Трелони, доктор Ливси и другие джентльмены попросили меня написать все, что я знаю об Острове сокровищ. Им хочется, чтобы я рассказал всю историю, с самого начала до конца, не скрывая никаких подробностей, кроме географического положения острова. Указывать, где лежит этот остров, в настоящее время еще невозможно, так как и теперь там хранятся сокровища, которые мы не вывезли оттуда. И вот в нынешнем 17.. году я берусь за перо и мысленно возвращаюсь к тому времени, когда у моего отца был трактир «Адмирал Бенбоу», и в этом трактире поселился старый загорелый моряк с сабельным шрамом на щеке.
Помогли бай Ганю сбросить с плеч турецкую бурку, накинули на него бельгийский плащ – и все признали, что бай Ганю теперь – настоящий европеец.
– Пусть каждый из нас расскажет что-нибудь о бае Ганю.
– Давайте, – заговорили все. – Я расскажу. – Постойте, я знаю больше… – Нет, я: ты ничего не знаешь.
Поднялся спор. Наконец все согласились, чтобы начал Стати. И он начал:
Каждый раз, стоило мне только задуматься об индейце, я непременно вспоминал турка. И хотя это и кажется странным, тому все же есть свое объяснение.
– Eh bien, mon prince. Gênes et Lucques ne sont plus que des apanages, des поместья, de la famille Buonaparte. Non, je vous préviens que si vous ne me dites pas que nous avons la guerre, si vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de cet Antichrist (ma parole, j’y crois) – je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami, vous n'êtes plus мой верный раб, comme vous dites. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Je vois que je vous fais peur, садитесь и рассказывайте.
На второй день Воскресения 1870 года я был зван на обед к господину Петко Рачеву, болгарскому писателю и журналисту. Он проживал в маленьком двухэтажном доме на углу, зажатом между двумя тесными и нечистыми улочками, в одном из самых неприбранных царьградских кварталов Балкапанхана. Госпожа К., родственница господина Рачева, живущая у него, после обеда поставила перед нами две больших чаши, наполнила их нарезанными и очищенными яблоками, ко всему еще и залила их черным вкуснейшим пашалиманским вином. Мы брали дольки руками и потихоньку потягивали вино, отчего разговор наш лился весело и непринужденно.
Я родился в 1623 году в городе Йорке, куда мой отец (поначалу обосновавшийся в Гулле) переселился после того, как нажил торговлей хорошее состояние и оставил дела. Отец мой позаботился, чтобы я получил вполне сносное образование в той мере, в какой его могли дать домашнее воспитание и бесплатная городская школа. Он прочил меня в юристы… Но у меня на уме было совсем другое…
Несколько лет назад в Гамбурге проживал торговец по имени Робинзон. У него было три сына. Старший служил во Фландрии, в английском пехотном полку, <…> дослужился до чина подполковника и был убит в сражении с испанцами. Второй сын жаждал сделаться ученым, но однажды, разгорячившись, выпил ледяной воды, разболелся и умер. Так и остался в семье один ребенок, которому дали имя Крузо.
Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Все смешалось в доме Облонских.
В этот прохладный майский вечер чорбаджи [1]1
В турецком языке слово «чорбаджи» (от «чорба» – похлебка) означало «начальник, ведавший довольствием солдат». В Болгарии этим словом стали называть зажиточных болгарских торговцев, землевладельцев или же хозяев ремесленных мастерских. В широком смысле – богатый человек (Здесь и далее комментарии переводчика).
[Закрыть] Марко, одетый по-домашнему, с непокрытой головой, ужинал со своими домочадцами во дворе.
Техасский олень, дремавший в тиши ночного убежища, вздрагивает, услышав топот лошадиных копыт. Но он не покидает своего зеленого ложа, даже не встает на ноги. Не ему одному принадлежат эти просторы – дикие степные лошади тоже пасутся здесь по ночам. Он только слегка поднимает голову – над высокой травой показываются его рога – и слушает.
Выделенные таким образом начала начинают жить своей собственной жизнью и соединяются силой странных межтекстуальных притяжений и отталкиваний, так, как когда-то это предрекали Эмпедокл, Анаксагор и Демокрит. Если быстро читать их одно за другим, они сольются и начнут двигаться, как кадры кинопленки, завертятся в одной общей кинетике, которая перемешивает героев и события в какую-то новую историю. Начало из Сэлинджера, гнушающееся началами в стиле «Дэвида Копперфильда», плавно перетекает именно в этот вводный пассаж из Диккенса. За ним сдержанно представляется первая фраза из «Сообщения Артура Гордона Пима», чтобы раствориться в обстоятельном рассказе из «Острова сокровищ». Далее без всяких противоречий «Бай Ганю» рассказывает историю Винетту, а куртуазное французское начало «Войны и мира» из салона радостно перетекает в привычный уклад одного послеобеденного угощения пашалиманским вином с яблочными дольками в доме господина Петко Рачева Славейкова. И как история, начавшаяся во время этой дружеской беседы, появляются первые строки из «Робинзона Крузо», совсем уж между прочим переведенного на болгарский все тем же господином Петко. Другой перевод этой книги, который присоединяется к данному ряду, стоит особняком и воспринимается как совсем иная история. Где-то в этом месте роман решает стать семейным и объединяет семейство Облонских с семьей чорбаджи Марка, ничуть того не смущаясь (чего смущаться? – одна семья русская, другая – прорусская): так и так в обоих семействах что-то смешалось, кто-то скачет через забор – Иван Кралич или Каренина, какая разница? Даже техасский олень где-то в прерии вздрагивает от поднявшегося шума.
Мир – это одно целое, и роман – то, что соединяет все воедино. Начала приведены, комбинаций – бесчисленное множество. Каждый из героев освобожден от предопределенности своей истории. Первые главы обезглавленных романов начинают носиться в пустоте, как панспермии, и производят множество возникновений, так ведь, Анаксагор?
Или, как хорошо, хотя и чересчур эмоционально заметил Эмпедокл: «Из земли пробивалось множество разных голов, не имеющих шеи, и голые руки раскинулись в стороны, плечи отдельно витали, и безумно глаза озирались окрест, лбов над собой не имея; соединиться пытались друг с другом…». С этого момента все может развиваться по совершенно произвольному сценарию – Всадник без головы может появиться на приеме у Ростовых и начать ругаться голосом Холдена Колфилда. Может случиться все, что угодно. Но в Романе начал ничего не будет описано. Он будет давать только первый толчок, и ему хватит деликатности всякий раз уходить в тень следующего начала, оставив героев сочетаться по воле случая. Именно это я бы и назвал Естественным романом.
4
Мой развод с женой не был долгим и мучительным. Сама процедура длилась не более четырех-пяти месяцев, что считалось вполне нормальным. Мы, конечно, заплатили какую-то сумму, чтобы все прошло как можно быстрее. Я думал, мне будет легко это пережить. Моя жена – тоже. На первом слушанье, которое продолжалось не более двух минут, мы подтвердили, что наше решение «окончательно и бесповоротно». Прокурорша оказалась грубой. У нее были волосатые руки и большая родинка слева, прямо на носу. Она назначила дату второго слушанья, дав нам три месяца на то, чтобы помириться, и позвала следующих. Мы решили пройтись пешком.
– Ну вот, у тебя есть время до второго слушанья, чтобы все решить, – начала разговор моя жена. Я представил себе, как на разводе присутствуют все те гости, которые были в загсе на нашей свадьбе. Все-таки эти два ритуала очень взаимосвязаны. Было бы справедливо, если бы тогдашние свидетели явились и сейчас. По крайней мере, нам удалось бы избежать неприятной необходимости информировать каждого по отдельности, что мы уже разведены, что на звонки по старому номеру я уже не отвечу, и так далее. А еще мне представилось, как самые близкие родственники плачут, пока мы произносим наше «окончательное и бесповоротное „да“» в ответ на вопрос судьи. Но они плакали и на свадьбе.
– Выходит, что брак существует между двумя «да», – сказал я, чтобы уклониться от ее реплики.
Беременность моей жены была уже заметна.
Давайте продолжим в другой раз, а? Все равно до последнего и окончательного слушанья еще есть время.
00
– Была у меня одна девушка, которая постоянно зависала в сортире. По крайней мере четыре раза в день по полтора часа, я засекал. Мы жили вместе. Я, как собачка, сидел в коридоре под дверью, и мы с ней болтали. Обсуждали чертовски важные темы – прям вот так. Иногда, когда она надолго замолкала, я заглядывал в замочную скважину.
– Мрачное место этот твой сортир, парень, одним словом – дыра!
– Да оставь ты человека в покое, ну, и чё дальше?
– Да ничего, так мы и говорили. Как будто она заперлась там, а ты пытаешься ее оттуда вытащить, выдумываешь разные глупости, уговариваешь ее открыть, чтоб хоть наконец посмотреть ей в глаза. Подглядывания в замочную скважину не считаются, тем более что она иногда затыкала ее туалетной бумагой. Когда не видишь того, с кем говоришь, бывает, осмеливаешься произнести такое, что иной раз тебе бы и в голову не пришло. Но однажды, когда я просил ее вылезти побыстрее, она открыла дверь и захотела, чтобы я туда вошел. Ничего не вышло. Один сортир, чтоб вы знали, для двоих слишком тесен. Смотрю на нее, сидит, спустила трусики, как будто провалилась в толчок, ну… как будто ее туда засосало. Только ноги свисают да торчат коленки. Так и не получилось поговорить.
– Что, противно стало?
– Я же вам сказал, противное место сортир, дырища еще та!
– Да нет же… нет… Просто не вышло – и все тут. Там не пахло… Ну, почти не пахло.
– Постойте… В этом-то все и дело. В этом вся соль. Если можешь вынести запах своей девушки, которая срет у тебя на глазах, если тебе не противно, если сможешь принять ее запах как свой собственный, ведь от своего-то запаха тебе противно не делается, значит, ты остаешься с этой женщиной. Понятно? Можете назвать все это великой любовью, своей второй половинкой, женщиной, созданной только для тебя, с которой ты можешь прожить хотя бы несколько лет, и так далее в том же духе. В этом – все. Такие вещи случаются не так часто. Только раз. И это – тест.
– Чиэрс! Ты уже успел его запатентовать или решил опробовать на публике свой очередной роман?
– Да нет же! С этими вещами не шутят, но для педиков, как ты, тест, скорее всего, надо бы изменить. Ваше здоровье!
– Всё сортиры да сортиры – хватит уже. Мы ведь за столом, едим, пьем, и откуда взялись всякие там уборные, запахи…
– Не, не, постой. А почему бы за столом людям не поговорить о сортире, а? Почему ты ходишь в туалет? Потому что перед этим ты сидел за столом, обжирался, опивался, вот и бежишь в сортир. Ведь это же естественно. Но говорить об этом за столом – почему-то нет. А нет ничего, попрошу заметить, более родственного унитазу, чем то, из чего мы едим. Заметьте, та посудина, что стоит там, в сортире, очень напоминает обыкновенную посуду. К тому же, и то, и другое из фаянса. Фаянсовая по-су-да! Я уже над этим думал, и должен тебе сказать, все очень взаимосвязано. Надо быть чертовски тупым и непробиваемым, чтобы не видеть, насколько важен сортир. Знаешь, чё я сделаю в один прекрасный день? Соберу все истории о туалетах, систематизирую их, дополню комментариями, сносками и издам «Большую историю туалета»…
– В мягкой обложке и на туалетной бумаге.
– А что? Это идея. Хотя в истории будет два раздела. Домашний туалет – нечто в корне отличное от туалета общественного. И я вам скажу, в чем их различие.
– Только можно сначала я доем печенку? А то скоро все потонет в говне.
– Вся грандиознейшая разница в том, что, когда ты входишь в общественный туалет, все – только процедура. Ты закрываешься, расстегиваешь ширинку, облегчаешься, подтягиваешь штаны и исчезаешь. Делаешь все свои дела как можно быстрее.
– Такие уж сортиры.
– Допустим. Но все равно это процедура. А в свой собственный домашний туалет ты можешь заглянуть в любое время и без всякой нужды. Ты можешь просиживать там часами, читать книгу или листать комиксы. Можешь просто размышлять, подперев голову руками. Ни в какой другой комнате человек не остается настолько наедине с собой. Это, послушай и постарайся запомнить, – самая важная комната. Самая важная комната.
– Значит, в городскую уборную ты входишь процедурно, а в домашнюю – ритуально.
– Что-то в этом роде. И это личные ритуалы, ритуалы перед самим собой. Не перед кем-то другим. Потому что тут никто тебя не видит. И даже сам Господь вряд ли заглядывает в туалет.
– Вот я и говорю, мрачное место сортир. Один мой дед повесился за домом в нужнике. Вытащил ремень из брюк и зацепил его за поперечную балку под черепицей. Спустил ноги в дырку, чтобы повиснуть. А брюки-то его сползли до щиколоток, не держались на нем без ремня.
– А я в детстве, когда ходил в сельский кинотеатр, никак не мог для себя уяснить, почему в фильмах никто не ходит в туалет. Смотришь – индейцы, ковбои, целые римские легионы, – и никогда ведь не показывают, как кто-нибудь из них срет или ссыт. Я же после двух часов в кино бежал сломя голову в сортир, а те пацаны из фильмов за всю жизнь – ни разу. Вот, подумал я, настоящие мужчины, типа, не отклячивают теплые задницы, и тогда я решил попробовать, сколько смогу выдержать, если не буду ходить хотя бы по большой нужде. Терпел три дня. Меня скрючивало от боли в животе, я ходил согнувшись пополам, родичи испугались, хотели даже вести меня к врачу. На третий день вечером я не выдержал. Заперся в туалете, и меня прорвало. Было такое ощущение, что я как шарик, который развязали, – он сжимается, шипит, извивается, и в конце концов от него не остается ничего. Тогда я впервые усомнился в кино. Что-то в нем было не так, что-то… как сказать… нечисто.
– И все потому, что ты смотрел тупые фильмы. Я тебе скажу одно: можно понять, стоящий ли это фильм, только по тому, заглядывает ли камера в сортир или нет. Вот смотри – в «Криминальном чтиве», когда Брюс Уиллис возвращается за часами и решает поджарить два кусочка хлеба в тостере, а Траволта сидит в сортире. Тостер щелкает, Брюс вздрагивает, стреляет и убивает напарника. Значит, тостер нажимает на спуск, и кухня простреливает жопу сортиру. Видал, как все ловко переплетено.
– А коп, ну этот стукач в «Бешеных псах», как его там, мистер Оранжевый, что ли, тот, который рассказывает историю о наркотиках в сортире во всех подробностях, ну это, для маскировки. Пока он заучивает историю, шеф его напутствует: ты должен помнить только детали. Именно это заставит их тебе поверить. Действие, говорит, происходит в мужском сортире. Ты должен знать о нем все. Есть ли там бумажные полотенца или сушилка для рук, какое лежит мыло. Воняет там или нет. Не обдристал ли какой козел какую-нибудь кабинку… Все-все.
– Ой, ща меня стошнит…
5
…Свадьбы растений
Линней
Беременность моей жены была уже заметна. У этой невинно звучащей фразы – двойное дно, если я вам скажу, что… как бы это так выразиться… автором ее беременности был не я. Отцом был другой, а она по-прежнему была моей женой. Беременность сказывалась на ней положительно – она вносила какое-то успокоение в движения, приятно округляла ее острые плечи.
Я провожал ее домой после последнего слушанья о разводе. Что делают люди в таких случаях? Несколько дней назад я снял квартиру поблизости, и Эмма предложила безумную, как мне показалось, идею сфотографироваться вместе в последний раз. Совсем как на свадьбе. Мы зашли в первое попавшееся фотоателье. Фотограф был из тех милых разговорчивых старичков, которые во что бы то ни стало хотят знать, по какому поводу делается фотография. «Семейная?» – как будто от этого зависел выбор диафрагмы. Он слишком долго рассаживал нас, заставил меня ее обнять, потом попросил нас взяться за руки, поворачивал наши лица друг к другу, смотрел в объектив и снова шел к нам. Наконец щелкнул, завалил нас пожеланиями счастливой семейной жизни и множества детей, и правда, по моей жене это явно было заметно, и отпустил нас с миром.
00
– Величайшим событием девяностых останется погружение в самый грязный туалет в Шотландии из фильма «На игле».
– А ты вспомни картины Фасбиндера, Антониони, в каждом из них – по одной важной сцене в сортире. А Кустурица, с той смешной попыткой самоубийства в туалете? По-моему, из фильма «Когда папа был в командировке». Герой повис на бачке и вместо того, чтобы повеситься, спустил воду.
– Не люблю я Кустурицу. Медлительный и назойливый. Балканский козел, сентиментальный к тому же.
– Ладно, забудь про Кустурицу. Вспомни, как Надя Ауэрман позировала Хельмуту Ньютону на унитазе, а Наоми Кэмпбелл заливала в себя пиво, сидя со спущенным бикини в том же самом месте. На обложке своего первого альбома, заметьте. Тут и в унитаз переродиться не откажешься.
– Год назад в Гонконге азиатские владельцы общественных туалетов и эксперты в этой области собрались на симпозиум. Об этом писали в какой-то газете. И знаешь, какие доклады там читали? Что-то типа: «Практические способы элиминирования неприятных запахов» и «Историческое развитие общественных клозетов в провинции Гуан-дун». А самым классным заглавием было «Анализ гражданского удовлетворения в публичных туалетах Республики Корея». Я, кажется, сохранил эту вырезку.
– Один мой друг ездил в Пекин и потом рассказывал о тамошнем сортире в аэропорту. Длинный зал, перегороженный стенками не выше метра, китайцы ведь коротышки, без потолка сверху. Присаживаешься себе в клетушке, торчишь выше пояса, а по обе стороны от тебя вежливые китайчата кивают тебе и улыбаются. Под тобой течет ручеек, в котором, если присмотреться, можно увидеть испражнения всех твоих соседей слева.
– В армии были такие же сортиры. До сих пор, как вспомню о них, у меня начинает щипать в глазах. Нас заставляли посыпать их хлоркой для дезинфекции. Слепнешь враз. За сортиры отвечали деды, и если кто-то из них хотел на ком-то отыграться, то посылал его драить парашу. Говорят, один новобранец, чтобы отомстить, вынес с кухни целый килограмм дрожжей и высыпал его в дырки. И ка-а-ак забродило это месиво, как вздулось и поперло…
– А в Берлине в каком-то сортире была надпись: «Ешьте говно. Миллионы мух не могут ошибаться». По-немецки, естественно.
– Кому-нибудь еще нужен соус?
– Граффити в сортирах – это отдельная глава «Истории…». Почему именно там человек не стесняется писать? Большинство из тех, что пишут, вряд ли испытывают такое желание за пределами туалета. Я уверен, что на бумаге они не написали бы и строчки. Но стена клозета – это особое средство массовой информации. Публикация в нем приносит совсем иное удовлетворение. А может, когда человек остается наедине с собой, включаются какие-то скрытые механизмы, обостряется первичный инстинкт писать, оставлять знаки. Я не удивлюсь, если все наскальные рисунки в пещерах нацарапаны за то время, пока первобытный человек справлял большую нужду.
– Однако будет трудно это доказать, ведь все экскременты неустойчивы и быстро разлагаются.
– И все же неплохо было бы исследовать места около скальных рисунков. Но вернемся к граффити в клозете. Самое что ни на есть изолированное и уединенное место на земле оказывается слишком публичным. В свое время только там можно было прочитать антиправительственные лозунги. Вся смелость общества изливалась именно там, на стены клозета.
– Интимные клозетные революции. То еще мужество, то еще общество. Как раз тогда, когда они готовы обосраться со страху, они садятся и корябают на стенах «долой Т.Ж.»[2]2
Имеется в виду Тодор Живков (1911–1998) – генеральный секретарь ЦК Болгарской компартии.
[Закрыть] и «коммунисты – на хер». Вот только не надо, не надо мне об этом рассказывать. И такое вот сраное у нас все диссидентство. Единственным общественным местом, в котором эти людишки выражали протест, были общественные туалеты.
– Бурные и несмолкающие аплодисменты…
– В каком-то клозете несколько лет назад было написано: «Не тужься, здесь нет нормы».
– Ну а я что говорю. Клозет был единственным местом, свободным от надзора. Единственной реальной утопией, в которой нет власти, все равны и каждый может делать что вздумается под прикрытием того, что он, мол, делает то, зачем пришел. Чувство абсолютной безнаказанности. Такое чувство можно испытать только в гробу или в туалете. Интересно, что они примерно одного размера. С другой стороны, во всех этих позывах…
– Позывы к мочеиспусканию как позывы к протесту. Тема для диссертации.
– Потерпи немножко, сейчас… Так вот, во всех этих позывах на стенах сортира, может, и нет никакого политического импульса. Все это может быть просто бунтом языка. В клозет входят не только твое тело и твой низ, в него входит и язык. Языку тоже иногда нужно спустить штаны, выпустить пар, высказать все то, что у него накопилось за весь этот дурацкий день, за всю эту сраную жизнь. Слушаешь тупые разговоры, читаешь тупые газеты, говоришь с тупицами, и, уединившись в сортире, тебе хочется совсем по-человечески написать на стене «хер». Это и есть маленькая и большая нужда языка. И сейчас, когда мы болтаем о сортирах, мы же, по сути, говорим о языке.
– Я только замечу, что печенка в тарелке остыла, мозг заплыл жиром и мне надо идти. А своей жене сейчас, если вдруг она меня спросит, и чё можно было так долго обсуждать, я скажу: говно.
– Он это произнес! Твоим-то брезгливым языком?! Парни, давайте выпьем за него. Думаю, что это просветление.








