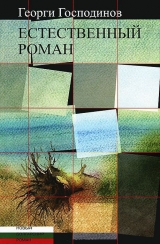
Текст книги "Естественный роман"
Автор книги: Георги Господинов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)
«ЕСТЕСТВЕННЫЙ РОМАН» ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВА
Георги Господинов (р. 1968) – поэт, прозаик, драматург, литературный критик, автор сценариев и художественных мистификаций. Каким бы длинным ни получился ряд определений, бесспорно одно: Георги Господинов – одна из ключевых фигур литературного процесса современной Болгарии, один из самых признанных литераторов в стране и самый переводимый болгарский автор за ее пределами. Достаточно привести лишь несколько фактов: первый лирический сборник писателя «Лапидариум» (1992) удостоен национальной премии «Южная весна», следующая книга стихов – «Черешня одного народа» (1996) – переиздан трижды, а составившие ее стихотворения неизменно включаются в зарубежные антологии переводной поэзии; американское издание сборника рассказов «И другие истории» номинировано на самую престижную в своем жанре премию Фрэнка О’Коннора; написанные Господиновым пьесы регулярно побеждают в номинации «Лучший драматургический текст», а тираж последнего на сегодняшний день романа «Физика грусти» (2011) – раскуплен за считанные дни и уже в допечатанном виде возглавляет рейтинг самых продаваемых книг.
Список успехов был бы не полным без упоминания о дебютном романе писателя, не случайно названном «Естественным». С момента первой публикации в 1999 году он уже выдержал шесть изданий и был переведен на девятнадцать языков. Это «изящное начало… впечатляющее перевоплощение точек зрения», как отзывается о романе бельгийская газета «Le Soir», было не только встречено с удивительным для критики единодушным одобрением, но и оказалось знаковым для литературного процесса в целом: с легкой руки литератора, обозревателя и критика Митко Новкова, назвавшего этот текст «первым болгарским постмодернистским романом», рецензенты и исследователи стали рассматривать его еще и как знак перехода от собственно «филологической», академической фазы постмодернизма начала 90-х к этапу «технической репродуцируемости».
Такое важное для будущей систематизации литературного процесса наблюдение, возможно, имеет свою историческую ценность, тем не менее, нельзя не заметить следующее: насыщенный отступлениями, отклонениями и на первый взгляд совершенно не связанными между собой техническими вставными эпизодами, роман активно сопротивляется всем попыткам обнаружить в нем принципы механики и в противовес этому словно выставляет напоказ «физические», естественные законы написания и дальнейшего существования художественного текста.
«Разве возможен роман сегодня – сегодня, когда нам отказано в трагическом. Как вообще возможна даже сама мысль о романе, когда возвышенного нет и в помине?» – спрашивает герой и автор «естественных» заметок своего тезку – редактора одной столичной газеты. А вместо ответа прилагает небрежно запечатанную в самодельный конверт рукопись, этим жестом превращая обыкновенную семейную сагу в роман о романе – о его рождении, наполнении смыслом, роли в происходящих событиях.
Одновременно с этим художественный текст становится и литературной сценой, на которой происходит перетекание одного текстуального пространства в другое. Эта алхимия завораживает – во многом благодаря изящной простоте фабульной конструкции.
Жизнь одного мужчины неожиданно терпит крах. Или, если позаимствовать неоднократно встречающийся в произведениях Георги Господинова оборот, с ним случается «личный апокалипсис». Попытка ухватиться за нить своего бытия и смотать ее в клубок зафиксированных на письме наблюдений оборачивается еще одним провалом, а вернее, их чередой. Философская глубина существования упорно ускользает, вытесняется досадной цепочкой бытовых происшествий, сжимающих бытийственность до рутинных, монотонных алгоритмов. А они, в свою очередь, таинственным образом накладываются на судьбы двух других героев: редактора, полного тезки героя, и сумасшедшего садовника-натуралиста. Так личная история размывается и «обезличивается» эпизодами из жизни других людей, а длинное путешествие к грусти и безнадежности, к освобождению от всех иллюзий и социальной обремененности, ассоциируемой со стабильностью и престижем, уступает место истории клозетов, мух и пчел. Вернее, перемежается ими.
Получается, что фабула – лишь рамка для многоцветного калейдоскопа фрагментов: снов, списков удовольствий, подслушанных диалогов, планов написания романа из начал или из одних только глаголов, Библии мух. Георги Господинов непрестанно оставляет в тексте следы новых историй, но сразу же переходит к другим происшествиям, отказываясь заканчивать эти сюжеты традиционными способами, известными классическому повествованию. Рассказ тут разворачивается в металитературном пространстве, сотканном из множества зачинов сочиненных или прожитых историй, а жанровая модель аллегорично замещается фасеточным взглядом на вещи и особой траекторией чувствительности, позаимствованными у мух. В этом смысле вполне органично, или, если быть ближе к тексту романа, естественно, перескакивание с одной темы на другую, пропуск связующих слов и актуализация важных впечатлений путем припоминания одного или нескольких ключевых образов, постепенно восстанавливающих всю картину или сцену целиком. Известно, что мухи движутся по непредсказуемой траектории, а поэтому и фасеточное зрение сфокусировано на самых неожиданных вещах. В контексте словесной ткани произведения это означает лишь одно: каждый образ может оказаться ключевым, а любая деталь – необходимой в контексте некоего целого.
На самом деле, все самое главное о «Естественном романе» сказано самим романом. Это книга о жизни и о нашей неспособности справиться с ней. И о еще большей неспособности все это прочувствовать и описать. Но более всего – это роман о естественной красоте подобной невозможности, заставляющей наш взгляд изменить свою траекторию и обратиться к самым обыденным предметам, без которых все значительное потерялось бы в трагичной череде будней.
М. Ширяева
Георги Господинов
ЕСТЕСТВЕННЫЙ РОМАН
Естественная история – это не что иное, как именование видимого. Отсюда ее кажущаяся простота и та манера, которая издалека представляется наивной, настолько она проста и обусловлена очевидностью вещей.
Один Модный Француз1966, Paris
1
В каждой секунде в этом мире – длинная вереница людей плачущих и еще одна, покороче, – людей смеющихся. Но есть и другая, состоящая из людей, которые уже не плачут и не смеются. Самая печальная из всех. О ней мне и хочется поговорить.
Расстаемся. Во сне расставание связано только с уходом из дома и больше ни с чем. В комнате все упаковано, коробки высятся до потолка, но там, наверху, все еще просторно. Коридор и другие комнаты полны родственников – моих и Эммы. Они о чем-то шушукаются, шумят и ждут дальнейших действий с нашей стороны. Мы с Эммой стоим у окна. Нам осталось поделить лишь кучу граммофонных пластинок. Неожиданно она вынимает из пакета пластинку, ту, что сверху, и с силой запускает ее в окно. Это мне, говорит она. Окно закрыто, но пластинка проходит сквозь него, как будто разрезает воздух. Инстинктивно я достаю следующую и бросаю ее следом. Пластинка несется, как летающая тарелка, вертится вокруг своей оси, как в проигрывателе, только быстрее. Слышен ее свист. Где-то над мусорными баками она угрожающе отклоняется в сторону низко летящего грязного голубя. В первый момент кажется, что столкновения удастся избежать, но немного погодя я вижу, как острый край пластинки медленно врезается в его упитанную шею. Все происходит как в замедленном кадансе, и это усиливает ужас. Совсем отчетливо слышится несколько коротких тонов – это пластинка перерезает шею. Острая кость голубиного зоба издает мимолетный звук, скользнув по музыкальной дорожке пластинки. Только начало мелодии. Какой-то шансон. Не помню. «Шербургские зонтики»? «О, Paris»? «Кафе трех голубей»? Не помню. Но музыка звучала. Отрезанная голова по инерции пролетает еще несколько метров, а тело мягко шлепается в пыль рядом с мусорными баками. Крови нет.
Во сне нет ничего лишнего. Эмма наклоняется и бросает следующую пластинку. Потом я. Она. Я. Она. С каждой следующей пластинкой повторяется то же, что и с первой. Тротуар под окном завален птичьими головами, серыми, одинаковыми, с затянутыми пленкой глазами. Каждой упавшей голове родственники за нашей спиной отрывисто аплодируют. Мица сидит на подоконнике и хищно облизывается.
Я проснулся от боли в горле. Сначала я хотел рассказать свой сон Эмме, но потом передумал. Это просто сон.
2
Апокалипсис возможен и в отдельно взятой стране.
Кресло-качалку я купил одним субботним днем в начале января 1997-го. Я только что получил зарплату, и кресло поглотило добрую ее половину. Оно было последним, еще по старым, сравнительно низким ценам. Невероятная инфляция той зимы подчеркивала безрассудность моей покупки. Кресло было плетеным, под бамбук; почти невесомое, оно казалось громоздким и неудобным для переноски. Было немыслимо потратить оставшуюся половину зарплаты на такси, я взвалил его на плечи и пустился в обратный путь. Я шел, нес кресло на спине, как кузов, и стойко переносил укоризненные взгляды прохожих, устремленные на меня из-за роскоши, которую я смог себе позволить. Кто-нибудь должен описать скудость и нищету зимы 97-го, как, впрочем, и все остальные скудости, зиму 90-го, 92-го. Помню, как передо мной на рынке какая-то пожилая женщина просила, чтобы ей отрезали половинку лимона. Были и такие, кто вечером обходил пустые лотки в поисках случайно закатившейся под них картофелины. Все чаще хорошо одетые люди преодолевали стыд и рылись в мусорных баках. Голодные псы выли поодаль или стаями нападали на припозднившихся прохожих. Когда я вывожу эти беспорядочные предложения, мне представляются жирные газетные заголовки, набранные сбитым шрифтом.
Однажды вечером я вернулся домой – дверь была взломана. Взяли только телевизор. Непонятно почему, моя первая мысль была о кресле-качалке. Кресло было на месте. Наверное, его не смогли вынести через дверь, оно было слишком широким, я затаскивал его через окно. Весь вечер я провел в кресле. Когда Эмма вернулась, она стала звонить в полицию. В этом не было смысла. Никто уже не реагировал на сигналы об ограблении. Твою мать. Я сидел в плетеном кресле, гладил двух испуганных беспорядком кошек (и где же они прятались все это время) и курил, уязвленный в то, что осталось от моего мужского самолюбия. Я не мог защитить даже Эмму с кошками. Сел и написал рассказ.
Вламываются в квартиру одной семьи. В момент ограбления дома только хозяйка, ей около сорока, но уже видны первые признаки увядания, она смотрит какой-то сериал по телевизору. Взломщики – молодые и с виду нормальные парни – не ожидали, что в это время в доме кто-то есть, но они быстро понимают, что к чему. К тому же женщина и без того достаточно напугана. Она сама достает деньги из гардероба в спальне. Не сопротивляется, когда ее заставляют снять серьги и кольца. И обручальное тоже? И обручальное. Она снимает его с большим трудом, оно почти вросло в палец. Вдруг, когда те решают вынести телевизор – сериал между тем еще не кончился, – женщина вцепляется в него изо всех сил. Впервые повышает голос, умоляет взять что угодно взамен, но только не трогать телевизор. Остается стоять вот так, спиной к двум мужчинам, прижавшись грудью к экрану – она уже готова на все. Оттолкнуть ее было раз плюнуть, но взломщиков на миг смущает ее внезапная реакция. Она чувствует их колебание и двусмысленно заявляет, что они могут делать с ней что угодно, лишь бы не трогали телевизор. Сделка заключена. Мы будем тебя трахать, говорит один из них. Она не шевелится. Они ловко задирают ей юбку. Никакой реакции. Ее задница все еще упругая. Первый кончает быстро. Второй возится чуть дольше. Женщина вцепилась в телевизор и стоит как вкопанная. Только однажды просит их поторопиться, потому что дети должны вернуться из школы. Это как будто окончательно парализует второго, и они вдвоем в спешке покидают квартиру. Сериал закончился. Женщина с облегчением отпускает телевизор и идет в ванную.
Интересно, как же закончатся 90-е годы – как триллер, боевик, мрачная комедия или как мыльная опера?
ОТ РЕДАКТОРА
Вот история этой истории.
Я, как редактор столичной литературной газеты, получил тетрадку. Она лежала в большом самодельном конверте, отправленном в редакцию на мое имя. На конверте не было обратного адреса, клей вытек наружу и засох. Признаюсь, я распечатал письмо с чувством легкой брезгливости, которое так и не развеялось, когда я вынул оттуда тетрадку – около 80 листов, изрядно потрепанных, густо испещренных мелким почерком с обеих сторон. Подобные рукописные послания никогда не предвещают ничего хорошего для редактора. Их авторы, чаще всего навязчивые старикашки, появляются на горизонте по прошествии нескольких дней и спрашивают, подписан ли к печати их труд, естественно, труд всей жизни. По опыту мне было известно, что, если сразу не пресечь их настойчивость и, постеснявшись возраста, доброжелательно ответить, что рукопись еще не дочитана, они будут осаждать тебя каждую неделю, как усталые воины, решившие биться до победного конца. И хотя их конец был не за горами, постукивание палочек по лестницам редакции заставляло меня материться, как грузчик.
В случае с этой тетрадкой странным было то, что нигде не было ни заглавия, ни имени автора. Я сунул ее в сумку, собираясь все же пролистать полученный текст дома. Я всегда мог вернуть тетрадь, мотивируя это тем, что рукописи мы принимаем только в печатном виде, и таким образом оттянуть решение вопроса еще на несколько месяцев. Вечером, конечно же, я о ней забыл, хотя, впрочем, в последующие дни никто так и не пришел за ответом. Я открыл ее только неделю спустя. В это трудно было поверить, но я читал один из лучших текстов за все время своей работы редактором. Какой-то человек пытался рассказать о своем неудавшемся браке, и роман (уж не знаю, почему я решил, что передо мной именно роман) кружил вокруг невозможности описать эту неудачу. Хотя… и сам роман можно было пересказать с трудом. Я сразу же поместил отрывок из него в газету и стал ждать, когда появится автор. Мною была добавлена и небольшая сноска о том, что рукопись поступила в редакцию незаконченной и это, по всей вероятности, можно объяснить рассеянностью автора, но мы ждем, что он отзовется. Прошел целый месяц с момента публикации. Ничего. Я поместил второй отрывок. И в один прекрасный день в редакцию пришла сравнительно молодая женщина. Она закатила скандал, что, мол, газета вмешивается в ее личную жизнь. Сама она, дескать, читала ее лишь время от времени, но ее подруга показала ей номера, в которых я поместил те самые отрывки. Женщина утверждала, что тексты были написаны ее бывшим мужем, который желал ее скомпрометировать. И все имена в них были настоящими, за что, по мнению ее подруги, она может подать на нас в суд. После чего женщина неожиданно расплакалась, вся ее ярость испарилась, и в этот момент она даже показалось мне милой. Сбивчиво она принялась рассказывать о том, что ее муж некогда был очень дельным человеком, писал и между делом даже публиковал рассказы. Призналась, что сама она их не читала. Потом, после развода, он будто бы помешался. Сейчас же совсем опустился, стал бомжем, бродил по кварталу, частенько сиживал в скверике перед ее домом, прямо под окнами, чтобы, мол, окончательно ее извести и скомпрометировать в глазах соседей.
– Вы мне его покажете?
– Нет уж, лучше сами его ищите, его всегда можно застать возле местного рынка. С креслом-качалкой. Вы его узнаете. И прошу вас, больше этого не печатайте, я не выдержу, – неожиданно тихо сказала она и ушла.
Я узнал, что он добывал себе пропитание почти так же, как все бомжи, но не совсем. Он никогда не рылся в мусорных баках, по крайней мере никто не видел, чтобы он этим занимался, а вместо этого сдавал макулатуру. Говорят, он был тихим сумасшедшим. Вертелся около рынка, помогал по мелочам, вечером сторожил товар – за это ему давали помидоры, перец, арбузы… что было, смотря по сезону. Вот что мне рассказали торговцы, а потом еще несколько раз переспросили, не в розыске ли он. Они знали не так уж много.
Я нашел его в местном сквере. Он качался в кресле-качалке, как-то меланхолично, будто в трансе. Свалявшиеся волосы, майка, давно полинявшая, джинсы и прохудившиеся спереди кроссовки. Ах да, какая-то худющая дворовая кошка устроилась у него на коленях. А он все так же меланхолично ее гладил. Ему было не больше сорока-сорока пяти. Меня заранее предупредили, что он почти не разговаривает, но я все же шел к нему с хорошими новостями. Я представился. Он, так и не взглянув на меня, как будто слегка улыбнулся. У меня с собой были номера с его публикациями. На мой вопрос, действительно ли он является автором, он, не выходя из транса, только кивнул. Я начал было говорить, насколько хорош его текст, что не мешало бы его издать, спрашивал о других его работах. Безрезультатно. Наконец я вынул все свои наличные деньги и вручил их ему, сказав, что это гонорар. Было заметно, что он не привык получать деньги. Первый раз за все время моего знакомства с ним он смутился, как будто вышел из забытья и посмотрел на меня.
– Ты ведь разводишься, дружище? – Это было сказано почти приятельским тоном, так, как человек обычно выражает сочувствие.
Черт побери, я и не думал, что это было так заметно. Во всяком случае, я выглядел получше его. Никто из моих друзей еще ничего не знал. Несколько дней назад мы с женой подали на развод.
Я, обнадеженный тем, что он заговорил, вновь спросил, как его зовут.
– Георги Господинов.
– Но так зовут меня, – почти выкрикнул я.
– Я знаю, – он безразлично пожал плечами, – я раньше читал вашу газету. Мне известно еще о семерых, которых зовут точно так же.
Больше он ничего не сказал. Я оставил его на том же месте и поспешил исчезнуть. Все складывалось как в плохом романе из старого альманаха. Мне пришло в голову, что я мог бы позвонить его жене и спросить о его имени. Перед тем как завернуть за угол, я не выдержал и обернулся. Он сидел все в той же позе, ритмично качаясь в плетеном кресле. Как те пластиковые ладошки, которые когда-то прицепляли на заднее стекло автомобилей.
О его существовании я вспомнил только через год. Тем временем я уже нашел издательство, которое согласилось опубликовать рукопись, и мне нужно было его разыскать только затем, чтобы он подписал договор. Сомневаясь в том, что мне удастся затащить его в само издательство, я прихватил договор с собой. Стояла поздняя весна. От его жены я уже знал, как его зовут, и мне пришлось смириться с таким совпадением. Я чувствовал себя немного виноватым перед этим человеком, как будто я погнушался тем, что какой-то деградировавший тип приходится мне тезкой. Договор с издательством предусматривал приличный гонорар, который наверняка пришелся бы ему весьма кстати. Я обошел квартальный скверик, но его там не было. Стал описывать круги вокруг рынка. Спросил одного из торговцев, с которым, как мне показалось, я говорил и раньше. Он ничего не знал. В последний раз, мол, его видели в конце прошлой осени, в октябре, нет… вроде в начале ноября. С тех пор он больше не появлялся. После чего торговец махнул рукой и будто между делом упомянул о том, какой собачий холод стоял этой зимой, а Маятник (так его называли), по слухам, собирался перезимовать в своем гамаке, на качалке то есть… Пока торговец все это рассказывал, он продал кило помидоров, два килограмма огурцов и несколько пучков свежей петрушки, не преминув похвалить свой товар и мне. И все это – безразличным, слегка писклявым голосом. Моим первым желанием было передавить все его помидоры, один за другим, потом оборвать листик за листиком всю его свежую петрушку и, наконец, макнуть его голову в это пюре. Как же так случилось, что никто из продавцов, которые, кажется, были единственными собеседниками этого бродяги, ничего для него не сделали? Могли бы, ну я не знаю, найти ему какую-нибудь комнатенку на зиму или хотя бы подвал… Но моя злость постепенно проходила – неизбежно возникал вопрос: а я сам, почему же я ничего не сделал для этого несчастного? Я вышел за ворота рынка, набрел на скамейку в скверике недалеко от того места, где год назад первый и, наверное, последний раз я говорил с человеком в кресле-качалке. Ко всему прочему, по какой-то странной случайности (почему случайности всегда кажутся нам странными?) мы оказались тезками. А может, сказал я себе, события развивались совсем по-другому. Может, тот человек вдруг взял себя в руки, может, публикация в газете заставила его подняться с вечного стула, и сейчас он где-нибудь работает, даже снова пишет, вдруг он снял квартиру, нашел себе другую женщину… Я попытался на миг представить его себе сидящим в гостиной панельного дома, перед телевизором, в тапочках, в потрепанных, но чистых брюках, толстом свитере, в прежнем кресле-качалке. А на его коленях – все ту же дворовую кошку, которую он гладил в тот день. Чем подробнее в моем сознании прорисовывалась эта картина, тем нереальнее она мне казалась. Наконец я вынул договор с издательством и сделал последнее, что я мог сделать для моего тезки. Я его подписал.








