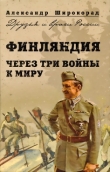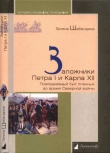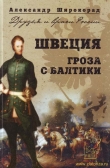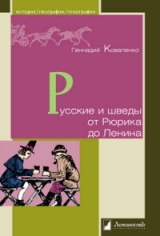
Текст книги "Русские и шведы от Рюрика до Ленина"
Автор книги: Геннадий Коваленко
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
Предупреждение, не услышанное королем

С началом Северной войны на шведов обрушился целый поток пропагандистских материалов: памфлетов, официальных публикаций и военных бюллетеней, содержавших много отрицательного и даже унизительного для России. И в это же время весной 1706 г., когда Карл XII преследовал Августа II в Саксонии, в Стокгольме вышла небольшая книга анонимного автора под названием «Описание положения границ, областей, городов, правления, власти, обычаев и других свойств России». Предполагают, что ее автором был бывший секретарь канцлера Магнуса Делагарди Ёран Виксель.
Источниками его сочинения послужили западноевропейские описания России, авторами которых были Петр Петрей, Адам Олеарий, Джон Перри, Николай Бергиус, а также анонимные немецкие сочинения начала столетия. Вполне возможно, что ему было известно также сочинение Григория Котошихина, написанное им для Магнуса Делагарди. В целом работа Викселя не представляет особого историографического интереса. Как справедливо заметил шведский исследователь Самюэль Бринг, «с точки зрения содержательности небольшая работа Викселя вряд ли представляет большой интерес для шведского читателя, поскольку она не основана на личных наблюдениях, а представляет собой компиляцию из нескольких иностранных сочинений, о чем, впрочем, автор сам сказал во введении».
Гораздо больший интерес представляет ее политическая направленность. Автор описывает Россию как огромную страну, простирающуюся от Северного Ледовитого океана до Китая и обладающую неисчерпаемыми запасами природных ресурсов. Многое в этой стране представляется автору экзотическим: одежда, прически, дома, обычаи, религия. Однако он не считает русских ни варварами, ни язычниками, а сравнивает их с европейскими народами. Он пишет о попытках Петра I модернизировать Россию, о свободе вероисповедания, отмене запрета на поездки за границу, благодаря чему россияне начали ездить в Европу для изучения языков, навигации, военного дела.
Что касается военного дела, то Виксель пишет, что в России оно имеет свои особенности. Он считает, что оборона России опирается не столько на систему пограничных крепостей, сколько на размеры территории. Малонаселенные и необжитые приграничные территории могут стать непреодолимой преградой на пути любого агрессора. События последних лет показали, что модернизация и перевооружение русской армии начали приносить свои плоды. Повысились ее боеспособность и численность. Он полагает, что царь может поставить под ружье более 400 тысяч человек. Правда, он считает, что численное превосходство не всегда гарантирует победу, которой можно добиться и небольшими силами, если у солдат высокий боевой дух, а командиры думают не только о победе, но и о том, как избежать ненужных потерь.
В качестве примера он приводит победу Карла XII под Нарвой в 1700 г., когда король с 8000 солдат разгромил 80-тысячную русскую армию, осаждавшую крепость. Он считает, что эта победа могла бы принести больше успеха, если бы тогда король довел борьбу с Россией до конца. Он пишет, что после того, как Карл XII вытеснил войска Августа II из Ливонии, у него не было необходимости вести свои войска в Литву и Польшу. Начав польскую кампанию, он дал русским соблазн и повод вторгнуться в Балтийские провинции Швеции. Он заканчивает этот раздел книги такими словами: «Что произойдет в одном или другом месте, когда столкнуться враждебные силы и партии, покажет время».
Виксель считает, что война с Россией еще не закончена, но предостерегает Карла XII от наступательной войны. Он пишет, что царь использовал полученную им передышку для того, чтобы модернизировать армию, и указывает, что на территории России шведская армия может столкнуться с такой опасностью, как тактика выжженной земли.
Книга Викселя по своему тону сильно отличалась от многих западноевропейских сочинений о России и представляла резкий контраст официальной пропаганде. Виксель не считал Россию и Швецию исконными врагами. Он писал, что традиционными врагами русских были турки и татары, а не шведы. Что же касается шведов, то с ними у русских, равно как и с поляками, часто случались вооруженные конфликты из-за спорных пограничных территорий, но их вражда не была аксиомой.
Не удивительно, что книга Викселя сразу была запрещена цензурой как непристойная и недостоверная. Весь тираж был конфискован прямо в типографии и передан на хранение в Государственный архив. Газета «Стокхольмске Пост-Тидендер» назвала ее «наполненной немыслимым вздором и явной ложью».
Книгу Викселя можно считать предостережением шведскому королю, но Карл XII не услышал его. Летом 1707 г. он двинул свою армию вглубь России. Как отметил Ш. Монтескье, стратегические замыслы короля оказались ему не по силам, поскольку он «задумал сокрушить не государство в период упадка, а империю в период ее рождения». Столкнувшись с тактикой выжженной земли, оказавшись на безлюдной и опустошенной территории, он был вынужден повернуть свою армию на Украину навстречу Полтавской катастрофе.
Тем не менее в исторической перспективе Полтава была в большей степени не национальной, а личной катастрофой короля. Современный шведский историк Петер Энглунд отметил, что «одна из дорог, приведших к сегодняшнему богатству и преуспеванию Швеции, началась именно там, на равнине под Полтавой». По его мнению, Полтавская битва была для шведов катастрофой лишь с точки зрения краткосрочных последствий. В долгосрочном плане она принесла пользу. Развал империи нанес удар по национальной гордости шведов, но избавил их от тяжелого бремени военных расходов. Тогда Швеция сделала первый шаг к государству всеобщего благополучия – «народному дому», жители которого сегодня чувствуют себя членами одной семьи.
Литература:
Beskrifning om Rysslands belägenhet, granntzor, städer, styrelse, makt, plägseder och andra beskafenheten nu för tiden. Stockholm, 1706; Bring S. E. En censurerad svensk Rysslandsskildring från det stora Nordiska krigets tid // Nordisk tidskrift för Bok och Biblioteksväsen. VI. 1919; Кан А.С. Россия и Швеция в прошлом и настоящем. М., 1999; Энглунд П. Полтава. Рассказ о гибели одной армии. М., 1995.
Шведская модель для Петра I

«Гений Петра», отмеченный Пушкиным, заключался не только в том, что он мог извлекать урок из поражения и обращать его в победу, но и в уважительном отношении к противнику, которого в XVIII веке, как правило, называли не врагом, а неприятелем. Швеция была для Петра I не только государством-соперником, победа над которым была победой над «славным и регулярным народом», но и государством-образцом.
Северная война стала для Петра I суровой школой. Уже первые месяцы войны заставили его изучать и перенимать шведский военный опыт. Поэтому петровские реформы начались с реформы армии.
При ее проведении был использован шведский опыт поселенной системы, при которой в мирное время войска размещали среди крестьянского населения податных округов. Из этой системы был заимствован территориальный характер формирования и содержания полков, их расквартирование в крестьянских и мещанских домах той губернии, к которой эти полки были приписаны и на деньги которой содержались. Даже обувь для армии должны были шить по шведским образцам: «Драгунские сапоги и солдацкие башмаки делать на шведский манер». От шведов переняли также наказание шпицрутенами, которое считалось самым тяжелым и позорным наказанием военнослужащих.
В результате проведения военной реформы русская армия стала постоянной, национальной и регулярной, а Россия стала великой европейской военной державой.
Полтавская баталия стала убедительным доказательством успеха военной реформы. Превзойдя Карла XII в этой сфере, Петр I хотел опередить шведов и в сфере гражданской. Он полагал, что Швеция ближе всего к России и по своим природным условиям, и по уровню развития. Экономические системы Швеции и России были отчасти похожи, а шведская строго централизованная административная структура являлась отражением абсолютистской формы правления и импонировала русскому царю. Простая и рациональная политическая система Швеции представлялась Петру I наиболее подходящим воплощением модели цивилизованного абсолютизма, который он хотел воспроизвести в русских условиях при проведении реформ центрального и местного управления.
В 1716 г. он направил в Швецию перешедшего на русскую службу опытного голштинского чиновника Георга Генриха Фика. Ему было поручено собрать материалы о шведских коллегиях и пригласить в Россию опытных шведских чиновников. Исполнение этого поручения во враждебной стране было сопряжено со значительной опасностью. Тем не менее Фику удалось собрать самые подробные сведения об устройстве шведских коллегий и вывести в Россию множество печатных и письменных материалов. Только вот охотников ехать в Россию, чтобы занять места асессоров в русских коллегиях, ему найти не удалось.
В 1711 г., отправляясь в Прутский поход, следуя примеру Карла XII, поручившего управление страной «Сенату в Стокгольме», Петр I учредил Правительствующий Сенат «для отлучек наших» как постоянное государственное учреждение для координации работы государственного аппарата в условиях войны. За образец была взята шведская Королевская канцелярия, представляющая собой особое координирующее учреждение, ведающее внешними и внутренними делами королевства.
В 1717 – 1722 гг. на смену приказам пришли специализированные учреждения – коллегии («собрания многих персон»). Их структура, функции, режим и порядок работы, система делопроизводства, отчетности, титулы, ранги, жалованье чиновников были скопированы в Швеции. Однако при этом были созданы коллегии, не имеющих аналогов в шведской системе (Вотчинная, Малороссийская, Духовная и Мануфактур-коллегия).
Провинциальная реформа 1719 г. в основных чертах воспроизводила трехчленную систему шведского местного управления (приход – дистрикт – земля), но по приказу Петра I «спускалась с русским обычаем». Поэтому из нее был изъят приход – низовое звено с участием крестьян, поскольку «в уездах ис крестьян умных людей нет».
В ходе податной реформы 1718-1728 гг., проводившейся по шведскому образцу, в дистриктах были размещены армейские полки, и командиры полков получили большую власть в низшем звене местного управления.
Судебная реформа 1719 г., целью которой было создание централизованной системы судебных органов, замкнутой на Юстиц-коллегию, также проводилась по шведскому образцу. Однако, поскольку подготовленных юристов, из которых формировался состав шведских судов, в России не было, отделить судебную власть от исполнительной не удалось.
Церковная реформа Петра I преследовала цель подчинить духовную власть светской, превратить церковь в одно из звеньев бюрократической системы абсолютистского государства. В конфессиональных вопросах Петр I был прагматиком. Он смотрел на церковь как на инструмент воспитания верноподданных, школу воспитания нравственности. Образец церковной реформы был заимствован в Швеции, где церковь не вмешивалась в государственные дела. В результате реформы церковь утратила свою независимость и была инкорпорирована в бюрократическую систему, превратилась в послушную служительницу светской власти.
По мнению шведского исследователя К. Петерсона, Петр I пытался создать государственный аппарат, соответствующий аппарату Карла XI, при котором в Швеции окончательно утвердилась самодержавная форма правления.
Таким образом, при проведении реформ Петр I широко использовал шведскую модель. Однако, как отметил известный специалист по российской истории XVIII в. Е.В. Анисимов, воспроизвести ее полностью «Петр не смог, да и не стремился к этому. Русские учреждения отличались от шведских не столько номенклатурой должностей, численностью чиновников или тем, что коллегиальное управление не охватило всего центрального управления, сколько тем, что взятые образцы были вырваны реформатором из шведского государственного «контекста», в котором они являлись органичным элементом всего устройства шведского государства с характерной для него разветвленной системой сословно-представительных органов, самоуправляющихся городов и сельских общин, с неотменяемыми сословными привилегиями, личной свободой всего населения… Росток бюрократического дерева, контролируемого в своем развитии на шведской почве риксдагом и местными выборными органами, был высажен на русскую почву, не имевшую или, точнее сказать, давным-давно утратившую всякие черты самоуправления и элементы сословного представительства».
Поэтому довольно скоро обнаружилась невозможность нормального функционирования шведской модели в российских условиях. Шведская административная система основывалась в своих низших звеньях на свободном крестьянстве и, кроме того, была органически связана с национальной податной системой, с особенностями поземельного права, налогообложения и пр. Опыт применения шведской модели на русской почве убедительно показал, что на ней успешно функционировали лишь те ее составляющие, которые более или менее органично вписывались в канву исторического развития страны.
Литература:
Алексеева Е.В. Использование европейского опыта управления государством при Петре I // Вопросы истории. 2006/2; Анисимов Е.В. «Шведская модель» с русской «особностью»: Реформа власти и управления при Петре Великом // Звезда. 1995/1; Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого. СПб., 1997; Власть и реформы. СПб., 1996; Кан Л.С. Швеция и Россия в прошлом и настоящем. М., 1999; Маньков Л.Г. Использование в России шведского законодательства при составлении проекта Уложения 1720-1725 гг. // Исторические связи Скандинавии и России IX – XX вв. Л., 1970; Некрасов Г.Л. Учреждение коллегий в России и шведское законодательство // Общество и государство феодальной России. М., 1975; Троицкий С.М. Об использовании опыта Швеции при проведении административных реформ в России в первой четверти XVIII в. // Вопросы истории. 1977/2; Peterson С. Peter the Great's Administrative and Judical Reforms: Swedish Antecedens and the Process of Reception. Stockholm, 1979.
Культурная миссия каролинов

Неизбежным продуктом войн являются пленные. В новое время под пленом стали понимать ограничение свободы лиц, принимавших участие в военных действиях, с целью недопущения к дальнейшему участию в них.
В XVIII веке в ряде европейских стран сложилась довольно четкая и сравнительно гуманная система содержания военнопленных. Тем не менее до конца XIX века в международном праве не было многосторонних соглашений, устанавливающих режим военного плена. Первая конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, зафиксировавшая нормы, регулирующие режим военного плена, была принята только в 1899 году на мирной конференции в Гааге.
С массовым притоком военнопленных Русское государство столкнулось в годы Северной войны. В общей сложности в России за годы Северной войны скопилось свыше 25000 пленных шведских каролинов. Первые шведы (около 114 человек) оказались в русском плену в декабре 1701 года. В плен брали не только солдат и офицеров, но и членов их семей, и мирных жителей прибалтийских городов. Так в 1702 г. при сдаче Мариенбурга в числе «свейских полоняников» оказалась жена шведского солдата Марта Скавронская – будущая российская императрица Екатерина I.
В ходе военной кампании 1704 г. в Прибалтике в русский плен попало свыше 3000 человек. В сражении под Калишем в 1706 г. было взято в плен 5000 шведов. В интересах внутренней безопасности первые «шведские арестанты» были разделены на несколько групп и высланы в различные города России: Нижний Новгород, Тулу, Владимир, Муром, Переяславль-Рязанский, Коломну, Астрахань и Казань.
В 1709 г. под Полтавой и у Переволочны в плен попало более 22000 шведских военнослужащих и гражданских лиц (женщин и детей, сопровождавших армию). Петр I распорядился накормить пленных и выплатить им денежное содержание, соответствующее жалованию солдат и офицеров русской армии. При этом им было разрешено отправлять известные им ремесла, зарабатывать деньги своим трудом. Тогда же была проведена перепись военнопленных, в ходе которой были выявлены кузнецы, токари, плотники, колесники, слесари, шорники, седельные и ружейные мастера, гончары, каменщики. Их профессиональные навыки предполагалось использовать для того, чтобы извлечь хоть какую-то пользу из пребывания большого количества специалистов в стране.
Все «шведские арестанты» поступили в ведение Военной коллегии. Сановники и генералитет (начальник полевой канцелярии Карла XII граф Пипер, фельдмаршал Реншельд, генералы Крейц и Левенгаупт, секретарь Цедерельм, кригскомиссары Тунинг и Меландер) были переданы под контроль высших чинов русской армии. Впоследствии они были уполномочены Карлом XII представлять интересы шведских военнопленных в России и создали в Москве своего рода управление по делам шведских военнопленных. Остальные были отправлены в ближние города Севск, Чернигов, Киев, Азов и Воронеж. 21, 26 и 27 декабря 1709 г. несколько тысяч каролинов приняли участие в праздничных торжествах, пройдя маршем по улицам Москвы.
После этого их разбили на команды, выдали кормовые деньги и под охраной отправили в назначенные для их проживания города: Петербург, Новгород, Клин, Суздаль, Ярославль, Серпухов, Переяславль-Залесский, Галич, Коломну, Тулу, Вологду, Казань, Свияжск, Нижний Новгород, Астрахань, Уфу, Чебоксары и др.
В условиях продолжавшейся войны Русское государство не могло взять на себя содержание пленных каролинов. Поэтому они были поставлены перед выбором: перейти на русскую службу, работать на государство или перейти в руки частных лиц, которые взяли бы на себя расходы по их содержанию. Часть пленных шведов в соответствии с нормами Соборного уложения 1649 г. оказалась в холопской зависимости от частных лиц, у которых они проживали. Многие «шведские арестанты» были приписаны к различным ведомствам или предприятиям, испытывавшим постоянную нужду в квалифицированной рабочей силе.
За полтора десятилетия пребывания в России пленные шведы показали себя умелыми мастерами. Их присутствие позволило хотя бы частично компенсировать нехватку квалифицированных кадров.
В Тульском крае их труд использовался на строительстве канала, связавшего в единую судоходную систему бассейны рек Дона и Оки. После окончания работ в 1713 г. около 300 шведских военнопленных во главе с сержантом Олевом Иску и капралом Ларсом Лундом было переведено на строительство тульских оружейных заводов. Здесь их использовали также для подготовки русских мастеров-оружейников.
Каролины внесли свой вклад в строительство Петербурга. Вместе с русскими мастерами и работными людьми шведские каменотесы, столяры и плотники строили Гостиный двор, здание Коллегий, Петропавловский собор, Александро-Невский монастырь, первый Зимний дворец, Петергоф. Они участвовали в «плетении ограды» Летнего дворца и в разбивке Летнего сада, южная часть которого до конца XVIII в. именовалась «Шведским садом».
Шведские мастера обучали русских людей, передавали им свой опыт. Каменоломщик Нильс Ландрин обучил в Петербурге 15 русских, а мурмейстер (каменщик. – Г. К.) Улоф Люсти в 1714 г. руководил строительными работами русских мастеров в Александро-Невском монастыре. Лекарь Яган Штаркин лечил не только своих соотечественников, но и русских людей.
Порой пленные шведы выполняли ответственные и сложные поручения. Так Ларе Лин с соотечественниками и русскими плотниками в 1718 г. возводил шпиль Петропавловской колокольни и купол собора, а Карл Вридрик в 1716 г. выполнял важные чертежные работы.
В 1718 г. на петербургских артиллерийских заводах в Петербурге работали 10 шведских мастеров – токарей, плотников, пильщиков, принявших русское подданство; на пильной мельнице Александро-Невского монастыря работал швед Эколяней, принявший в 1720 г. православие под именем Стефана Михайлова.
Некоторые шведы зарабатывали себе на жизнь ремеслами, не получившими широкого распространения в России: они делали парики, табакерки, очки, пудру, игральные карты.
Весной 1711 г. в Казани и Свияжске был раскрыт заговор шведских военнопленных, замысливших побег в Польшу, где в это время была шведская армия. В условиях возобновившейся войны с Турцией присутствие потенциальной «пятой колонны» в центре страны и на южных окраинах было крайне нежелательным. Поэтому летом 1711г. начинается массовая высылка каролинов в сибирские города Томск, Красноярск, Тюмень, Симбирск, Соликамск, Сургут, Березов, Мангазею и др. Около 1500 пленных было выслано в Тобольск, который, по определению шведского исследователя Альфа Оберга, стал «городом каролинов».
Отмечая цивилизаторскую роль каролинов в освоении Сибири, Г.В. Шебалдина считает, что «вольно или невольно шведы воплотили в жизнь надежды русского царя по скорейшему освоению этого региона. Пребывание шведских военнопленных в Сибири было определенным этапом в развитии этого края».
Многолетнее пребывание каролинов в России принесло ей немалую пользу. Можно сказать, что они стали не только проводниками шведского опыта в России, но и частью ее населения. Вот что писал об этом автор первого русского исследования о каролинах в России Я.К. Грот: «Они завели фабрики и мануфактуры, как живописцы, мастера золотых и серебряных дел, токари и знающие прочие ремесла ввели всюду полезную роскошь; как музыканты, комедианты, фабриканты карт и трактирщики они сделали для русских наслаждение жизнью приятнее и разнообразнее и споспешествовали, сколько могли, обучению юношества».
В этом плане весьма показательна история шведской школы в Тобольске. Она была открыта в 1713 г. по инициативе Брура Роламба при поддержке губернатора М.П. Гагарина. Это была типичная для Швеции школа с подготовительным классом и пятью классами основного обучения. В школе было два потока: немецкий и шведский. Шведские дети обучались в основном на родном языке, а также изучали немецкий язык и некоторые предметы на нем. Немецкие, русские, украинские дети и представители народов Сибири обучались на немецком языке. Обучение было бесплатным. Родители оплачивали только стоимость еды (бедные семьи освобождались и от этой платы). В 1717 г. при школе была открыта больница на 74 койки.
Светские и духовные власти не обходили школу вниманием, ее посещали генерал-губернаторы Сибири Матвей Петрович Гагарин и Алексей Михайлович Черкасский, митрополит Тобольский Филофей Лещинский. Известно, что Петр I поддержал открытие школы и разрешил обучение в ней местного населения. Он считал, что школа будет способствовать превращению Тобольска в культурный центр Сибири.
Школа была закрыта в 1721 г. после подписания Ништадтского мира, по условиям которого все шведские пленные получили возможность вернуться домой. Так закончился 10-летний эксперимент по внедрению в российскую систему образования передовых европейских методик преподавания.
Пленные шведы внесли также вклад в развитие музыкальной культуры Сибири. По инициативе шведского композитора Густава Блидстрёма, взятого в плен под Полтавой, из пленных шведских музыкантов в Тобольске был создан оркестр, в состав которого входили флейта, труба, гобой, ударные инструменты. Здесь он сочинил 40 маршей, 170 менуэтов. Еще один музыкальный ансамбль, состоящий из шведских военнопленных, был образован в Томске под руководством коменданта города В.Г. Козлова.
В 1715 – 1717 гг. некоторые каролины, среди которых преобладали немцы, набранные Карлом XII в Саксонии, приняли участие в освоении Камчатки, в экспедициях И. Бухгольца на Иртыш и А. Бековича-Черкасского в Хиву. Они внесли свой вклад в изучение и картографирование Прииртышья и восточного берега Каспийского моря. Участник экспедиции Бухгольца Юхан Густав Ренат, попав в плен к джунгарскому хану Цэван-Рабдану, научил его подданных плавить железную руду, лить пушки и стрелять из них. Вместе со своим соотечественником Дебешем он наладил в Джунгарии производство сукна. Ренат занимался также поисками золотых месторождений, был военным советником хана и составил карту Джунгарии[16]16
Джунгария (Чжунгария) – горная страна в Средней Азии между Тянь-Шанем и Алтаем. До завоевания Китаем в 1758 г. – государство монголов, джунгаров и оиратов.
[Закрыть].
Его соотечественник Юхан Кристофер Шнитшер сопровождал русское посольство к Аюке-хану. Свои впечатления от поездки он описал в книге «Рассказ о Калмыкии Аюки-хана», которая является первым историко-этнографическим описанием калмыков.
Полковой священник Генрих Сёдерберг, взятый в плен под Полтавой, занимался обучением детей в Москве. По возвращении на родину он написал «Заметки о религии и нравах русского народа».
Значительный вклад в изучение географии России внес капитан Филипп Иоганн Страленберг, составивший карту Сибири, которая охватывала всю Россию, Камчатку и даже часть Японии. Вернувшись в Швецию, он издал ее в 1730 г. в Любеке, сопроводив пространным историко-географическим описанием под названием «Историческое описание Северной и Восточной части Европы и Азии», содержащим сведения о русской генеалогии и этнографии, а также археологическую, филологическую и военную информацию.
Шведский инженер Лоренц (Лаврентий) Ланг представлял торговые интересы России в Китае в 1719-1721 гг., сопровождал Петра I в Персидском походе 1722-1723 гг., ездил с дипломатической миссией в Константинополь, был вице-губернатором в Иркутске.
Положение офицеров, которых старались содержать как почетных пленников, и рядовых шведов в русском плену было различным. Вот как писал об этом один из каролинов корнет Бартольд Эннесс: «С пленными офицерами в России вообще обращались хорошо; они пользовались большой свободою, если только вели себя тихо и порядочно, оставаясь в тех городах, куда были посланы, но в случае неудачной попытки бежать с ними поступали строго, а часто даже и жестоко. Сибирский губернатор князь Гагарин старался всячески облегчить судьбу шведских пленных и выделял им не раз по нескольку тысяч рублей для раздачи наиболее нуждавшимся. Унтер-офицеры и рядовые находились в совершенно других местах, где должны были исполнять тяжелые работы, особливо в сибирских рудниках и при построении Петербурга».
Нехватка квалифицированных кадров в России натолкнула Петра I на мысль об использовании на русской государственной и военной службе шведских военнопленных, имеющих соответствующие специальности и знавших русский язык. Он надеялся обрести в них помощников в деле модернизации страны. Прежде всего, на русскую службу стали приглашать неприродных шведов из завоеванных русскими войсками Остзейских провинций.
В 1711 г. Петр I предписал фельдмаршалу Б.П. Шереметеву предлагать лифляндским офицерам вступать в службу «в виду недостатка у нас офицеров». Специальные указы 1717 и 1718 гг. приглашали на гражданскую службу в коллегии не только остзейцев, но и «природных шведов». Поступившим на русскую службу гарантировалось щедрое вознаграждение, использование только на гражданской службе и возможность вернуться на родину после окончания войны.
Еще одна попытка набрать государственных служащих из шведских военнопленных была предпринята уже в преддверии заключения Ништадтского мирного договора. В апреле 1721 г. был издан специальный манифест, предлагавший шведским военнопленным свободу в обмен на российское гражданство с обретением прав собственности, семейной жизни, выбора места жительства и занятий, подтверждением сословных преимуществ и сохранением «природной веры». Особо подчеркивалось, что «никакой природный швед противу отечества своего служить не принуждается».
Однако лишь немногие каролины откликнулись на призыв Петра и пополнили ряды российских канцеляристов. Известно, что в 1719 г. в штат коллежских чиновников были зачислены асессор Ревизион-коллегии И.Б. Миллер, переводчик Е. Рыхерт, актуариус Камер-коллегии Ю. Грове и еще несколько человек. До высоких административных постов дослужился Карл Христиан Принценшерна.
Причины перехода на русскую службу были самые разные: неизбежные тяготы плена, полунищенское существование, отсутствие достаточной и регулярной помощи из Швеции, а также чувства страха и даже любви. Так корнет Эрик Мурман, в течение нескольких лет не получавший денежной помощи из Швеции, оказался в таком тяжелом положении, «что вынужден был взять русскую службу». Петр Бринкин перешел в русское подданство, чтобы спастись от гнева своих соотечественников. Братья Эренборг перешли на русскую службу, чтобы избежать наказания за участие в казанском заговоре. Капитана Эрика Друандера поступить на русскую службу и перейти в православие заставила любовь к некой Марии Молоковой, с которой он обвенчался уже на следующий день после принесения присяги царю.
Ништадтский мир был заключен 30 августа 1721 г., и уже 30 сентября последовал указ Сената Военной коллегии, разъяснявший условия освобождения и возвращения на родину шведских военнопленных. Каролинам была предоставлена возможность остаться в России, пользоваться свободой вероисповедания и выбирать место жительства.
Пленные освобождались без выкупа, но были обязаны рассчитаться с долгами. Принявшим православие выезд из России был запрещен. Военнопленный, женатый на россиянке, но не перешедший в православие, получал свободу, которая, однако, не распространялась на его жену и детей. Военнопленные на подводах добирались до Санкт-Петербурга, где поступали в распоряжение Военной коллегии, которая должна была обеспечить их транспортировку до границы, «учинив им досмотр заповедных и неявленных товаров». В Военной коллегии они получали паспорт на выезд и шпагу. Их обеспечивали одеждой, обувью, солью и провиантом на месяц по солдатской норме.
До середины 1722 г. в Швецию из России было репатриировано около 6000 военнопленных. Репатриация продолжалась и в последующие годы, хотя и в значительно меньших масштабах. Последний каролин Ханс Аппельман вернулся в Швецию в 1745 году. Точных данных о том, сколько всего каролинов вернулось из русского плена, нет. В работах шведских и российских историков приводятся самые разнообразные цифры. Шведский исследователь Альф Оберг считает, что в Швецию вернулось около четверти пленников. Российские историки, как правило, объясняют это тем, что большая часть пленных добровольно осталась в России. Шведские исследователи связывают эту ситуацию с высоким уровнем смертности среди пленных, прежде всего нижних чинов, особенно в первые годы плена.
Характеризуя деятельность пленных каролинов в России, А.С. Кан пишет: «Вынужденная «культурная миссия» шведских каролинов… была осуществлена несколькими сотнями офицеров и наиболее грамотной частью рядовых из 25 тыс. пленных… То была вторая после жителей Немецкой слободы в Москве столь крупная группа приезжих из более развитой страны. В качестве наставников или исполнителей мы находим «каролинов» на уральских заводах, на донских верфях, на строительных площадках Санкт-Петербурга, наиболее преуспевших – в пышных париках своего времени».