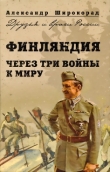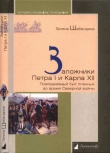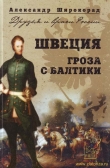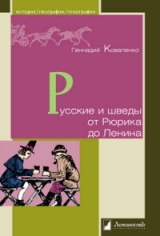
Текст книги "Русские и шведы от Рюрика до Ленина"
Автор книги: Геннадий Коваленко
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Падение «Северного Гибралтара»

Последняя русско-шведская война 1808—1809 гг. во многом носила «кабинетный» характер, что позволило избежать кровавых жертв среди мирного населения и разорения территорий. Одним из самых знаковых и ключевых событий этой войны была во многом определившая ее исход «Свеаборгская катастрофа» – капитуляция Свеаборга в мае 1808 года. Она произвела большое впечатление на современников и осталась в памяти потомков. У многих шведов даже через сто лет слово «Свеаборг» пробуждало «мысли о тех днях, когда шведские мужчины и женщины продали за русское золото свою честь и интересы своей страны».
Морская крепость Свеаборг (Виапори, Суоменлинна) была построена на пустынных островах близ Хельсинки для защиты южного побережья Финляндии. Работы по ее сооружению начались в 1748 г. и продолжались 25 лет. Построенная по последнему слову фортификационной науки, крепость считалась неприступной и получила название «Северный Гибралтар». Ее гарнизон насчитывал более 7500 человек, на вооружении было более 700 орудий. Поэтому сдача крепости без единого выстрела после непродолжительной осады до сих пор является одной из загадок финской истории и предметом научных дискуссий, в ходе которых были предложены две основные версии: предательство («золотые пули и порох») и нерешительность и малодушие коменданта крепости Кронштедта в сочетании с умелой психологической обработкой и пропагандистской кампанией, предпринятой русским командованием.
К первой версии больше склоняются шведские историки, разработавшие теорию «женского заговора» против Свеаборга. С ними солидарен современный российский исследователь А. Широкорад: «Свеаборг капитулировал… исход баталии решили не сталь и свинец, а золото. Каменский просто подкупил коменданта вице-адмирала Карла Улофа Кронстедта». Финские и русские дореволюционные историки, как правило, придерживаются второй версии. По мнению М. Бородкина, «дело было не в деньгах, не они побудили Кронштедта спустить шведский флаг… Дело в его слабости. Устрашенный превосходством Русского государства над Швецией, убитый духом после отступления шведской армии, он вообразил, что Финляндия навсегда потеряна… Упадок духа сгубил гарнизон крепости. Слабого закала оказался ее комендант, еще слабее были проникнуты сознанием долга его подчиненные».
К этой точке зрения близок финский историк X. Похьёлан-Пирхонен. По его мнению, Кронштедт «заранее считал, что оборонять Финляндию от превосходящей силы России дело безнадежное».
Советские историки объясняли успехи русских войск, в том числе и капитуляцию Свеаборга, не только их высокими качествами, но и пораженческими настроениями в шведской армии, состоявшей в основном из уроженцев Финляндии, и прорусскими симпатиями определенной части высших слоев последней.
Комендант крепости контр-адмирал Карл Улоф Кронштедт был известен как участник войны 1788-1790 гг., победитель в сражении при Свенскзунде (Руотсинсалми), которое считается одним из крупнейших морских сражений Швеции-Финляндии. Он пользовался расположением Густава III, но Густав IV сослал его из столицы в отдаленный Свеаборг, не принимая во внимание хотя бы того обстоятельства, что Кронштедт был морским, а не фортификационным офицером. Следует отметить, что одним из просчетов короля было то, что он превратил имевший столь важное стратегическое значение Свеаборг в своего рода место ссылки неугодных ему офицеров, что сыграло роковую роль весной 1808 г.
Русская армия перешла шведскую границу 9 февраля, и уже 18 февраля (2 марта) русские войска вошли в Хельсинки, а 20 февраля осадили Свеаборг. Русские понимали, что взять крепость штурмом невозможно и решили вести психологическую войну. При штабе руководившего осадой крепости генерала П. Сухтелена была создана особая группа во главе с Йораном Магнусом Спренгпортеном. В нее вошли также Густав Вильгельм Ладу, Карл Хенрик Клик и Юхан Самуель Хагельстрём. Им было поручено вести работу, направленную на ослабление боевого духа гарнизона Свеаборга и его воли к сопротивлению.
Стараясь убедить осажденных в том, что оборона крепости бессмысленна, так как скоро вся Финляндия окажется под властью России, они посылали в Свеаборг иностранные газеты с известиями об успехах русского оружия и распространяли слухи, деморализовавшие гарнизон, а также прокламации с обещаниями роспуска по домам и раздачи денежных пособий.
Но наиболее удачной акцией этой группы следует считать привлечение к сотрудничеству живших в Хельсинки жен офицеров свеаборгского гарнизона, из которых им удалось создать небольшую, но очень эффективную женскую «пятую колонну». Не случайно впоследствии король-изгнанник Густав IV Адольф говорил, что потеря Свеаборга была вызвана в числе прочих причин и действиями «старых баб». Наиболее активной среди них была Хелена Ройтершёльд. Ее муж капитан Карл Вильгельм Ройтершёльд был командиром батареи на острове Лилла Остер Свартё. Другой ключевой фигурой была одна из самых красивых и ярких свеаборгских дам жена начальника артиллерии майора Густава Йерне – Густава София (урожденная Розенборг). Местом их встреч с представителями штаба Сухтелена стал салон родственницы Йегергорна и Спренгпортена вдовы полковника Анны Густавы Врунов.
Сухтелен любезно «разрешил» (предложил) им писать своим мужьям и встречаться с ними у крепостных стен. 19 марта Хелена Ройтершёльд впервые встретилась со своим мужем на льду у крепости. За этой встречей последовали другие, во время которых ей удалось проникнуть в крепость и встретиться с другими офицерами и – что, возможно, еще более важно – с другими офицерскими женами. На одной из таких встреч она передала своему мужу предложение Сухтелена сдать Лилла Остер Свартё за 20000 золотых дукатов. На это предложение он не согласился, но вполне вероятно, что с подачи жены он вел в крепости агитацию в пользу России. Во всяком случае, генерал Буксгевден в письме императору Александру I называл его «надежным и полезным для империи человеком».
София Йерне не посещала крепость, но она писала своему мужу и подругам письма, в которых в черных красках описывала свое положение и положение других эвакуированных женщин, лишившихся своих кормильцев и живших под угрозой бомбардировок со стороны Свеаборга.
Письма в Свеаборг писали также Спренгпортен и Клик. Их адресатами были комендант Кронштедт и его заместитель полковник Фредрик Адольф Йегергорн, который, подобно многим другим офицерам, скептически относился к возможности обороны Свеаборга. Он убеждал адмирала в том, что крепость не продержится до мая, если не подоспеет помощь из Швеции. Сделать это не составило большого труда, поскольку Кронштедт сам весьма пессимистически оценивал ситуацию. Он считал, что Финляндия в Тильзите была подарена России, что нет возможности противостоять воле Бонапарта и что приведению в исполнение этого декрета не в силах помешать никакая человеческая власть. С самого начала военных действий он вел себя довольно пассивно: не выслал из крепости женщин и детей (в том числе и свою собственную семью), не вел разведки, не попытался выбить русских из Хельсинки и даже не выжег его предместий.
21 марта Сухтелен послал своего сына Пауля и советника Хагельстрёма на переговоры с Кронштедтом. Они предложили ему объявить Хельсинки нейтральной территорией, и к их удивлению Кронштедт легко согласился на это. Это был первый шаг к сдаче Свеаборга.
Следующим шагом стало подписанное 7 апреля соглашение о перемирии, по условиям которого Свеаборг и шведский береговой флот должны быть переданы русским, если до 3 мая из Швеции не подойдут на помощь осажденным по меньшей мере пять линейных кораблей.
1 мая некоторые офицеры предложили Кронштедту расторгнуть договор о перемирии и совершить вылазку. Но адмирал не согласился с их предложением, и 3 мая Свеаборг капитулировал. В тот же день из крепости по льду ушел первый полк, в последующие дни до материка добирались уже на лодках. Когда Кронштедт вышел попрощаться с уходящими войсками, ему никто не ответил. Слышались только проклятия солдатских жен и детей в адрес адмирала и военного совета. 6 мая Кронштедт вместе с семьей покинул крепость, 8 мая над крепостью был поднят русский флаг.
Адмирал оправдывал сдачу крепости тем, что крепостные сооружения сильные с моря, в зимнее время они были уязвимы с суши, тем, что в крепости было много гражданского населения и больных, в то время как офицеров и артиллерийской прислуги было мало, а также тем, что запасы пороха были ограничены.
Сам Кронштедт был убежден в том, что, открыв ворота крепости, он оказал услугу Финляндии, России и человечеству, не причинив особого вреда Швеции. Он даже был готов поехать Швецию, чтобы дать отчет о своих действиях. Тем не менее ему не удалось оправдаться перед современниками. Он окончил свои дни в Финляндии, «всеми забытый и презираемый соотечественниками». Несмотря на то, что ничто в его поведении ни до, ни после капитуляции не свидетельствовало о том, что он был сознательным предателем, больше столетия его имя передавалось из поколения в поколение как имя изменника, подкупленного русским золотом.
Свеаборг пал, и Швеция проиграла войну, но финны получили не только мир на выгодных условиях, но и автономию, ставшую первым шагом на пути формирования собственной государственности.
Литература:
Бородкин М.М. История Финляндии. Время императора Александра I. СПб., 1909; Широкорад А.Б. Северные войны России. М.; Минск, 2001; Луото Р., Талвитие Х., Висури П. Русско-шведская война 1808 – 1809. Хельсинки, 2009; Pohjolan-Pirhonen H. Kansakunnan historia. III. 1808-1855. Porvoo, 1973; Sandstrom A. Sveriges sista krig. Örebro, 1994; Lindqvist H. Historien om Sverige. När riket sprangdes och Bernadotte blevkung. 1998.
Союз 1812 года

Начиная войну с Россией, Наполеон рассчитывал на ее полную изоляцию. Но русской дипломатии удалось сорвать эти планы французского императора. Подписание Бухарестского договора с Турцией освободило для борьбы с Наполеоном всю Дунайскую армию, а заключение договора со Швецией позволило перебросить русские войска с северо-западной границы на запад.
В августе 1810 г. шведский сейм избрал наследником шведского престола маршала Франции Жана Батиста Бернадота, князя Понтекорво. Он не был ставленником Наполеона, но выбор пал на него, поскольку шведы после поражения в войне с Россией, в результате которой они лишились Финляндии, связывали надежды на реванш с Наполеоном и избранием Бернадота думали угодить императору. Между тем отношения между императором и его маршалом были далеко не безоблачными, эти два человека уже давно не терпели друг друга. Их взаимная неприязнь возникла во время Итальянской кампании, когда Наполеон понял, что Бернадот стремится к независимой карьере, а тот, в свою очередь, не мог верно определить расстояние между собственным талантом и гением Бонапарта.
Тем не менее Наполеон согласился с избранием Бернадота, считая, что в случае войны с Россией воспоминания о поражении и потере Финляндии сделают шведов более воинственными, чем избранный ею французский маршал, и более франкофильскими, чем ее король-француз.
Перед честолюбивым Бернадотом открывалась перспектива стать новым Густавом Адольфом, и для него было предпочтительнее стать повелителем этой маленькой северной страны, чем претерпевать на родине эволюцию из соратника Наполеона в его подданного. Поэтому он принял предложение шведского риксдага и 20 октября 1810 г. прибыл в Швецию, где был усыновлен бездетным королем Карлом XIII под именем Карла Юхана.
С первых дней перед наследным принцем встает проблема внешнеполитической ориентации. Свой внешнеполитический курс он должен был строить исходя из того, что франко-русские противоречия рано или поздно выльются в вооруженный конфликт. В этой ситуации ему было важно определить, к какой из сторон ему следует примкнуть. Что мог дать ему союз с Францией, если даже она выиграет войну с Россией? В лучшем случае – возвращение Финляндии и усиление зависимости от Франции. Союз с Россией мог дать ему Норвегию. Это выгоднее, поскольку этим был бы достигнут выход к океану и решена проблема безопасности западной границы. Александр в качестве врага был опаснее Наполеона, от которого Швецию отделяло море.
Не будучи шведом, Бернадот мог трезво взглянуть на проблему Финляндии; шведам же это мешала сделать оскорбленная национальная гордость. А между тем возвращение Финляндии служило бы вечным поводом для столкновений с Россией, ибо русский царь не мог бы спать спокойно, помня о том, что в любую минуту в Финском заливе может появиться шведский флот, как это было в 1790 г. Еще до отъезда из Парижа Бернадот склонялся к мысли, что лучший способ служить своей новой родине – это не поддаваться устремлениям партии реванша, считавшей его мстителем за позор и унижение, постигшие Швецию в последней войне с Россией. «Я знаю тернии этого положения, – говорил он. – Я избран небольшой партией, и не ради моих прекрасных глаз, а как вождь, с условием, которое обходят молчанием, – отвоевать Финляндию. Но начинать из-за этого войну было бы безумием, к которому я не приложу своих рук». Не случайно он сравнивал Финляндию с погубившей Геракла сорочкой, пропитанной кровью кентавра Несса. Итак, он решил искать компенсацию вместо реванша и взял курс на сближение с Россией.
Такой курс определялся также причинами экономического характера. Союз с Наполеоном и участие в континентальной блокаде пагубно отражались на экономике Швеции, находившейся в сильной зависимости от внешней торговли, которая создавала постоянный рынок для сбыта леса, железа и стали.
Определенную роль в изменении внешнеполитического курса Швеции сыграли личные отношения Бернадота с Наполеоном, который повел себя вызывающе по отношению к бывшему соратнику. Он лишил его доходов, полагавшихся ему не только как маршалу Франции, но и как князю Понтекорво. Он не считал его равным себе и не принял орден Серафима, посланный кронпринцем его новорожденному сыну.
Однако в шведском обществе господствовали франкофильские тенденции и реваншистские настроения. Поэтому Бернадот вынужден был некоторое время «по инерции» двигаться в сторону Франции или же лавировать между противоборствующими сторонами, стараясь не связать себя никакими обязательствами ни с одной из них. В конечном итоге его выбор зависел от отношения великих держав к его внешнеполитической программе, краеугольным камнем которой было присоединение Норвегии.
Наполеон не принял предложений Бернадота о заключении союза на условиях присоединения Норвегии к Швеции и посоветовал отстаивать интересы Швеции в другом месте, имея в виду Финляндию. Это заставило наследного принца искать сближения с Россией. В свою очередь, русская дипломатия внимательно наблюдала за происходившими в Швеции событиями. Русский военный агент полковник А.И. Чернышев в июле 1810 г. сообщал из Парижа, что Бернадот «чрезвычайно хорошо расположен к России и постоянно отзывается о ней очень похвально». Ему удалось расположить принца к себе, и тот «облагодетельствовал его, удостоив своим доверием». В ноябре Чернышев был послан со специальной миссией в Стокгольм. Официально ему было поручено поздравить кронпринца с избранием, но главная цель поездки состояла в том, чтобы выяснить его истинные намерения в отношении России.
В начале декабря Чернышев прибыл в Стокгольм, где был принят королем и трижды встречался с наследным принцем, который заявил ему о своем желании завязать тесную дружбу с российским императором и выразил огорчение в связи с тем, что Россия, в поддержке которой так нуждается Швеция, пытается заставить последнюю следовать интересам Франции и строго соблюдать континентальную блокаду. Принц также пожаловался Чернышеву на оскорбительные поступки Наполеона. В конце беседы он дал понять, что Швеция будет нейтральна, куда бы русский император ни двинул свои войска. Чернышев сообщил императору, что Бернадот – это «не слуга императора Наполеона, поскольку его заживо затронутое самолюбие сделало то, что он совершенно потерян для Франции. Наследный принц убежден, что собственные выгоды должны побуждать его искать поддержку и покровительство Вашего Величества, и не замедлит при малейшем знаке с Вашей стороны подчиниться тому, что Вы пожелаете».
Миссия Чернышева была первым успехом русской дипломатии в Швеции после Фридрихсгамского мира. Она положила начало русско-шведскому сближению. Тем не менее подписание договора следовало отложить до тех пор, пока Швеция не сделает окончательного выбора. Вскоре ей представилась возможность сделать его. В январе 1812 г. Шведская Померания была оккупирована французскими войсками. Эта акция Наполеона нанесла удар по профранцузским настроениям в шведском обществе и упрочила положение наследного принца как в Швеции, так и за ее пределами. Он не упустил возможности развернуть антифранцузскую кампанию в прессе и заявил, что подобные действия со стороны Наполеона позволяют Швеции занять нейтральное положение по отношению к Франции. Под его нажимом Карл XIII в феврале издал указ о нейтралитете Швеции и о допуске в ее порты судов всех стран. Фактически это означало отпадение Швеции от континентальной блокады и возобновление ее отношений с Англией.
6 февраля Александр I созвал специальное совещание, чтобы определить политику России в отношении Швеции. Среди присутствующих были министр иностранных дел Н.Л. Румянцев, военный министр М.Б. Барклай де Толли и член Государственного совета Г. X. Армфельт, доклад которого заслушали участники совещания. Было решено привлечь Швецию к борьбе с Францией, пообещав ей за это Норвегию, приобретение которой умиротворило бы шведское национальное чувство. Для переговоров о подписании оборонительного союза из Швеции в Петербург прибыл граф К. Левенъельм. Центральным вопросом переговоров был вопрос о Норвегии. Александр I не склонен был осуществлять присоединение Норвегии вооруженным путем, так как к Дании у него, по его словам, «не было никаких претензий». Кроме того, он считал, что присоединение Норвегии должно последовать за высадкой шведских войск в Германии. Карл Юхан же настаивал на том, что присоединение Норвегии должно стать не наградой, а предварительным условием участия Швеции в войне против Франции. В марте из Петербурга в Стокгольм был направлен генерал П.К. Сухтелен. С этого времени переговоры о союзе велись параллельно в обеих столицах.
24 марта (5 апреля) 1812 г. в Петербурге был подписан русско-шведский союзный договор, гарантировавший неприкосновенность владений двух государств. Отныне Россия могла не бояться нападения с севера. Договор стал первым камнем в фундаменте новой антинаполеоновской коалиции. Десятая статья предусматривала помощь России в присоединении Норвегии к Швеции путем мирных переговоров либо путем совместной военной экспедиции против Дании, после чего союзные войска предполагалось перебросить в Северную Германию для действий в тылу наполеоновских войск. Согласно шестнадцатой статье, шведский король взял на себя роль посредника в русско-турецких переговорах, которые закончились подписанием Бухарестского мирного договора. В июле после англо-русско-шведских переговоров были подписаны англо-шведский и англо-русский договоры, в результате чего Англия стала участником анти-французской коалиции, к которой позднее присоединились Пруссия и Австрия.
В августе 1812 г. Александр I и Бернадот встретились в Або (Турку), где с глазу на глаз обсуждали планы совместных действий против Франции. О содержании этих переговоров известно лишь то, что на них обсуждалась возможность переброски шведской армии в Россию при условии передачи Швеции в залог за Норвегию Финляндии или прибалтийских провинций России. По некоторым сведениям, на переговорах в Або обсуждался также вопрос о судьбе французского трона. При этом Александр якобы обещал поддержать Бернадота, если он захочет стать преемником Наполеона после его вероятного падения. 30 августа была подписана русско-шведская конвенция, подтвердившая союзный договор, расширившая его рамки и укрепившая позиции династии Бернадота на шведском троне.
Стремительное продвижение французских войск вглубь России не только снимало с повестки дня совместную военную операцию в Германии, но и грозило Бернадоту крушением всех его планов, связанных с Россией. Поэтому в трудное для российского императора время шведский кронпринц старался оказать ему моральную поддержку. Он убеждал Александра I в том, что в его распоряжении находятся огромные ресурсы, обученные и закаленные войска, что он борется за правое дело; советовал ему поддерживать в народе мысль о том, что французы будут разбиты, и приучать людей всех рангов и классов не верить в непобедимость Наполеона. Узнав о взятии Наполеоном Москвы, он писал Александру I, что это принесет французскому императору лишь мимолетную славу. Александр отвечал ему, что он полон решимости выстоять и предпочтет погибнуть под развалинами империи, чем вступить в сговор с современным Аттилой.
Петербургский договор не был действенным, поскольку цели договаривающихся сторон не совпадали: Швеция хотела обеспечить присоединение Норвегии и получить денежные субсидии, а Россия стремилась использовать Швецию в борьбе против Франции. Поэтому договор практически остался только на бумаге, и Швеция до весны 1813 г. с согласия России оставалась ее невоюющим союзником. Тем не менее союз 1812 г. означал поражение французской дипломатии в Швеции, срывал планы изоляции России. В этой связи Наполеон с раздражением и недоумением заметил: «Неслыханная вещь – две державы (Швеция и Турция. – Г. К.), которые должны потребовать все обратно у русских, являются их союзниками как раз тогда, когда представляется прекрасный случай вновь завоевать потерянное».
Если говорить о значении договора 1812 г., то следует отметить, что оно было больше морально-политическим, чем военным, ибо для России он означал срыв дипломатической изоляции, а для Швеции обеспечивал посредничество России в присоединении Норвегии. Этот договор подвел черту под многовековой историей войн и конфликтов между Россией и Швецией, стал фактором, надолго определившим не только отношения между ними, но и международное положение на севере Европы. Сближение с Россией способствовало становлению нейтралитета как основы шведской внешней политики.
Литература:
Россия и Швеция. Документы и материалы 1809-1818 гг. М., 1985; Al in О. Carl Johan och Sveriges yttre politik 1810-1815 // Historisk studie. Stockholm, 1889; Höjer T. Karl XIV Johan. Kronprinstiden. Stockholm, 1943; Вандаль Л. Наполеон и Александр I. Т. III. СПб., 1910, Ростов-н/Д, 1995; Звавич И.С. Союз между Россией и Швецией 1812 г. // Известия АН СССР. Серия «История и философия». 1944. Т. 1. № 1; Коваленко Г.М. Русско-шведcкий союз 1812 г. // Вопросы истории Европейского Севера. Петрозаводск, 1974; Рогинский В.В. Россия и Швеция: Союз 1812 г. М., 1978; Рогинский В. Маленький серебряный меч // Родина. 1997/10.