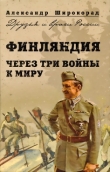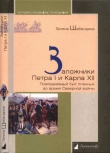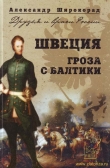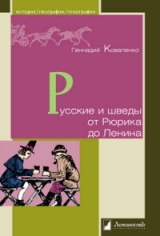
Текст книги "Русские и шведы от Рюрика до Ленина"
Автор книги: Геннадий Коваленко
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
Первый шведский кремленолог и норманист

Русская Смута начала XVII в. вызвала пристальный интерес в Европе и породила обширную литературу о России. Ее создателями были профессиональные военные, дипломаты, священнослужители, ученые и купцы из Германии (К. Буссов, М. Шаум), Франции (Ж. Маржерет, П. Делавиль), Англии (Г. Бреретон), Польши (С. Жолкевский, Н. Мархоцкий, С. Маскевич), Голландии (И. Масса, Э. Геркман), Швеции (П. Петрей, М. Ашаней, Ю. Видекинд).
В начале XVII в. в Московское государство для сбора политической информации несколько раз приезжал шведский дипломат Петр Петрей. В общей сложности он прожил здесь около четырех лет, за это время он установил тесные контакты с представителями разных слоев русского общества и, по всей вероятности, в какой-то степени овладел русским языком. Петрей стал очевидцем и «репортером» русской Смуты, которую описал в своих сочинениях «Реляция о России начала XVII в.»... и «История о Великом княжестве Московском». Известный специалист по истории русско-шведских отношений XVI – XVII вв. Кари Таркиайнен назвал его «первым шведским кремленологом».
Петр Петрей, известный также как Пер Перссон или Педер Педерссон, родился около 1570 г. в Упсале в семье ректора соборной школы. Он изучал естественные и гуманитарные науки в высшей школе Юхана III и Марбургском университете. Сразу после окончания университета он угодил в тюрьму за долги и был лишен отцом наследства. Несмотря на подмоченную репутацию, в конце 1593 г. он был принят в канцелярию герцога Карла и в 1600 г. поехал в Польшу в качестве личного посланника герцога. В 1601 г. он оказался в России, где находился до конца 1605 г. Как он попал туда – неизвестно, К. Таркиайнен предполагает, что Петрей мог поступить на службу к Борису Годунову.
Петрей попал в Россию в разгар Смуты. Находясь в непосредственной близости от царя, он стал свидетелем массового голода 1601 – 1603 гг. и вызванного им кризиса власти, а также появления и триумфального вступления Лжедмитрия в Москву, и его восшествия на престол.
Находясь в России, Петрей, по его собственным словам, «тщательно наблюдал и описывал их (русских. – Г. К.) веру и богослужебные обряды, правление, государственное устройство, также все их нравы, обычаи, занятия, ремесла и торговлю, военные способы, равно изобилие страны в хлебе, скоте, диких зверях, птицах и рыбах, прекрасные текущие по ней реки, ручьи и ключи, веселые леса и рощи с растущими в них разными деревьями, душистыми лугами и полями, населенные города и местечки, сильные крепости и укрепления, недавно миновавшие войны».
Вернувшись в Швецию, Петрей вновь поступил на службу к герцогу Карлу, ставшему к тому времени королем Карлом IX. По его поручению он пишет свое сочинение «Реляция о России начала XVII века», адресованное «всем верноподданным шведской короны». В нем он освещает события в России, начиная с правления Бориса Годунова, до воцарения Василия Шуйского. Приводя доказательства того, что Гришка Отрепьев не мог быть «природным» сыном царя, он вносит свою лепту в международный спор о личности Лжедмитрия I. При этом он разоблачает козни Сигизмунда против России и Швеции. Эта небольшая книга Петрея, изданная в 1608 г., подготовила почву для шведского вооруженного вмешательства в русские дела.
В 1615 г. в Швеции, а в 1622 г. на немецком языке в Лейпциге вышло основанное не только на личных впечатлениях, но и на русских и иностранных источниках главное сочинение Петрея «История о великом княжестве Московском, происхождении великих русских князей, недавних смутах, произведенных там тремя Лжедмитриями, и о московских законах, нравах, правлении, вере и обрядах», которое стало первым историко-политическим сочинением о Московии на шведском языке. Оно насчитывает более 500 страниц и состоит из шести книг, в которых рассказывается о географическом положении Московского государства, его истории от Рюрика до Михаила Федоровича, царском дворе, военном деле, обычаях, повседневной жизни, праздниках и религии русского народа.
Важное место в «Истории» занимает Великий Новгород, к которому шведы традиционно проявляли особый интерес. Петрей описал его былое величие и современное состояние, особо отметив, что в старину Новгород был «особым государством, имел своих князей и правителей. Он подробно освещает действия шведских войск под командованием Якоба Делагарди в Новгородской земле, переговоры шведов с новгородскими властями о приглашении на русский престол шведского принца Карла Филиппа. Стремясь обосновать его права на московский престол, Петрей сообщил о варяжском происхождении Рюрика.
По мнению финляндского исследователя Арто Латвакангаса, «норманистское толкование Петрея было еще довольно робким и не стало отчетливым «измом»«. Тем не менее российский историк В.В. Фомин недавно назвал его родоначальником норманской теории. Следует отметить, что в конечном итоге в своих «норманистских» построениях Петрей исходил из тезиса о варяжских корнях династии Рюриковичей, впервые сформулированного новгородцами в приговоре посольству архимандрита Никандра, отправленного в Стокгольм в декабре 1611 г.
В качестве эксперта по русским делам Петрей пользовался особым доверием короля, летом 1607 г. он был послан к занявшему московский престол Василию Шуйскому с предложением заключить союз против Польши.
В апреле 1608 г. он вернулся в Стокгольм с отрицательным ответом. Вскоре король отправил его с новым посланием к царю, но на этот раз граница была закрыта, и Петрей не смог проехать дальше Нарвы.
В 1609 г. он в сопровождении переводчика Карла Хенрикссона вновь едет в Россию, на этот раз со шведским вспомогательным корпусом Делагарди, с которым весной 1610 г. он добрался до Москвы. В 1611 – 1614 гг. он курсирует между Ивангородом, Нарвой, Новгородом и Стокгольмом. Весной 1611 г. Карл IX направил его в Ивангород для сбора сведений об объявившемся там Лжедмитрии, обратившемся за помощью к шведскому королю. Однако самозванец уклонился от встречи с посланцем короля, так как тот видел его предшественника и мог разоблачить авантюриста. В 1612 г. Петрей едет из Новгорода в Стокгольм, где встречается с королем Густавом II Адольфом и канцлером Акселем Оксеншерной и информирует их о событиях в России.
В 1614 г. Петрей возвращается в Швецию и в 1615 – 1618 гг. выполняет ответственные дипломатические поручения в Любеке, Гамбурге, Данциге, Нидерландах и Англии. Осенью 1622 г. он скончался в Стокгольме от чумы.
Литература:
Реляция Петра Петрея о России начала XVII в. //Смута в Московском государстве. М., 1989; Петрей П. История о великом княжестве Московском // О начале войн и смут в Московии. М., 1997; Лимонов Ю.А. «История о великом княжестве Московском» Петра Петрея // Скандинавский сборник. XII. Таллин, 1967; Лимонов Ю.А. Сочинение шведского историографа начала XVII в. Петра Петрея о России // Скандинавские чтения. 2. СПб., 1999; Фомин В.В. Варяги и варяжская Русь. М.,2005; Tarkiainen К. Petrus Petrejus som skildare av Ryssland // Lychnos. 1973; Tarkiainen K. Petrus Petrejus – Sveriges första kremlelog // Stora oredans Ryssland. Petrus Petrejus ogonvittnesskuldring från 1608. Oskarhamn, 1997.
Второе призвание варягов

Шведское военное присутствие в России в начале XVII в. – уникальное явление в истории допетровской Руси. Почти восемь лет иностранные войска находились на ее территории, принимая активное участие во внутриполитической борьбе. Нарушив традиционную замкнутость русского общества, они принесли сюда свой жизненный уклад, свои обычаи, свой язык. Народная память запечатлела шведское военное присутствие как «немецкое разорение», и еще долго новгородцы вспоминали о том, как «свейские немцы через (несмотря на. – Г. К.) мирный договор взяли Великий Новгород и новгородские пригороды… а православные христиане всяких чинов люди (были) побиты и посечены, и позжены, и жены и дети осквернены и за море в немецкие земли вывезены». В советской историографии действия шведских войск в России оценивались как интервенция. В течение длительного времени бытовал также лишенный смысла термин «польско-шведская интервенция». Современная российская историография отказалась от этого термина, но не нашла ему замены.
Характер шведского военного присутствия в России менялся в зависимости от внутриполитической ситуации. Шведы пришли в Россию как союзники в соответствии с условиями Выборгского договора 1609 г. для оказания помощи правительству Василия Шуйского. Войсками командовал внук Юхана III Якоб Делагарди, прошедший школу военного искусства в войне с Польшей и в армии Морица Оранского в Голландии.
В конце марта 1609 г. с войском в 10 – 12 тысяч человек, в составе которого были шведы, финны, англичане, шотландцы, немцы, французы, он подошел к Новгороду. Здесь он встретился с племянником царя молодым и талантливым военачальником Михаилом Скопиным-Шуйским. В мае начался их совместный поход к Москве, в ходе которого были освобождены Старая Русса, Торопец, Торжок, Порхов, Осташков. Состоявшая из профессионалов армия Делагарди обладала высокими боевыми качествами, но ее моральные качества были невысоки. Ее пребывание в России было ознаменовано не только победами и поражениями, но и неповиновением, и массовым дезертирством, и переходами на сторону противника. Делагарди было нелегко поддерживать порядок и дисциплину в разноплеменном войске наемников, которые воевали до тех пор, пока им исправно платили, и нередко компенсировали задержки жалования грабежами и поборами.
В то же время следует отметить, что профессиональный опыт наемников был использован в попытке проведения военной реформы – введения нидерландской военной системы в России. Рассчитывая более эффективно использовать русских ополченцев, которые, по словам шведского историка XVII в. В.Ю. Видекинда, «более годились для того, чтобы ходить за плугом, а не носить пику», Делагарди выступил с инициативой реформирования русской армии. Он говорил Скопину, что «надобно их войско обучить прежде, нежели оно что-либо предпринять сможет». Скопин-Шуйский принял предложение Делагарди и попытался внедрить в русском войске сильные стороны голландской военной системы. Важную роль в освоении русскими ратными людьми военного опыта Нидерландов сыграл ветеран войны в Испании Кристер Зомме (Христиерн Сомме). Он обучал русских ратников военному искусству по нидерландскому образцу: соблюдать боевой порядок на марше и в строю, боевым порядкам, правильному обращению с копьями, мечами и дротиками, строительству и штурму полевых укреплений. Скопин высоко оценил работу Сомме, отметив, что «без Христиерна ему едва ли удалось бы удержать в повиновении множество необученных людей, ежедневно стекавшихся к нему из Ярославля, Костромы и Поморья».
В начале 1610 г. к Делагарди присоединился посланный из Швеции отряд в 1200 человек под командованием Хенрика Вильдемана, после чего он нанес поражение Сапеге под Дмитровым и двинулся на Москву. 12 марта он вместе со Скопиным-Шуйским торжественно вошел в столицу. Однако польская угроза не была устранена: от западной границы к Москве шло войско гетмана Жолкевского, и правительство Василия Шуйского вступило в переговоры с Делагарди о продолжении борьбы с поляками. Договорившись о выплате жалования наемникам, Делагарди выступил из столицы на соединение с армией Дмитрия Шуйского, стоявшего под Можайском. Здесь к ним присоединился Эверт Горн, под командованием которого было около 3000 наемников, прибывших в Выборг из Швеции. Потерпев поражение под Клушиным, Делагарди с небольшим отрядом ушел в Выборг, где комплектовал войско и откуда руководил военными операциями по взятию Ладоги и Корелы, перешедших на сторону Тушинского вора.
Летом 1611 г. Делагарди подошел к Новгороду, встал лагерем у Хутынского монастыря и вступил в переговоры с представителем Первого ополчения Василием Бутурлиным. После того как переговоры зашли в тупик, он взял Новгород штурмом и заставил новгородские власти подписать с ним договор. С этого времени он фактически возглавил управление Новгородом и Новгородскими землями, где установился оккупационный режим, который, по мнению современного исследователя А. Селина, был основан на компромиссе между шведами и той частью новгородцев, которые предпочли оккупацию анархии. Возглавивший шведскую военную администрацию Делагарди, понимая, что удержать территорию гораздо труднее, чем завоевать ее, стремился расположить к себе местное население. Неизвестно, читал ли он «Государя» Н. Макиавелли, который рекомендовал завоевателю «сохранить прежние законы и подати», но его поступки вполне соответствовали рекомендациям итальянского мыслителя. Он поселился в Новгороде, выучил русский язык и осуществлял управление оккупированной территорией на основании русских законов, опираясь на русскую администрацию. Фискальная практика шведской администрации опиралась на русские традиции.
В условиях распада государства и гражданской войны Новгород нашел в себе силы для самоорганизации и начал восстанавливать, казалось бы, давно забытые республиканские порядки. Говоря о реставрации республиканских порядков, исследователи, прежде всего, обращают внимание на институт пятиконецких старост. Их деятельность в это время заметно активизируется. В 1614 г. в ответ на требования Густава Адольфа принести присягу Шведской короне по предложению воеводы они провели в Новгороде своего рода референдум. Старосты прошли по улицам и задали жителям один вопрос: хотят ли они целовать крест Густаву Адольфу или хотят сохранить верность Карлу Филиппу. Естественно, что на сформулированный таким образом вопрос новгородцы ответили, что они хотят остаться верными прежней присяге. После этого Исидор и Одоевский просили короля не принуждать новгородцев к присяге, поскольку они «по своему крестному целованью» держатся Карла Филиппа и хотят ему верно служить. Важным моментом в истории Новгорода периода Смуты было также возрождение вечевых традиций в форме вечевых собраний. Так в одном из шведских источников говорится о присутствии Делагарди на тинге в Новгороде.
От имени новгородских сословий был заключен договор 1611 года. Тогда «утвержденную запись» дали «Исидор митрополит и архимариты (так в документе. – Г. К.), и игумены, и дети боярские, и гости, и пятиконецкие старосты, и всякие торговые и жилецкие люди». Декабрьский приговор о посольстве в Швецию также был составлен при участии дворян, дьяков, детей боярских, голов казачьих и стрелецких, пятиконецких старост и посадских людей, приложивших к нему свои руки. Можно предположить, что все они принимали участие в обсуждении приговора. В дальнейшем многие важнейшие вопросы решались с участием дьяков, дворян, гостей, пятиконецких старост и всяких чинов людей.
Несмотря на всю сложность ситуации, Новгород в Смуту в известном смысле был островком относительной стабильности, основным фактором и в то же время признаком которой была четкая работа административного аппарата и его служб – приказной избы, таможни, судной избы, монетного двора, кабаков, общественной бани. Была даже ферма по разведению лебедей. Шведская исследовательница Хагар Сюндберг считает, что «эффективная гражданская администрация действовала до конца оккупации. Сделки и купчие составлялись профессиональными городскими подьячими, приходо-расходные книги велись в различных учреждениях, и толковые дьяки продолжали работать в приказах».
Отношения новгородцев со шведами складывались не просто. Сохранились многочисленные челобитные, в которых горожане жаловались на плохое обращение шведских солдат, крестьяне – на высокие налоги и конфискации; требовали компенсацию за поврежденную или утраченную собственность. Были конфликты со шведами и на бытовой почве, хотя источники фиксируют их крайне редко. Известно, например, что в кабаке на Рогатице шведские солдаты разбили кувшин о голову целовальника. А вот конфликты на религиозной почве не зафиксированы вообще.
Известно, что в годы оккупации многие представители новгородской элиты служили шведским властям или сотрудничали с ними. Как отметил современный шведский исследователь Александр Пересветов-Мурат, «решение служить шведам могло быть вызвано несколькими мотивами: принуждение, оппортунизм и самая простая алчность, но также и убеждение… Вопрос этот очень сложный ввиду того, что в дискуссии слишком легко исходить из поздних постромантических концепций о родине и национальности и из представлений о старой Руси как об исконно однородном государстве с закономерной «конечной станцией» – Москвой. К этому надо добавить трудность четко различать службу Новгородскому государству при шведском режиме и службу шведскому королю. Шведские военачальники уговаривали влиятельных новгородцев перейти невидимую грань между той и другой». Отметим, что таких были считаные единицы (Федор Аминов, Никита Калитин, Михаил Клементьев, Мурат Пересветов).
Служивших шведам или сотрудничавших с ними новгородцев часто характеризуют как предателей или, в лучшем случае, «шведскую партию». Между тем это была скорее партия порядка или партия власти. До тех пор, пока шведские власти в Новгороде не перешли к политике присоединения Новгородских земель к Шведской короне, их интересы совпадали. Поэтому на этом этапе сотрудничество со шведами вряд ли можно поставить им в вину. За исключением нескольких человек, перешедших на шведскую службу, никто из них не присягнул шведской короне.
В июне 1611 г. Совет ополчения принял решение о возможности избрания одного из сыновей Карла IX русским царем: «все чины Московского государства признали старшего сына короля Карла IX… достойным избрания великим князем и государем московитских земель». После смерти Карла IX речь могла идти о младшем брате Густава II Адольфа Карле Филиппе. По мнению шведского историка Бенгта Янгфельдта, осуществление этого решения «изменило бы не только карту, но и историю Европы». Делагарди принял активное участие в его реализации. Он хотел добиться избрания на российский престол шведского принца Карла Филиппа и стать создателем новой правящей династии в России[11]11
Это был не первый опыт его участия в большой политике. Во время своего пребывания в Голландии в 1606 – 1608 гг. он пытался содействовать заключению брака между принцем Морицем Оранским и шведской принцессой Анной.
[Закрыть]. В этом плане его интересы совпадали с интересами тех новгородцев, которые надеялись в лице Карла Филиппа обрести не только твердую власть, но и гарантию от территориальных притязаний со стороны Густава II Адольфа.
Поддержав кандидатуру Карла Филиппа, Новгород стал альтернативой Москве, призвавшей на российский престол королевича Владислава. Свой выбор новгородцы объясняли этническим родством их кандидата с пресекшейся династией. В этой связи Г.А. Замятин заметил, что «в вопросе о происхождении первых русских князей новгородцы были, выражаясь языком XIX в., норманистами».
В этом есть прямая аналогия с ситуацией середины X в., описанной И.Н. Данилевским: «Необходимость призвания иноплеменника в качестве главы государства – насущная необходимость, возникающая, прежде всего, в условиях межплеменного общения, доросшего до осознания общих интересов. При решении сложных вопросов, затрагивающих интересы всего сообщества в целом, вечевой порядок был чреват серьезными межплеменными конфликтами. Многое зависело от того, представитель какого племени станет руководить народным собранием. В такой ситуации предпочтительнее было обратиться за помощью к иноплеменникам. Приглашенные правители играли роль третейского судьи, который в силу своей нейтральности мог сгладить противоречия и быть полезен для поддержания единства».
Однако династические планы Делагарди противоречили территориальным планам Густава II Адольфа и не встретили одобрения в Стокгольме. Молодой король решил взять бразды правления в оккупированных Новгородских землях в свои руки, поэтому он медлил с решением этого вопроса и задерживал отъезд Карла Филиппа на переговоры. Когда он, наконец, отпустил его на переговоры с новгородцами в Выборг, время было упущено. Делагарди на эти переговоры не поехал, так как уже не верил в их успех. Он склонялся к миру с Россией и советовал королю начать переговоры с Москвой. Не случайно по приезде в Москву в 1615 г. новгородский архимандрит Киприан говорил, что к миру «снисходительнее всех Яков Пунтусов» (Делагарди. – Г. К.). Делагарди не проявлял особого усердия в том, чтобы привести новгородцев к присяге шведскому королю, на чем последний настаивал. Вопреки воле короля он не вывез из Новгорода бронзовые врата Софийского собора, которые, как полагал Густав Адольф, когда-то были взяты новгородцами в Сигтуне.
Хорошо знавший ситуацию в России, Делагарди принял участие в русско-шведских переговорах 1616-1617 гг. и поставил свою подпись под Столбовским договором, по условиям которого его войска оставили Новгород в марте 1617 г. Среди трофеев, вывезенных им из России, был так называемый Новгородский оккупационный архив – материалы делопроизводства Новгородской приказной избы за время шведской оккупации. Сегодня он хранится в Государственном архиве Швеции и содержит более 30000 листов, являясь крупнейшим собранием документов по русской дореволюционной истории в зарубежных архивах.
Литература:
Видекинд Ю. История шведско-московитской войны XVII века. М., 2000; Almquist H. Sverge och Ryssland. 1585-1611. Uppsala, 1907; Sveriges krig. 1611-1632. Bd. I. Stockholm, 1936; Zeeh E. Jacob de la Gardies Anabasis i Ryssland // Landstormsmannen. № 23. 1940; Замятин Г.А. Россия и Швеция в начале XVII века. СПб., 2008; Коваленко Г.М. Договор между Новгородом и Швецией 1611 г. //Вопросы истории. 1988/11; Кобзарева Е.И. Шведская оккупация Новгорода в период Смуты XVII века. М., 2005; Селин Л.А. Новгородское общество в эпоху Смуты. СПб., 2008; Селин А.А. Новгородские судьбы Смутного времени. Великий Новгород, 2009.