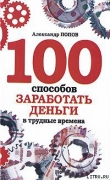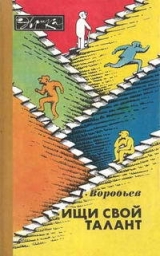
Текст книги "Ищи свой талант"
Автор книги: Геннадий Воробьев
Жанр:
Психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Поступление в высшее учебное заведение все равно что перейти из одного здания в другое – без экзаменов, но с испытанием способностей, которое начинается простым собеседованием: «Что вы знаете о своей будущей специальности, что вам больше всего в ней нравится?» Потому что сегодня 29 процентов юношей и 33 процента девушек, поступающих в вузы, не имеют никакого представления о будущей профессии.
Если поступающий – рабочий, не пожелавший продолжать учебу в вечернее время, его подвергнут экзамену и выявленные пробелы «заштопают» на подготовительных курсах. Необходимость «штопки» возникнет также, если по какой-нибудь специальности начальное образование не стыкуется со средним, как это случилось сейчас, когда больше стали подавать заявления в гуманитарные вузы, а легче набирающие проходной балл в технические вузы обнаруживают недостаточные знания по физике и математике.
На II ступени продолжают изучение общеобразовательных предметов. В это время завершается профориентация, и в это время можно почти безболезненно поменять учебное заведение, потому что общеобразовательная программа в общем везде одна и та же. Сейчас, когда такой профориентации нет, самое большое число разочарованных учится в торговых, сельскохозяйственных и педагогических вузах (наименьшее число – в музыкально-педагогических и медицинских).
После легкого, почти символического, экзамена переходят на III ступень – полного среднего образования. Здесь дороги расходятся: одни продолжают путь к высшему образованию и после трудного экзамена переходят на IV ступень, другие получают профессиональное среднее образование и становятся медицинскими сестрами, лаборантами, операторами. Среднее профессиональное образование может получить и рабочий в системе вечернего или заочного обучения. С этим образованием без отрыва от работы можно также учиться дальше. Провалившийся после трудного экзамена на IV ступень возвращается на III ступень для получения среднего профессионального образования.
На IV ступени применяется индивидуально-групповой метод обучения; каждый студент с помощью специалиста по микропрофессиональной ориентации составляет индивидуальный план занятий, включив в него «интересные» и «необходимые» предметы с точки зрения приложения способностей и конечной цели. Изучающие один предмет уподобляются пассажирам поезда, сходящим на разных станциях и пересаживающимся на другие поезда. При этом преподаватели кафедр, если хотите,– поездные и станционные бригады: они разрабатывают учебные программы, компонуют учебные группы, обучают, ставят зачеты и принимают экзамены. Изучение общеобразовательных предметов в это время практически заканчивается, и широкая специализация дополняется узкой.
Окончание IV ступени означает сдачу экзаменов по всем включенным в индивидуальный план предметам. Когда будет сдан последний экзамен, автоматически выдается диплом о неполном высшем образовании. Получившие диплом могут работать санитарными врачами, врачами-социологами, социологами-интервьюерами, педагогами средней школы, мастерами.
V ступень: мелкогрупповое обучение по специальным дисциплинам. Упор делается на лабораторные, семинарские и домашние занятия. В итоге пишется и защищается дипломная работа. Так выходят в свет лечащие врачи, ответственные инженеры, преподаватели высшей школы и преподаватели-методисты средней школы.
Сверхвысшее образование охватывает не все, а некоторые области работы особой сложности и высокой ответственности: науку, медицину, право, административное руководство. Учеба здесь еще в большей степени носит самостоятельный характер с использованием активных методов обучения, например деловых игр, и завершается защитой диссертации.
Сохранится ли практика традиционных экзаменов, отмены которых все настойчивее добиваются не только студенты, но и преподаватели? Нет, не сохранится. Но будут экзамены нового типа, в этом помогут кибернетические идеи и автоматика.
«Когда же точно будет все это и будет ли в действительности?» – спрашивают после лекции студенты. Когда будет – уже сказано: в начале XXI века (точно никто не знает). Будет ли все именно так? Нет, конечно.
Потому что наука не стоит на месте, и научные рекомендации и прогнозы постоянно дополняются и изменяются. Но сейчас все это представляется именно таким, и в элементах уже реализовано в ФРГ, СССР, Австралии.
Важны общие тенденции. Неуклонно повышаются требуемые уровни профессиональной культуры и профессионального мастерства. Среднее образование уже стало «землей», по которой должны ходить все, и с этой «земли» поднимается образовательная лестница. Формируется новый рабочий класс с неполным высшим образованием. Сверхвысшее образование переходит из науки в практику. Не противопоставляются друг другу отдельные уровни образования, и каждый может учиться в дневное или вечернее время, поднимаясь по ступеням одной лестницы, останавливаясь и продолжая подъем.
Люди часто хотят того, чего трудно достичь. Поступают в институт нередко потому, что это «престижно», и исключение из института воспринимают как крушение жизненных планов. Возможность возобновить и продолжать учебу, сидя на любой ступеньке образовательной лестницы, которая не делит всех на образованных и необразованных, а объединяет всех, сознание, что стоит лишь пошевелить пальцем – и ты снова будешь подниматься вверх, позволит многим пальцем не шевелить и не чувствовать себя (в образовательном отношении) униженными и оскорбленными.
Что касается государства, то оно незаметно управляет этим подъемом с помощью экзаменационных барьеров, обеспечивая нужды народного хозяйства в кадрах всех уровней квалификации.
Хотели бы вы учиться в XXI веке?
СТАРОСТЬ: КОГДА НЕ НАДО УЧИТЬСЯМы свернули с дороги, по которой в 1156 году проезжал с большой свитой на княжение в Киев Юрий Долгорукий и заложил крепость Москву.
– Понравилась ли вам лекция?
– Да, но почему он так нелестно отозвался о редакторах? «Недоучившиеся филологи»! Это он нарочно? Ведь добрая половина там были редакторы.
– Не думаю. Откуда профессор мог знать, что придут повышающие квалификацию редакторы?
– Воображаю, если другую половину, то есть нас, он назвал бы «недоучившимися».
– И что бы вы сделали?
– Обиделся.
– Можете обижаться. Вы тоже «недоучившиеся», только в другом смысле.
Теперь мы шли по подземному переходу, обгоняя иностранцев, к зданию, б котором столько этажей, что никто не удосужился их пересчитать, но в самый последний момент повернули и вошли в скромный пятиэтажный дом, где парадный вход и колонны в вестибюле выражали скромную попытку нарушить стандартный проект.
– Сказать вам по секрету, почему возникла научная информация как научная дисциплина? По недоразумению. Из-за крайнего консерватизма библиотечных работников. Они последние встретили научно-техническую революцию и узнали об информационном кризисе. Тогда как все, чем занимаются сейчас информационные работники, давным-давно записано в уставе библиотекарей. Вот и оказалось, что легче открыть новую дисциплину, чем заставить библиотекарей заниматься своими прямыми обязанностями.
На нижних этажах здесь учатся, а на верхних живут. Это ближний север Москвы. А в таком же, но более роскошном и более многоэтажном учебно-гостиничном комплексе крайнего севера учатся и живут специалисты другого ведомства. Сравнивая два дома, ощущаешь разницу, которая существует между ведомствами.

– Вы хотите сказать, что мы мало эрудированы?
– Может быть, вы эрудированы вполне достаточно, но узкоспециализированы и мало интересуетесь тем, что делается под боком. Вам нужно не только сохранять и повышать квалификацию, но и расширять кругозор, а делать это значительно труднее. Сейчас мы возобновим занятия, и я смогу убедиться в своей правоте, заглядывая вам в глаза и читая ваши мысли.
Прошло «доброе старое время», когда специалист, получив знания в вузе, был уверен, что знаний хватит ему на всю жизнь. Сейчас такой уверенности нет. На наших глазах выросла, расширилась и укрепилась система всеобщей учебы, получившая красивое наименование «повышение квалификации». Красивое, потому что, кроме повышения, нужно еще квалификацию сохранять и расширять свой кругозор, чтобы в случае чего переквалифицироваться.
До войны считалось, что только учителя и врачи должны постоянно учиться, и они учились в своих институтах усовершенствования. Сейчас в систему «перманентной» учебы практически вовлечены все.
Свой третий психический удар (после рождения и поступления в школу) человек получает, начав трудовую деятельность: возможность испытать себя, первая зарплата, чувство независимости и социальной ответственности. После болезни «страха перед горой» еще долго сохраняются остаточные явления, словно осложнение после гриппа: боязнь сложности, ответственности и нередко отказ от работы, требующей риска, решительности и творческой инициативы.
Британская печать обратила внимание на это странное явление: выпускники не желают занимать свободные места, где требуются инициатива и ответственность, где деятельность направлена на создание новых процессов и продуктов, расширение производства и в конечном итоге создание новых рабочих мест. Куда же идут робкие выпускники в Англии?
В частный сектор промышленности, кое-кто в административное управление и торговлю (число таких медленно, но верно растет) и ни в коем случае в сферу образования. Уже много лет ощущается острая нехватка кадров администраторов, электротехников, электронщиков, требующих особой подготовки.
Этот сложный процесс первого поступления на работу, где нужно отвечать предъявляемым требованиям, быть удовлетворенным и уметь адаптироваться к новой обстановке, требует общественного и научного внимания.
В некоторых странах кадровые службы крупных предприятий открывают свои постоянные представительства в вузах, чтобы ближе познакомиться со студентами, выбрать и пригласить потом на день открытых, дверей предприятия. Эта поездка очень напоминает туристическую, где мастерски сочетается, полезное с приятным, с той лишь разницей, что осмотр основных объектов и знакомство с технологией носят более обстоятельный характер и студенты нет-нет да и ловят на себе пристальный любопытный взгляд: «Ну, что там за гуси, какая пошла сейчас молодежь, с кем завтра работать рядом, а послезавтра передать бразды правления».

В условиях престижности одних профессий и увлекательности других не так-то легко, библиотекам подобрать себе хорошие кадры, тем более что, какими должны быть эти кадры, никто толком не знает. Первые модели профессиограмм библиотекарей уже существуют в Москве и в Риге, но сделали их информационные работники, а библиотечная общественность вообще не ведает, что такое профессиограмма, как она делается и как ее применять.
Библиотечные институты стали факультетами институтов культуры, но студенты по-прежнему получают основательную подготовку в области каталогизации и библиотечных классификаций. Беда заключается в том, что учат их тому же, что двадцать и пятьдесят лет назад, внушая очень актуальную в период ликвидации неграмотности идею просветительства.
Незаметно профессия библиотекаря стала чисто женской, приходят сюда случайные люди, часто отказавшись от попытки поступить в более привлекательные вузы, но потом приспосабливаются, многие уходят, а оставшиеся обнаруживают вполне определенные профессиональные черты.
Здесь, на ближнем севере Москвы, я познакомился одновременно с двумя большими группами библиотечных работников – из Черноземья и с Дальнего Востока; в одной – только женщины, в другой – один мужчина. Но как разнятся эти две группы! Их объединяют только состояние возбужденности и стресса, волевые усилия, доминирующие над желанием заслужить похвалу и еще более над интересом к работе.
Черноземники пессимисты, сентиментальны, страдают от недостатка внимания, раздражительны, ищут и покоя, и наслаждений, и романтики отношений, в действиях неуверенны, но аккуратны и методичны. Дальневосточники увлекаются, получают удовольствие от своих действий, чувствуют себя в изоляции, нетерпеливы и требовательны, хотят быть признанными, независимыми и жить полной жизнью, действия их живые, граничащие с неистовостью. Какой из двух портретов ближе к «настоящим» библиотечным работникам? Первый, потому что перед этим проходили учебу библиотекари Поволжья и Урала, очень похожие на черноземников.
В сущности, всякий закон консервативен: победив старое, утвердив новое, он сопротивляется еще более новому. Чтобы заменить один закон другим, надо предпринять «антизаконные» действия, противоречащие старому закону. Поэтому установление закона никогда не проходит гладко, очень хочется поддаться искушению подождать, потерпеть – ведь старый закон не так уж плох. Но за горизонтом завтрашнего дня ждет своей очереди послезавтрашний закон и волнуется. Такова диалектика законодательства.
Положение о молодом специалисте – пример того, когда опережение времени и отставание одинаково плохо для закона. Как до недавнего времени соблюдался этот закон? Зачастую чисто формально: пока специалист «молодой», он не может уволиться, а администрация не может его уволить. Сейчас молодых специалистов учат, наставляют и затем торжественно снимают с них ярлык «молодых».
Не надо фетишизировать факт выдачи диплома: вот еще вчера человек был бесправным студентом, а сегодня стал полноправным специалистом. Чудес на свете не бывает. Статут молодого специалиста – тот переходный этап, когда человек уже перестал быть студентом, но еще не стал специалистом и ему нужно пройти процесс доучивания в практических условиях.
Психологи говорят, что любовь к учебе прививает не средняя и не высшая школа, а первые несколько лет практической деятельности. Но для этого необходимо одно условие: некоторое несоответствие работника по знаниям первому рабочему месту.
Из статута молодого специалиста ведут две дороги в профессиональную жизнь. Одна – к узкому специалисту: атрофия чувства нового, интереса к тому, что делается у других, пассивность в обмене опытом, нежелание учиться, переучиваться и менять специальность – такие люди к 40—45 годам становятся ярыми консерваторами, работоспособность их уменьшается, и общество ничего не потеряет, если отправит их поскорее на пенсию.
Вторая дорога ведет к Т-специалисту, сочетающему широкий кругозор и узкую специализацию, которая благодаря кругозору легко меняется на другую узкую специализацию,– такие люди в интеллектуальном отношении активны, по крайней мере, до 60 лет.
Как стать узким специалистом? Для этого нужно закончить специализированный вуз, получить узкую специальность, прийти на работу по этой узкой специальности, вообразить, что ты все уже знаешь, получить признание, удовлетворить желание, оставшись здесь работать до конца своей жизни.
Как стать Т-специалистом? Окончить университет, то есть получить широкую профессиональную подготовку. Но можно окончить специализированный вуз и получить узкую специальность – тогда на работу нужно прийти по другой узкой специальности, чтобы пережить трудности, припадки неверия в свои силы, обидные реплики «Тоже мне специалист!». Через все это требуется пройти, «побарахтаться», приспособиться, доучиться и потом стать новатором, экспериментатором, любознательным. И еще время от времени менять место работы – не очень часто и не очень редко. Это особенно важно для стремительно растущего специалиста, которого всегда будут недооценивать те, кто знал его раньше. Еще древние говорили: «Нет пророка без чести, разве что в отечестве своем и в доме своем».
Прошли установленные законом годы. Молодой специалист превратился в зрелого (вот когда надо выдавать аттестат зрелости!). Что дальше? Дальше предстоит учеба, каждодневная, «перманентная», до конца. А конец наступит, когда всех пошлют учиться, а вас «забудут». Делайте тогда вывод: старость – когда не надо учиться».
Вспоминается сказка. На скотном дворе жили завистливый осел, умные волы и самонадеянный поросенок. Осел очень завидовал: живет впроголодь, работает целый день, а поросенок ничего не делает, только ест, и все – хозяева, гости хозяев – не могут им нарадоваться, не обращая на осла никакого внимания. Но вот настал день, который предсказывали волы и чему не верил поросенок, превратившийся в упитанную свинью: день, когда ей не дали есть. «Как, меня забыли, я не привыкла к такому обращению, я не могу без еды!» – визжала свинья. А на следующий день она превратилась в окорока и колбасы, висящие высоко под потолком.
Четко представляю себе вывеску на здании: «Институт сохранения квалификации». Но такой вывески нет, потому что лучше звучит «повышения квалификации» – так оптимистичнее. Однако сохранение – одно, повышение – совсем другое, и в современных условиях первое более важно, чем второе.
Управленческие работники шутят: они сравнивают современного специалиста с пловцом. Что делает человек в воде, почему он так судорожно двигает руками и ногами, он что, хочет взлететь? Нет, он не собирается летать, он просто пытается не утонуть. Почему современный специалист учится, он что, собирается повысить свою квалификацию? Нет, он не пытается повысить квалификацию, он пытается ее сохранить.
Научно-технический прогресс – это не только новые профессиональные знания, это и устаревание существующих знаний. Следовательно, знания должны обновляться. Сейчас называется цифра 6,5 лет – срок, когда профессиональные знания сокращаются наполовину, если специалист не учится. Когда-то называли другую цифру – 8 лет, еще раньше – 12. Чем выше темп научно-технического, прогресса, тем быстрее устаревают знания, тем интенсивнее следует учиться.
Конечно, это средние цифры, и существуют «несчастливые», но актуальные, профессии, где период полустарения знаний значительно меньше, а также «счастливые», но неактуальные, как традиционное библиотечное дело, где процесс старения явно замедлен, но не остановился. Поэтому учиться должны все.
Не все библиотекари, которых вызвали из Черноземья и с Дальнего Востока, приехали. Кого-то не пустили, кто-то не поехал сам по уважительным или неуважительным причинам. Из тех, кто приехал, не все были довольны программой. А создатели программы толком не знали, как ее составлять, что включать и кого из лекторов приглашать.
Но это издержки становления. Закрутят гайки, приезжать будут все. Научатся составлять виртуозные, увлекательные программы. Избавятся от «эстрадного» принципа – стремления объять необъятное и приглашать лекторов «числом поболее, ценою подешевле». Этот принцип явно сказывается на эффективности обучения: исчезают со столов тетради и учащиеся превращаются в пассивных зрителей, кому-то устроят овацию, кого-то проводят леденящими взглядами.
Так выглядит «генеральная» учеба («свистать всех наверх!»). Каждодневная учеба: читать литературу, в том числе иностранную, по специальности, переписываться с коллегами, хотя бы раз в год ездить в командировки, которые преследуют цель, не только выполнения конкретного служебного задания, но и обмена опытом, расширения кругозора. Участвовать в работе научно-практических семинаров и конференций, причем «участвовать» – не только «брать», но и «давать» – одним словом, обмениваться знаниями, опытом. Очень важно, что этой учебой уже охвачены руководители. Никого учеба за бортом не оставит, Охватываются инженеры и техники, будут охвачены рабочие.
В последние годы стала популярной еще одна форма учебы: научные школы – летние (пляжные) и зимние (лыжные), где в течение недели или двух совмещают отдых с учебой. Учеба – это лекции одних специалистов для других, причем лектор, отчитавший свое, превращается в слушателя. Внешне программа школы одна и та же и состав слушателей почти один и тот же, но содержание меняется в том же темпе, как развивается наука – в одну и ту же воду реки нельзя войти дважды.
Даже на сугубо научных симпозиумах все чаще появляются практики – это самые ретивые; в науке они все берут «с пылу, с жару», чтобы раньше всех применить и больше всех удивить.
Когда человек меняет место работы, он как бы встряхивается, снимает с себя паутину оцепенения, омолаживается. Так мы вспомним о четвертом возрасте – интеллектуальном. Больше всего торопятся жить узкие специалисты («домоседы»), меньше всего – Т-специалисты {«путешественники»).

Работать всю жизнь на одной работе, в одной должности, занимаясь все время одним и тем же,– значит поменьше думать, раньше интеллектуально состариться. Можно усомниться: есть ведь виды работ, требующие автоматизма действий, и усидчивости, например на конвейере. Но такие работы в первую очередь механизируются и автоматизируются, а до этого страдают от большой текучести кадров, уменьшить которую не может даже зарплата. «Рыба ищет, где глубже, человек – где лучше». Лучшее – это интересное, разнообразное.
Если по какой-либо причине поменять работу нельзя, можно ограничиться стажировкой – временным переходом на аналогичную работу в другой цех, на другое предприятие, чтобы опять-таки что-то взять и что-то дать.
Все, о чем было рассказано выше, в основном касается практиков. Ученые учатся по-другому: очень много читают, участвуют во многих конференциях, в том числе международных, делают то, чему будут потом учить, по отношению к практикам выступая в роли учителей.
Научно-технический прогресс – изменение отраслевой структуры общества: появляются новые отрасли народного хозяйства, перераспределяется значимость существующих отраслей, меняются отраслевые направления. Это находит отражение в профессиональной структуре. Появляются новые профессии, кадры для которых никто не готовит. Резко увеличивается значимость других профессий, и работников начинает не хватать. Утрачивают значение третьи, и специалисты испытывают трудности при подыскании себе работы.
Нас ожидает парадоксальная перспектива: массовая безработица при массовой нехватке кадров. Но мы минуем это: морально подготовим всех к переквалификации, а многих переквалифицируем. Темпы научно-технического развития таковы, что нельзя дожидаться, пока специалист уйдет па пенсию и будет заменен специалистом другого профиля.
Появление новых отраслей, отраслевых направлений и профессий не означает их разукрупнение, более узкую специализацию. Современный этап научно-технического развития носит название «научно-техническая интеграция». Это значит, что все крупные научные открытия делаются сейчас не в недрах существующих наук, а на контакте одних наук с другими. Все крупные технические разработки делаются не силами отдельных ведомств, а при кооперативном участии разных ведомств.
Когда-то, раскрыв диплом в отделе кадров, могли сказать: «Но позвольте, у вас написано то-то и то-то, а у нас ведь то-то и то-то». Сейчас смотрят на обложку и ничего подобного не говорят – были бы диплом и желание, а не знаешь – научим.
Когда я только что пришел в кибернетику, я стал свидетелем любопытного эксперимента, в котором не участвовал, но мог внимательно наблюдать. Возникла потребность в специалистах по медицинской кибернетике. Это что-то вроде гибрида инженера и врача. Но таких специалистов вузы тогда не выпускали. Поэтому получили разрешение, и в один прекрасный день на распределении выпускников технического вуза первый, второй, третий вдруг получили направление на... 1-й курс медицинского института, со стипендией в размере минимальной инженерной зарплаты. Не буду рассказывать все по порядку и скажу сразу: эксперимент провалился – студенты переучились. Не всегда хорошо иметь в кармане два диплома, всегда плохо получить их один за другим.
Человек приобретает раз в жизни среднее и раз в жизни высшее образование. Он может многое забыть, но общее развитие останется с ним навсегда, и это безошибочно определит ИСТ, напомнив даже 50-летнему испытуемому о его академических успехах в довоенной школе.
Переквалифицироваться не значит спуститься с горы, на которой специалист сидел, в долину и затем подняться на другую гору. Проще и рациональнее перебросить мост и перейти по нему, вооружившись своими знаниями и опытом, чтобы обменять их на знания и опыт аборигенов, обогатив тем самым и себя. Такова уж природа информации: обменивая знания, остаешься при своих знаниях.
Все больше и больше среди нас встречается «изменников», «предателей», «перебежчиков», которые поменяли свою специальность. Когда-то это можно было считать чуть ли не аморальным, обвинять плановиков в том, что они плохо спланировали профессиональные потребности. Сейчас мы понимаем: «измена» своей профессии – неизбежность, необходимость, добро. Прогресс бы прекратился без таких «измен».
Наши вузы выпускают тысячу психологов в год. Нам нужно в десять раз больше, и мы подбиваем инженеров переквалифицироваться в психологов – конечно, не сразу стать психологами, но на первых порах овладеть, стажируясь, каким-нибудь психологическим методом, например ВОЛом, сдать экзамен, начать применять его, чтобы потом принять на стажировку другого инженера. Это та самая «взаимная эксплуатация».
И что интересно: если сразу взять на производство мальчика (или девочку) с дипломом психолога и поручить ему «внедрять» психологию – весьма вероятно, он не справится с подобной задачей, потому что не знает ни производства, ни производственников, а те, кто будет им руководить, не знают психологии. Другое дело, когда мальчик (или девочка) придет на готовое, «доморощенное», подключится к начатой работе: он наверняка добьется успехов и, может быть, поднимет работу на более высокий квалификационный уровень.
Нам нужна армия психологов – в школах, театрах, производственных объединениях, универмагах. И еще одна армия – социальных психологов, управляющих психологическим климатом в коллективах. Третья армия – информационных работников – уже существует: службы научно-технической информации созданы на всех предприятиях; эти службы создали угрозу библиотекам на местах, кое-где включив их в сферу своего влияния и обратив библиотекарей в свою веру.
А мы, клирингисты, разве не «изменники»? Институтский диплом по одной специальности, кандидатский – по другой, докторский – по третьей. Я не знаю профессионального происхождения половины моих коллег и друзей. Спросить как-то недосуг. Могу только догадываться по тому, кто как выступает на семинарах и симпозиумах и отвечает на вопросы. Этот, наверное, гуманитарий – как красиво он говорит и как держится за кафедрой, и формулами не злоупотребляет, в душе, видно немного побаивается их. Этот «технарь», явно «технарь», еще долго его будут обтесывать, выпускать на семинарах дух технарского снобизма.
Что нужно, чтобы сохранить надолго профессиональную молодость? Немало знать, глубоко чувствовать и радоваться жизни. Получить хорошее воспитание и образование, немного не соответствующее первому рабочему месту. Что еще? Время от времени менять место работы. Еще? Менять тему научных исследований – по крайней мере трижды в течение жизни, а участок производственного процесса – по крайней мере пять раз.
Ну а если этого не было. Человек поздно спохватился. Можно его спасти? Можно попробовать: направить в отделение реанимации, где больному растянут кругозор (растягивать – принудительно расширять).
Я читаю лекцию библиотекарям Дальнего Востока, смотрю им в глаза и ловлю их мысли. Вот одна мысль: «Вообще-то все, что вы говорите, довольно любопытно, но как это далеко от нашей дальневосточной жизни!» У других эта мысль выражается жестче: «К чему все это? Мы приехали за десять тысяч километров, чтобы узнать что-то новое, конкретное, что можно применить немедленно в нашей каждодневной библиотечной работе. А вы...»
Конечно, так думают не все. В конце лекции меня поблагодарят и, может быть, даже похлопают.
Принудительное расширение кругозора: для «технарей» – гуманитарное «облагораживание», для гуманитариев – «оматемачивание», лечение от «машинобоязни», чтобы не шарахались от всего, что сложнее пишущей машинки.
Начинают с лекции о международном положении, экскурсии по памятным местам, чтения вслух заметки из журнала «Знание – сила». Кстати, посмотрите, кем издается этот журнал и кто его читает.
Музеи, постоянные выставки, зоопарки из развлечения и внешкольного обучения все более становятся одним из средств расширения кругозора. Если исключить «саранчу» туризма, то половина музейных посещений, как подсчитали в Соединенных Штатах, приходится на научные музеи, одна треть – на исторические, остальные – на художественные. Но доля последних неуклонно растет, и мы чаще здесь видим не только инженеров-технологов, но и кинорежиссеров, музыкантов, артистов, которые раньше явно меньше интересовались изобразительным искусством. Сегодня половина застигнутых врасплох в музеях объясняют свой приход желанием «докопаться до сути дел», а 40 процентов все еще признаются, что пришли просто «проветриться».
Потом, когда наступит подходящее время, можно будет включить в учебную программу темы, нарочито не имеющие ничего общего с задачей сохранения и повышения квалификации, а потом перейти к составлению отдельных программ принудительного расширения кругозора – принудительного, потому что сам по себе кругозор не расширяется.
Для московских кибернетиков уже много лет действуют две бесконечные программы расширения кругозора: вторая среда каждого месяца – «малый каботаж», четвертая среда – «большой каботаж». «Малый каботаж» – не дать специалисту уйти в себя, надеть шоры, сузить свои интересы за счет глубины, выродиться, показать ему интересное у работающих рядом: в медицинской, гуманитарной, социальной кибернетике. «Большой каботаж» – предложить любую, самую невероятную тему для обсуждения, заставить мысль работать в ином направлении и сильнее забиться сердце.
Для чего существует мода, в частности, мода в одежде? Над разгадкой феномена моды билось не одно поколение социологов. Кто только не пытался игнорировать и даже упразднять моду, но она существует, подчиняя себе всех, потому что не следовать моде – значит быть старомодным. И вот появилась теория информации: мода – нарушение однообразия, а так как устоявшееся разнообразие есть однообразие, то мода все время должна изменяться. Готовится к защите докторская диссертация. Выявлены и описаны математически закономерности изменения формы костюма. Все столпились у синусоиды изменения длины женских юбок и рассчитывают, сколько в каком году будет сантиметров. Вот история, начиная с самой древней. Как диалектически меняется костюм! Смещаются психологические точки – на какую часть тела смотрят прежде всего – умножаются и усложняются элементы и вдруг происходит взрыв, костюм максимально упрощается и все начинается сначала.