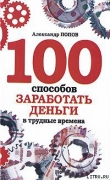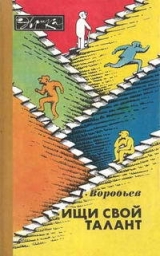
Текст книги "Ищи свой талант"
Автор книги: Геннадий Воробьев
Жанр:
Психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
ПОТОМ ПОСМОТРЕТЬ НАЗАД
ПРЕДПОСЛЕДНИЙ ШАНС
Улица заполнилась народом. Кончилась утренняя смена. Люди – точнее, мужчины, точнее, молодые мужчины – выходили за ворота. Одни старались тут же перебежать улицу, поиграв на нервах автомобилистов, другие выстроились у пивного ларька, третьи спешили в вечернюю школу или в вечерний вуз, который был тут же рядом.
Рядом – понятие относительное. Завод – целый город и даже имеет свой троллейбус, который за сорок минут объезжает все корпуса.
Какой одинаковый у многих облик – как у инкубаторских цыплят: нарочитая независимость приехавших издалека, нарочитая небрежность в походке, небрежность в модной одежде, никогда не побывавшей в женских руках.
Когда в коллективе нарушена нормальная структура – половая, возрастная, квалификационная,– это создает свои проблемы. Здесь нарушена возрастная структура: нет традиций, нет преемственности.
То, что хорошо для таежных «первопроходцев», оказывается не совсем хорошим для стабильно работающего предприятия, где степенные семейные люди должны опекать несемейных, помогать им и воспитывать. Что скажет молодой человек, когда сверстник станет его воспитывать? Но он подвергается воспитательному воздействию. Когда большинство сквернословящих возводят сквернословие в норму, это оказывает воспитательное воздействие на несквернословящих.
Завод расположен в одном конце города, мужские общежития в другом, женское общежитие – в третьем, Дом культуры – в четвертом, и статистика говорит, что б том районе, где завод, число приводов в милицию и разводов больше, чем в других районах.
Общежитие – это проблема свободного времени тех, кто не учится по вечерам, кто не обременен большой семьей (а семейных в общежитие пока не принимают), не принимает участия в общественной жизни и думает, что свободное время дано для наслаждения.
Дом культуры – проблема заполнения этого свободного времени. Чтобы после работы исколесить весь город по направлению к Дому культуры, нужны веские основания: не кино, которое есть в каждом микрорайоне, не кружки, которые не могут охватить всех, а если охватят, то это приведет в ужас и растерянность администрацию Дома.
Дом культуры должен быть прежде всего культурным: высокая квалификация обслуживающего персонала, высокохудожественное оформление, калейдоскоп увлекательных мероприятий на все вкусы, уютное место для свиданий и дружеских встреч за богатым ассортиментом безалкогольных напитков. Конечно, проще продавать газированную воду и бутерброды, вывесить плакат «Пронос и распитие спиртных налитков категорически запрещается!» и сделать так, чтобы в неприглядном буфете долго не задерживались. Вот и слоняются тогда влюбленные по улицам, а «друзья бутылки» собираются в общежитии или в подворотне...
Проблема клубов и Домов культуры, выполнивших свою миссию в 20—30-е годы, начала активно решаться в соответствии с нашим современным уровнем культурного развития.

Из стеклянного здания напротив хорошо наблюдать за проходной. Социолог поймал себя на том, что давно думает не о распределении ролей в научном коллективе, а о тех, кто напротив. Сколько социологов мечтает стать социальными психологами! А этот наоборот – он хочет решать социальные проблемы не так, как решают их напротив.
Испокон веков сапожники ходили без сапог. Этот сапожник, простите, социальный психолог, помогающий другим находить удовлетворенность в работе, сам работой не удовлетворен. И он сидит здесь, на юго-востоке Москвы, смотрит на застроенное поле, где Петр I осуществил свой знаменитый «Кожуховский поход», предрешивший взятие Азова, и думает о своей судьбе. Его всегда хвалили, и хвалили за дело. Ему завидовали, потому что было чему завидовать. На вопросы ВОЛа он уверенно отвечал:
– Ваш отец хороший человек?
– Да.
– Вы всегда любили свою мать?
– Да.
– В вашей семье мало любви и теплых товарищеских отношений по сравнению с другими семьями?
– Нет.
– Вы любили школу?
– Да.
– Думаете, что в общем производите благоприятное впечатление на людей, которые вас знают?
– Да.
– Ваша жизнь заполнена интересными делами?
– Да,
«Кажется, я начинаю стареть,– думал он.– Вот уж не полагал, что так скоро почувствую нужду в значительности».
Он был прав и не прав одновременно. Прав, потому что человек стареет со дня своего рождения. Но когда-то он оглядывается назад и подводит жизненные итоги.
Человечество развивается не очень оптимально. Одни ошибки исправляются, другие повторяются последующими поколениями. Но как число неисправленных ошибок уменьшить? Для этого нужно чему-то больше научиться самим и что-то больше передавать детям, которые сами считают себя умными и не хотят, чтобы их поучали, тем более в менторском тоне. Когда старость осознает свое педагогическое бессилие, она изрекает сентенцию: «В наше время молодежь была не та». Какая «не та»? Лучше, добрее, воспитаннее, скромнее.
«– Ах, мистер Пиквик, молодежь была совсем другой, когда я была девушкой!
– В этом нет никаких сомнений, сударыня,– отозвался мистер Пиквик.– Вот почему я особенно ценю тех немногих особ, которые сохраняют следы старого закала».
Этот известный, наверное, читателю разговор происходил в начале XIX века. Между тем археологи уверяют, что древнеегипетские иероглифы засвидетельствовали падения нравов и до нашей эры, когда дети стали плохо учиться и не слушаться родителей.
Все начинается с наследственности. Не будем страшиться этого слова, потому что все действительно начинается с родителей, но не ограничивается ими.
Дело в том, что ребенок – это не среднеарифметическое от папы и мамы. В наследственном отношении папа и мама в разных детей вкладывают по-разному, да к тому же в процессе «вкладывания» участвуют еще папа и мама родителей, папы и мамы прародителей.
Родился ребенок, нужно его воспитывать. Это воспитание осуществляется по-разному в семьях разного национального уклада, разной культуры, разного материального достатка, при разной численности детей.
Если ребенок один, можно много в него вложить, лучше подготовить в вуз, но легче сделать его эгоистом, потребителем, скептиком. В многодетных семьях старшие дети помогают родителям воспитывать младших, каждый выполняет свои обязанности; у детей воспитывается трудолюбие, альтруизм, дух коллективизма. Но чаще эгоистами и потребителями все-таки становятся младшие. Из больших семей реже выходят творческие личности, потому что человек должен не только общаться, налаживать множество связей, но и уединяться, разбираться в своих чувствах, играть не только вместе, но и в одиночку.
Прибавим к этому влияние бабушки и дедушки, о которых говорилось выше. Если родители отдадут дело воспитания на откуп своим родителям, это будет не только нарушение принципа преемственности поколений, но и несправедливость по отношению к старикам, которые в старости нуждаются в относительном покое. Влияние папы и мамы, следовательно, должно быть основным, влияние дедушки и бабушки – второстепенным, но все-таки очень важным, если сравнить с ситуацией, когда стариков нет на свете или они полностью лишены обязанностей по отношению к своим внукам.
Каждое утро Екатерина II брала перо, чернильницу и писала. Так получилась целая книга: «Бабушкина азбука Великому князю Александру Павловичу».
«Всякое дитя родится неученым, долг родителей дать детям учение».
«Естественно человек с человеком разнится мало, по учении разнится много».
«Сделав ближнему пользу, сам себе делаешь пользу».
«Что есть ближний? Всякий человек».
«Делай добро и не перенимай худое, пусть у тебя перенимают доброе».
«Честность есть неоцененное сокровище».
«Дитя до семи лет есть младенец, после семи – отрок, после пятнадцати – воин».
Получилось очень ценное педагогическое пособие. Но беда в том, что дети больше любят брать пример, чем слушать и читать сентенции.
Так наследственность и воспитание вырабатывают букет способностей. Очень специфичный букет, который почему-то нравится одним и не нравится другим. Почему одного человека ставят в пример? Почему один работает, а другой ленится, «почивает», идет по «скользкому» пути? Почему один так легко пускает в ход слово, локти и пробивается вперед, а другой уступает ему дорогу, извиняется, совестится и в итоге получает меньше? Как разобраться во всем этом?

Начнем с повторения того, что люди не становятся сами по себе плохими и хорошими.
Вот, например, здоровье тоже способность, как было отмечено выше. И в профессиограмме здоровье занимает вполне определенное по значимости место: чем ближе к началу, тем более важно быть здоровым. Известны профессии, где без врачебной комиссии просто не обойтись. Директором театра становятся без комиссии, но, чтобы совладать с труппой театра, нужно быть очень здоровым, как говорит профессиограмма. Между тем существуют профессии, где принимают даже инвалидов. И наконец, чтобы попасть в больницу, нужно набрать определенное число баллов по нездоровью, а чтобы удостоиться особого медицинского внимания, нужно быть очень и очень нездоровым. Не оттого ли в больнице, коротая время, больные ведут разговор в стиле «а у меня»? То же самое относится к работоспособности. От самой высокой работоспособности до полной нетрудоспособности – дистанция огромного размера. В этом отношении все люди явно не равны. И полная нетрудоспособность – понятие относительное, потому что любого инвалида можно занять чем-то, дать почувствовать свою значительность. Работоспособность воспитывается и, если ей не мешает нездоровье, может стать довольно высокой, когда человек трудился и в детстве, с малых лет имел свои обязанности в доме, когда родители поощряли его любимые занятия, доводя их до уровня трудового процесса. Когда же работоспособность уже получилась не очень высокой, остается успокоить себя, что это полбеды. Потому что если более работоспособный будет работать в нелюбимой профессии, а менее работоспособный – в любимой, то результаты их труда уравняются. Отсюда вывод: при скромной работоспособности более тщательно ищите объект приложения своих рук, своего ума.
Кстати, о руках и уме.
В семье музыканта нетрудно воспитать музыканта при условии, что он будет расти в мире музыки. И тогда преподаватели музыкальной школы уважительно скажут: «Да, этому слон на ухо не наступил». Но в семье композитора очень мало вероятен второй композитор, потому что музыкальные способности – это еще не творчество, а вклад папы – не весь вклад родителей и предков. В культурной семье велики шансы поступления в вуз, но если высокая интеллектуальная продуктивность будет сочетаться с низкой работоспособностью, то в жизнь выйдет пустоцвет, пустомеля, пустозвон.
С другой стороны, навык работать сначала руками, потом головой дает направление в профессиональные сферы, где требуется превышение работоспособности над интеллектуальной продуктивностью. Монотонный образ жизни, когда один день похож на другой, воспитывает рутинера. Спросите шофера, что заставило его сделать выбор между рейсовым автобусом, такси и служебной машиной. Казалось бы, профессия – одна, а может быть, это три профессии?
Раньше работали одни мужчины. Женщины трудились дома, но «не работали», и их труд считался неполноценным. Сейчас мы понимаем, что это не так. Современные женщины работают вместе с мужчинами, но по-прежнему существуют мужские и женские профессии, представление о которых, правда, постепенно меняется. Вот на наших глазах мужская профессия почему-то стала женской, потом в нее снова стали возвращаться мужчины. Но полного смешения для всех профессий не происходит и никогда не произойдет. Потому что женщина рожает детей, а не мужчина, женщина делает главный вклад в воспитание, и понятие «хозяйка» не то же, что «хозяин». Домашнее равенство – это не значит поделить поровну все обязанности, а распределить поровну: мужчине – мужское, женщине – женское. Мужчина и женщина всегда будут иметь физиологические, психофизиологические и психологические различия, которые не могут не отразиться на профориентации.

В отделе кадров просто делят всех на «муж.» и «жен.», а ВОЛ определяет у человека степень развития его пола, и тогда можно говорить о мужественных мужчинах, женственных женщинах, женственных мужчинах. По-видимому, комплимент «мужественная женщина» гложет звучать двусмысленно: мужчинам все-таки нравятся женственные женщины (и наоборот). Кстати, специалисты в области брачного клиринга ставят одним из условий нормального брака соотношение: нормальный (в половом отношении) мужчина – нормальная женщина, мужественный мужчина – женственная женщина, женственный мужчина – мужественная женщина. Интересно звать, а как в трудовом коллективе?
Мужественная женщина имеет грубые черты лица, угловатые манеры, низкий голос. Склонность женщины к мужской профессии может означать «мужественную женщину» или только соответствующий набор психологических признаков.
Но вот возникает ситуация: женщина имеет нормальное развитие, явно женскую профориентацию, у нее нормальное чувство коллективизма, она пользуется нормальным авторитетом, но при этом полным неуспехом у женской части коллектива. Это значит, что, попав в женский коллектив, а она неминуемо в него попадет, будет очень скоро «вытолкнута» из него, как пробка из бутылки. Что посоветовать в такой ситуации? Индивидуальный характер труда. Кстати, от полного индивидуализма в работе до полного коллективизма – такое же большое расстояние, как от высокой работоспособности до полной нетрудоспособности, как от женственной женщины до мужественного мужчины.
Существуют способности «нарасхват». Существуют «любительские» способности, для которых приходится долго искать область их приложения, но найти все-таки можно. Десятки тысяч профессий – выбор богатый.
Развитые сверх меры способности выявляют удивительные человеческие возможности: быть полиглотом, чемпионом по прыжкам или шахматам, открывателем теории относительности, виртуозом игры на виолончели или канатоходцем. Однако, как бы ни поражали эти способности, они останутся уделом тех, кто ими обладает. Можно восхищаться и немного завидовать тому, кто бегло говорит на десятках языков или считает, как ЭВМ. Но кто этому научится? Способности можно открывать и развивать, но создать их нельзя. Спортивные тренеры давно к этому выводу пришли. До остальных эта истина доходит постепенно.
«Человеконенавистник», ставший начальником, подберет такого же «ненавистника» – цербера-секретаря и забаррикадируется в своем кабинете. Начальник-«людолюб» лишит секретаря элементарных секретарских прав, превратит свой кабинет в клуб.
Для тех, кто не любит людей, или быстро от них устает, или, по крайней мере, может без них обходиться, уготовлены должности ночных сторожей, диспетчеров на автоматизированном производстве и смотрителей маяков. Поглядите на девушек-продавщиц: почему одни выбрали продовольственные товары, другие – одежду, третьи – музыкальные пластинки, а четвертые, покрутившись тут и там, в конце концов ушли из торговли? Все это случайно?
Нельзя допускать, чтобы потенциальный ночной сторож работал в магазине, да еще там, где продаются товары массового потребления. Но в принципе этого не допускают. Тот, кто явно чувствует себя «не в своей тарелке», начинает искать, следуя примеру рыбы. Тем, кто чувствует неявно и ничего не ищет, следует помочь.
Пока имеется хоть какой-нибудь шанс, важно им воспользоваться: лучше применить то, что есть, а то, что мешает, «подтесать», «заровнять», «загладить». Но не «ломать», «перекручивать», «выворачивать». Переделывать себя ради первой попавшейся на глаза области приложения – слишком дорогое удовольствие. Во всяком случае, к вашим услугам способности, которые более других поддаются воспитанию, вот с них-то, пожалуй, и начинайте.
Когда машиностроитель поступает на вечерний машиностроительный, бухгалтер – на финансово-экономический, геолог – на геологический, это естественно при условии, что все трое уже нашли себя. Рвут профессиональные узы сейчас многие, но порвать двойные узы значительно труднее (автор испытал подобное на себе).
Многое здесь дает домашнее образование. Именно «домашнее», когда к 10 годам заканчивается интеллектуальное развитие и родители горят желанием еще чему-нибудь воспитывать. Тогда домашнее воспитание сменяется домашним образованием: одновременно расширяют кругозор и поощряют узкую специализацию.
Кругозор без специализации – заурядный дилетант. Этот дилетант может неплохо учиться в школе и даже закончить аспирантуру, но идти дальше помешают склонность мелко копать, разбрасываться, легко загораться и так же быстро гаснуть.
Узкий специалист без кругозора дает больше. Недавно на «малом каботаже» в центре Москвы выступал доктор технических наук, в рамках важной кибернетической методологии разработавший свой собственный метод, довольно оригинальный и, кажется, перспективный. Когда же собравшиеся попросили его посмотреть на метод шире, сравнить с другими, сказать, что он думает о развитии методологии вообще, он честно признался, что вообще ничего об этом не думает. Плавает ли он «большим каботажем», никто из присутствовавших его не спросил, потому что и на «малом» его видели впервые. Он же ничего не видел, когда, повернувшись спиной к аудитории, писал на доске свои бесконечные формулы, не зная, что существуют такие понятия, как внимание к аудитории, реакция аудитории, обратная связь не в теории, а на практике.
Хобби было всегда, но сейчас оно стало не просто модой, а элементом нового образа жизни.
Хобби закладывается в отрочестве. Когда родители, сменив интеллектуальное воспитание на домашнее образование, пропалывают грядку увлечений, они оставят несколько растений, из которых что-то станет работой, а что-то отдыхом. Но каждый «отдых» – это резерв, готовый в случае чего взять бразды профессиональной ориентации. И тогда в условиях научно-технической интеграции хобби превращается в работу, а работа – в хобби. Иногда вместо хобби вырастает псевдохобби, и навязчивое бесплодное занятие выдается за ценный плод.
Когда-то пороги научных обществ обивали изобретатели вечных двигателей. Сейчас обивают пороги изобретатели классификаций «всех наук», «всего народного хозяйства», «всего на свете». Двери в научное сообщество открыты для всех. Но вошедший должен выполнять определенные правила: ставить эксперименты, делать выводы, на основе выводов выдвигать гипотезы, на основе гипотез строить теории, которые сразу же могут умереть или будут какое-то время жить; также нужно бывать на семинарах и симпозиумах, научиться задавать вопросы и заслужить право выступить с докладом. Вот тогда-то можно что-то предложить. Хобби не превратится в псевдохобби, если не будет приносить вреда увлеченному, доставлять хлопоты семье и отвлекать от работы занятых людей.
Есть немало видов работы, требующей слишком большой отдачи и даже жертв. Жертвуют досугом, в том числе и хобби, семейными и общественными обязанностями. Тот, кто не жертвует, если он руководитель, ему следует оставить свой пост; если ученый, то он может остаться, но пусть довольствуется второстепенными ролями в науке; если он художник, может быть, лучше ему сделать искусство своим хобби и заняться чем-нибудь прозаическим, но надежным.
Сколько бы ни было лет читателю, и для него наступит время, когда нельзя не оглянуться назад, подумать о четвертом – интеллектуальном – возрасте, что можно с собой еще сделать, использовать предпоследний шанс. Но если оглянуться чуть раньше, шанс может оказаться предпредпоследним.
СЕМЕРО ПОТОМКОВ С ЛОЖКОЙПосле родительского собрания классная руководительница сказала: «А теперь зайдите в кабинет профориентации. С вами хочет поговорить психолог».
Родители двинулись в коридор, и даже те, кто торопил, чтобы скорее кончить, вдруг раздумали уходить и пошли со всеми, размахивая хозяйственными сумками.
Здесь, на дальнем северо-западе Москвы, где когда-то проезжал Радищев из Петербурга, настолько дальнем, что это лишь номинально считается Москвой, и течет своя обособленная жизнь, психолога хорошо знали. На его уроки дети ходили так же, как на математику и физкультуру, но потом об этих уроках рассказывали даже те, кто не привык дома что-нибудь рассказывать.
– Сейчас я покажу вам видеофильм. Вы познакомитесь с девушкой и ее банальной, но драматической судьбой. Внимание!
«– Итак, ты провалилась на приемных экзаменах?
– Да, провалилась. Думала, что жизнь поломана, по потом немного успокоилась. Мама устроила меня работать в бухгалтерию.
– Тебе понравилось там?
– Не очень. Но я старалась».
Стоп-кадр.
– Конечно, вы постараетесь помочь своему ребенку устроиться на работу. Это естественно. Но как вы выберете работу: что подвернется под руку, доставит меньше волнений, что не осудят соседи? Подумаете ли вы, что одна работа вашему ребенку подойдет, а другая – нет? Работа в бухгалтерии требует особых профессиональных качеств: усидчивости, аккуратности, внимательности, умения быстро считать.
«– Что было дальше?
– Дальше появилась возможность поступить в финансово-экономический институт. Мне дали характеристику, и я поступила.
– Радовалась?
– Сначала да. А потом почувствовала, что это не для меня. Учиться было неинтересно. Потом стало еще хуже – как тяжелый сон. И я ушла из института...»
Стоп-кадр.
– Ад, даже если его вымостить благими намерениями, остается адом. Намерения родителей тоже благие. Скажите честно: вы профессионально счастливы? Если да, то почему это счастье не передать своим детям? Если нет, то это нужно сделать, чтобы дети не повторили вашу ошибку? Чувствуете ли вы социальную ответственность перед детьми и детьми ваших детей?
В век научно-технической интеграции можно иметь диплом в одной области, а работать в другой. Но если человек уходит из института, для этого должны быть серьезные основания. Может быть, это вопиющее несоответствие.
Человек – кузнец своего счастья. Но заготовки для кузнечных работ делают родители, и трудно из недоброкачественной заготовки получить качественное изделие. Действие одного человека – явление психологическое, действия многих – социальное. Нельзя решить проблему профориентации, думая о счастье одного.
Подавляющее число профессий подавляющему числу людей неизвестны. Но есть профессии, которые известны всем. Некоторые из них весьма «престижные». Когда совсем маленькие дети отвечают на вопрос, кем они хотят быть, они называют тех, кто поразил их воображение: носильщик на вокзале, билетер в кино, клоун в цирке. Когда спрашивают ребенка постарше, он называет одну из «престижных» профессий. Когда-то это был капитан, потом летчик, теперь космонавт.

Наряду с «престижными» существуют профессии «непрестижные». Если их называют совсем маленькие дети – родители смеются, если не совсем маленькие – приходят в ужас. А что может быть ужасного в той или иной профессии? Любой труд почетен, любая профессия, удовлетворяющая нужды общества, уважаема. Можно ли назвать сферу обслуживания второразрядной? Звучит как-то унизительно? Но мы все друг друга обслуживаем. Не только парикмахер обслуживает клиентов, но и врач обслуживает больных, автор обслуживает читателей.
Так все-таки профессии равны или не равны? Пока не равны, но должны быть разными. Разделяет их квалификационный уровень – то, что укладывается в емкое слово, «профессионализм». Все-таки более уважаема та профессия, где проявляется профессиональное мастерство. А это мастерство могут проявлять и моряк, и повар, и слесарь, и уборщик мусора. Для того и существуют профессионально-технические училища, чтобы каждая рабочая должность получила профессионального рабочего.
В одной из зарубежных поездок я не мог оторваться от картины строительных работ. Профессия строителя никогда особенно не интересовала меня, и эстетическое удовольствие доставляли разве что силуэты строительных кранов и уже построенных зданий. Но здесь что-то притягивало, заставляло забыть обо всем. Молодые, складные мужчины в белых комбинезонах, неторопливость их действий, отсутствие земляных и мусорных куч, штабелей стройматериалов и оборудования, оранжевые чемоданы разных размеров с наборами инструментов, рулоны липкой ленты разной ширины для заклеивания стыков, строго по графику приезжают микрогрузовики с контейнерами, где кирпичи любовно сложены и заботливо предохранены от случайных повреждений.
Рабочий и работяга – понятия разные. Образованный и необразованный – тоже разные. Неквалифицированный работник может серьезно или легкомысленно относиться к своим обязанностям, но работник высокой квалификации не может действовать на авось, наугад, на глазок – этого не позволит его профессионализм.

Пока еще не изданы справочники и энциклопедии профессий. Но на далеком северо-западе Москвы психолог рассказывает о профессиях; он прошел на юго-западе стажировку как тестолог и теперь использует ВОЛ во время школьных каникул.
Есть профессии публичные, где уровень профессионализма виден каждому и невозможно скрыться от внимательных взглядов. Есть профессии непубличные, но на людях и с людьми, требующие приветливости, внимательности, самообладания, желания что-то давать каждому. Но можно работать не с людьми, а с металлом, с чертежами, с цифрами. Одни работники обязаны думать, другие – выдумывать, третьи – выполнять все почти бездумно, но артистично, виртуозно, мастерски. Даже общественная работа привлекает разным: организовывать, контактировать, оформлять. Разные виды работ позволяют по-разному их оценивать: одни – немедленно, другие – потом, третьи – неизвестно когда. Согласитесь ли вы ждать, как ждет художник, не желающий идти на поводу у моды, как ждет ученый-фундаменталист, когда практическая почва еще не созрела для приложения его великолепных идей?
Что вы знаете об А.Станчинском? Это русский композитор, умерший в 1914 году. Не новатор, не модернист, не нонконформист. Но при жизни его не оценили, увлеченные модернистскими течениями, а после смерти забыли. И только теперь музыковеды вспомнили об этой жемчужине, поразившись ее красоте.
Мигрирует рабочая сила: одни едут из густонаселенных районов в малонаселенные, навстречу им возвращаются в чем-то разочарованные. Одни пробуют свои силы в разных профессиях и останавливаются на чем-нибудь более или менее удовлетворяющем. Им завидуют те, кто не нашел себя и ничего не делает, чтобы найти. Найти хорошую профессию так же трудно, как найти жизненного партнера, пассивно ожидая у окошка появления «принца» или «принцессы». Разумеется, среди нас живут счастливчики, которые быстро находят просто потому, что обладают множеством талантов, которые легко приложить.
Социологам известен так называемый «эффект Матфея». Он основан на известном библейском изречении: «Всякому имущему дается и приумножится, а у неимущего отнимется и то, что имеет». Декарт это изречение перефразировал так: «Труднее бедному разбогатеть, чем богатому приумножить свои богатства». Социолог Мертон превратил это в «эффект Матфея», имеющий универсальное значение.
Трудно создать новый промышленный район, легче старый промышленный район сделать еще более промышленным. Трудно построить новое предприятие, но легче расширить существующее. Арифметический прирост числа жителей в городе дает геометрический прирост книжных фондов и числа профессий. Трудно написать начинающему ученому первую научную статью; тот, у кого в послужном списке сотни статей, напишет сто первую очень быстро – к его услугам знания, опыт и стилистические навыки.
«Эффект Матфея» в распределении и приложении талантов – та социальная несправедливость, с которой приходится мириться в профессиональной ориентации. Пожелаем успехов «богатым» в приумножении и приложении их богатства. Поможем «бедным» найти их таланты – эта задача не менее благородная, чем спасение голодающих.

Понятие «профессионализм» дополняется сейчас понятием «профессиональная культура». Мало найти талант, нужно его развить, то есть приобрести профессиональное мастерство. Трудно реализовать профессиональное мастерство, когда шоры не позволяют видеть, что делается вокруг.
Ни одна специальность не развивается изолированно: она произрастает на благодатной почве других специальностей, питается за их счет и скрещивается с ними. Мало иметь широкий кругозор и узкую специализацию; нужно основательно овладеть комплексом межотраслевых знаний: не только знать математику, но и использовать ее в своих профессиональных интересах; знать, что можно из своих трудовых операций механизировать и автоматизировать; знать экономику, чтобы повысить эффективность своей профессиональной деятельности. Знать науку обращения с людьми, чтобы сотрудники не мешали, а помогали в работе; и, наконец, почувствовать себя движущим элементом в общественном механизме, а не просто болтом или гайкой.
Каждый работник соответствующего уровня культуры и профессионализма когда-нибудь поднимет голову над своим станком или письменным столом и подумает, какое место занимает труд в его жизни, зачем он вообще работает и что своей работой сделает для потомков. А потомков этих очень много.
Он начнет с того, что задаст вопрос: «В чем отличие труда от работы?» Б.Шоу сказал: «Труд по обязанности – это работа, работа по склонности – досуг». Труд – целенаправленная деятельность человека в отличие от нецеленаправленной – сизифова труда. Труд – работа по обязанности. Обязанности бывают разные: производительная, общественная, семейная и даже личная. В основе обязанности лежит долг – сознательно принятый кодекс поведения, Обязанность по личной склонности – считайте это досугом. Выходит, Шоу не просто шутил и шутки его достаточно серьезны.
Когда человек трудится на износ, в конце дня у него остается только одно желание – лечь и забыться. Отсюда и пошло противопоставление отдыха труду. И сложилось мнение: в будущем рабочее время станут сокращать, а время отдыха увеличивать, но всегда между ними будет существовать граница, будут стоять: «пограничники» я следить: за тем, чтобы расписывались в журнале, перевешивали табельный номер или предъявляли пропуск.
Человек строит дом. Работает он или нет? Конечно, работает: это все равно – пахать и строить, его профессиональная деятельность – себя прокормить, одеть, согреть. Но вот сельский житель, работающий в городе, в свободное от работы время строит дом. Это тоже работа, но не профессиональная, а домашняя – вполне необходимая, потому что где-то нужно жить. И наконец, городской житель, имеющий квартиру, строит сельский дом, именуемый дачей. Это уже отдых, досуг, хобби – не его обязанность. Но, может быть, при этом он обнаружит незаурядные способности, сменит профессию, и тогда строительство домов превратится для него в работу.