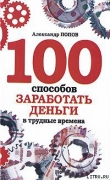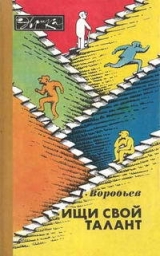
Текст книги "Ищи свой талант"
Автор книги: Геннадий Воробьев
Жанр:
Психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
ВРЕМЯ РАСТИТЬ

Ученики сидели за партами и шумели. Какой-то неведомый вихрь прижал их к задней стене, поэтому передние парты были пустые, а самой населенной оказалась «Камчатка». Одни перебрасывались записками, другие перешептывались, невинными глазами смотря в упор на учителя, В щель приоткрытой двери просовывал голову опоздавший.
Что это? Детские повадки, которые улетучатся с наступлением зрелости и получением аттестата зрелости? Простите, самому молодому из учеников 42 года. Это те самые директора музыкальных школ, которые учились на северо-западе Москвы. Они только ждут, чтобы лектор завладел их вниманием, призвал к порядку и начал свою лекцию...
Новое всегда уживалось со старым. Уживается оно и сейчас. Только не всегда мы отдаем себе отчет, что это старое, отжившее, анахронизм. Конечно, оно не ново, но, по крайней мере, привычно и даже уютно; пусть себе живет – ведь оно никому не мешает.
Почему мы воспитываем и учим детей так, а не иначе? Почему взрослых обучаем так же, как детей: по звонку и с экзаменом, в преддверии которого солидные люди прижимают в отчаянии пальцы к седым вискам и, вспомнив школьные годы, начинают зубрить.
Мы предъявляем новые требования к способностям, знаниям, навыкам: а не помешают ли анахронизмы эти требования выполнить?
Молодая мать читает, машинально раскачивая детскую коляску. Почему она это делает? Чтобы ребенок укачался, как на пароходе, и в полуобморочном состоянии заснул? Вот бы маму покачать таким же образом. Но она спокойна; твердо знает, что так делали ее мать и бабушка, а прабабушка вместо коляски качала зыбку, подвешенную под потолком (зыбить – качать).
Больше всего в Монголии меня поразили дети: такие румяные, такие серьезные. Услышать плач или хныканье невероятно. И родители с ними обращаются как со взрослыми, вполне серьезно, без сюсюканья и возлагая посильные для них домашние обязанности.
Дети – «цветы жизни». Как это следует понимать: рвать их на лугу или выращивать в горшках?
В кибернетике существует понятие «обратная связь»: правило оглядываться назад и учиться на ошибках. Механизм боли – это обратная связь, предупреждение. Представьте себе ужас жить без болевых ощущений: взирать с непониманием на вывихнутую ногу, переставшую слушаться, и обуглившийся от долгого соприкосновения с раскаленной плитой палец. Разнос, замечания, укоризненный взгляд – это разные по силе сигналы обратной связи. Ругать ребенка целыми днями так же плохо, как и позволять делать все, что он хочет.
Мать ведет ребенка через улицу. Тот не хочет идти, топает ногами, просится на руки. Мать безропотно берет его, хотя он уже не такой маленький, а в руках у нее сумка. Этот эпизод научил ребенка важной вещи: добиваться своего хныканьем. А чему он научил мать?
Кстати, назовите перечень узаконенных мер морального и физического воздействия на ребенка: что можно, что нежелательно и чего нельзя, когда и в каком порядке что применять. Почти все говорят, что бить нельзя, и почти все шлепают. Может быть, «шлепать» и «бить» – разные вещи? А где между ними граница?

Когда-то с удивлением отмечали факт, что ребенок ходит в детский сад; сейчас с удивлением отмечают обратное. Автор идеи детского сада, автор этого термина и создатель верного сада в 1837 году – немецкий педагог Ф.Фребель. Именно «т назвал детей «цветки жизни», а воспитательниц – «детскими садовницами» (в 70-е годы в России их называли «фребеличками»;). Фребель завещал детям свои «дары»: шар (единство мира), куб (символ чистого покоя), шар с цилиндром, куб из 8 кубиков, куб из 8 кирпичиков. Он ввел как обязательные предметы воспитания лепку и рисование. Сильно ли изменилась идея детского сада за полтораста лет?
Явно изменилось отношение родителей к детскому саду, перейдя от одной крайности {«камера хранения»} к другой («искусственный родитель»). Как это, в сущности, удобно: снять с себя часть родительских обязанностей и переложить их на плечи государства.
Но, может быть, обязанности в отношении детей у государства одни, а у родителей – другие?
Удивительно: не только сад, но и школа не претерпела серьезных изменений за период своего существования, уходящий в доисторическое прошлое. Нобелевский лауреат, профессор Оксфордского университета Н.Тирборген заметил: «Скука, формализм, перегрузка сухими, абстрактными знаниями, пугающая система отметок – все это вызывает сопротивление ребенка». Но всё это в конце концов принимается взрослым человеком и насаждается по отношению к собственным детям.
Шолом-Алейхем изрисовал классическую картину обучения: монотонный голос старого ребе, уткнувшегося в книгу, и повторяющие вслух ученики, успевающие в это время проказничать. Менялись только атрибуты: когда-то появилась книга у учителя, потом ученики получили тетради, затем учебники. По учебнику уже учился в первой половине XIX века Том Сойер, но домашних заданий тогда еще не задавали – ученики долго бубнили урок, а учитель дремал за кафедрой.
Из привилегии школа стала правом, а потом обязанностью. Чтобы стать интеллигентным человеком, мало сейчас иметь среднее образование, а для некоторых – даже высшее. Снова зададим вопросы: почему учитель сидит лицом к ученикам, а ученики лицом к учителю, почему ученики все время сидят (за исключением уроков физкультуры), зачем их вызывают к доске и зачем ставят оценки?
«Дети – цветы жизни», но 46 процентов этих «цветов» нарушает во 2-м классе элементарные правила личной гигиены (сколько спать, гулять, двигаться, как сидеть, читать); эта цифра понижается до 15 в 4-м классе (организм предпринимает героические усилия, чтобы приспособиться), но потом вновь повышается до 38 в 10-м классе.
Каждый день ученик 1-го класса должен прочитывать в. среднем 3,9 страницы учебной и рекомендованной литературы, а девятиклассник – 18,6 страницы, из которых четверть приходится на классные занятия, а три четверти – на домашние. В результате 95 процентов, первоклассников и 67 процентов десятиклассников недосыпают. Повышенное артериальное давление имеют 3 процента учеников сельских школ, 6,5 процента – городских и до 23 процентов – специализированных с математическим уклоном.

А родители: ведут свое единственное чадо из математической школы в музыкальную, потом на фигурное катание, да еще на английский язык по новому, «суггестивному» методу (потому что одновременно в математическую и языковую школы пока не принимают).
Правда, до многих (но не всех) родителей доходит, что это перегрузки, и они пытаются уменьшить их, освобождая ребенка от всех домашних забот. Этим: они рубят другую, не менее важную ветвь молодого дерева.
Дети берут пример со своих родителей. Если родители спокойные, то дети тоже будут спокойными. Но чистоплотная мать не сделает ребенка чистоплотным, если тот не убирает за собой и не принимает посильного участия в домашней уборке. Можно приучить ребенка к вкусной еде, но воспитать в нем желание готовить такую еду способно только выполнение им кулинарных обязанностей. Когда мы провозглашаем «Все для детей!», то это нужно делать шепотом, чтобы дети не знали. Потому что тогда они поймут буквально «все для нас», вырастут эгоистами и сами будут потом работать на своих детей, воспитывая следующее поколение эгоистов.
Трудно не согласиться с этими истинами. И родители соглашаются, но отмахиваются. Они «закручены» повседневными заботами. Очередная забота – устроить ребенка в вуз. Именно «устроить», потому что аттестат зрелости – документ, свидетельствующий о знаниях, не открывает автоматически дверь в институт; эта дверь открывается с помощью ключа, именуемого приемными экзаменами. Только бы приняли, приняли, а дальше будет просто.
В действительности дальше ничего простого не будет. Конечно, выгоняют из института меньше, чем не принимают. Но, во-первых, ребенок, приспособившийся к анахронизму средней школы, неожиданно для себя сталкивается с анахронизмом высшей школы.
Современная высшая школа – точная копия средневековых университетов: факультеты, деканы, кафедры, профессора, лекции, аудитории, сессии. Возникают новые вопросы: почему ученики только слушают, а студенты ведут конспекты; почему ученика стараются спрашивать каждый день, а студента нет; почему профессор, прочитав свою лекцию, удаляется, а не сходит с кафедры, не сгребает студентов в охапку и не отправляется с ними куда-нибудь за пределы аудитории?
Во-вторых, чадо неожиданно изъявляет желание вступить в брак. Не слишком ли рано? Ведь оно еще не встало на ноги, не обеспечило себе средств к существованию. Ребенок на иждивении родителей – понятно, но семья ребенка на иждивении родителей! Но кто виноват, что физическая зрелость и оптимальное время вступления в брак не приходятся на начало самостоятельной жизни? Сосредоточим внимание на одном, самом спорном желании студентов: учиться без труда и напряжения. Никакой труд не дается без напряжения, в том числе учеба, потому что учеба – труд. Как будто бы верно. Но мы знаем, что работа по способностям никогда не кажется тяжелой. И способный грузчик, как пушинки, переносит мешки, играя перед всеми своими мускулами (вспомните рассказы Гиляровского). Если учеба – та же работа, то она требует определенных способностей. Но так как учатся люди, имеющие разные способности, для одних учеба кажется простой, а для других – трудной, причем трудной даже для будущих великих ученых, не умеющих зубрить и вступающих в спор с педагогами по поводу прописных истин.
Следовательно, при всеобщем образовании необходимо расширить формы и методы обучения таким образом, чтобы они подходили всем, а не избранным.
Экзамены – тоже ведь анахронизм. Экзамен – это стресс: удар по организму, который отвечает резким изменением режима своей работы.
Тест Люшера хорошо фиксирует эти изменения. Завтра первый экзамен на аттестат зрелости. Экзаменуемый выбирает самый приятный для него темно-синий цвет: цвет стариков, тех, кто страдает излишней полнотой, измотанных жизнью, жаждущих покоя. На 2-м месте – черный: депрессия, отчаяние, внутренний протест, негативизм. На 3-м – темно-коричневый: ощущение дискомфорта («не в своей тарелке»), неполным компенсатором которого могут быть такие маленькие радости, как поставленная мамой тарелка клубники или новый костюм. На 4-м – сине-зеленый: перенапряжение, боязнь споткнуться. На последнем – желтый: подавление надежд (если бы это было постоянно, то разбитые надежды).
Перед вторым экзаменом (письменным) картина меняется. На 1-м месте по-прежнему темно-синий. На 2-е (с 5-го) переходит серый; реакция организма на стресс, броня отгороженности от всего, кроме экзаменов. На 3-м – черный. На 4-е (с 6-го) перемещается оранжево-красный – бойцовский азарт, жажда борьбы (не очень большая жажда, иначе красный не был бы на 4-м). Темно-коричневый отступает на 5-е, сине-зеленый – на 6-е. Желтый с красно-фиолетовым в конце меняется местами (отрицание красно-фиолетового – защитная реакция на угрозу конфликта).
Перед третьим экзаменом (устным). Темно-синий по-прежнему на 1-м месте. Серый по-прежнему на 2-м. На 3-е выходит оранжево-красный – бойцовские качества усиливаются, появилась уверенность сдать. За ним черный (депрессия сохраняется, но слабеет). Потом коричневый. Красно-фиолетовый и желтый снова меняются местами.
А ведь обычно нормальный ребенок ставит впереди желтый или оранжево-красный, в середине темно-синий и сине-зеленый, в конце темно-коричневый и черный.
Вам мало данных «Люшера» – измерьте у экзаменующегося артериальное давление.
Организм человека рассчитан на стрессовое состояние: он сначала отступает, затем мобилизует свои ресурсы ц в это время может совершить чудеса храбрости и сообразительности. При этом используются три тактики: бороться, приспособиться, бежать. Какая из них превалирует, подсказывают ситуация и психофизический статут человека.
Во время стресса увеличиваются надпочечники, возникают желудочно-кишечные изъязвления. Продолжительный и часто повторяющийся стресс приводит к дистрессу, причем в системе рвется то звено, которое слабее; желудочно-кишечные изъязвления завершаются язвой, повышенное артериальное давление переходит в гипертонию, нарушения в работе сердечной мышцы вызывают инфаркт. Гипертонической болезнью болеют 6,6 процента инженеров, 9,1 процента младших научных сотрудников, 10,2 процента кандидатов и докторов наук (сколько раз они сдавали экзамены, защищали диссертации). Есть способные сдавать экзамены. Есть неспособные, которые не рискуют. Есть, которые рискуют и расплачиваются за это.
ДЕТСТВО: КАК БЫ НЕ ОТСТАТЬКогда-то здесь было болото. На болоте крестьяне собирали корневища, называя их «раковыми шейками». Посредине болота стоял трактир, где, по преданию, заночевал Наполеон перед въездом в Москву.
Конец коридора отгорожен фанерной перегородкой. Это часто бывает в учреждениях, когда штаты растут, а площади остаются теми же. В «доисторическое» время за перегородкой работали табуляторщицы. Теперь там пункт профориентации. «Детской» – как приписал кто-то карандашом.
Пункт имеет свою историю. Сначала его мыслили как вполне «взрослый»: подбирать рабочих по новым специальностям, проверять подобранный резерв на выдвижение, распределять обязанности между работниками подразделений. Но дирекция предполагает, а... располагающими оказались женщины – на предприятии их большинство. «Профориентироваться нам вообще-то поздновато, а вот нашим детям...» Общественные организации оказали поддержку, Детей привели довольно много. Так специально обученные профориентаторы превратились в «детскую комиссию».
Работа с детьми имеет свои прелести и неожиданности. Лучше всего у них получается «Люшер» – лучше даже, чем у взрослых, которые нет-нет и зададут скептический вопрос; «Что значит «симпатичным»? Вообще-то мой цвет голубой». Ни секунды не задумываясь, дети легко раскладывают «Люшера», «Палитру» и готовы повторять это сколько угодно раз.
С 13 лет можно применять ИСТ. А вот с ВОЛом обстоит сложнее. Вообще-то он рассчитан на тех, кто старше 16 лет, но разработан «подростковый вариант», в котором заменены непонятные и «неприличные» вопросы. Однако еще нет подростковых норм, хорошо бы пропустить хотя бы сотню детей, но где взять на них время. Кроме того, ВОЛ явно тяжел; усидеть, отвечая на все вопросы, очень трудно. Конечно, можно еще больше изменить методику – ввести обязательные перерывы, предварительные беседы о профориентации, чтобы дети хорошо понимали, зачем это нужно. Но все это впереди.
Появились у профориентаторов свои возрастные наклонности; одним больше нравится детский возраст, другим подростковый. Есть еще две возрастные группы – младенческая и юношеская, но таких здесь пока очень мало. И хорошо, что мало, не хватает времени. Здесь, на западе Москвы, нет «приемных» получаса, как на северо-востоке, и общий прием длится часами. Играют дети разных возрастов, как в привокзальной детской комнате. По очереди их тестируют, так что тесты ничем не отличаются от игр. Приходят родители, приводят одних, уводят других, чтобы завтра привести снова.
Цветовые тесты дают подглядеть, как формируется человек, меняются его способности и делаются первые шаги к профориентации.
Мальчики до 10 лет более раскованны, чем девочки, послушны, чувствительны, легко возбуждаются и легко поддаются влиянию, любят играть и мистифицировать [фиолетовый), В 9—10 лет у них проявляются легкая непринужденность и искрящаяся радость («телячий восторг»); они хотят самоутвердиться, но страдают непостоянством и сильно воображают (зелено-синий), увиливая от налагаемых на них взрослыми обязанностей; при этом любят долго возиться и упрямятся (коричневый).
С 12 лет, в связи с перестройками в организме, выходят на первое место такие черты характера, как оптимизм, мечтательность, любознательность, коммуникативность и даже нежность (желто-зеленый).
В 13—14 лет добавляются рисовка, сильно выраженное честолюбие, упрямство, протест, абсолютизация в оценках, сверхмерные требования, что неизбежно приводит к конфликтам (черный). К 15—16 годам все это утихает.
В 18 лет завершается становление личности; человек отдается радости переживаний, у него еще нет благоразумной сдержанности и изощренности, и легкая возбудимость и импульсивность вызывают горячие желания, при этом активные, волевые действия могут граничить с необузданностью (коричневый).
Девочки в 4—6 лет безответственны, сентиментальны и нередко чувствуют себя одинокими; они легко возбуждаются, но чувства их неглубоки; стараются быть независимыми, но не ставят себе определенных целей (розовый). В 6—7 лет становятся заметными участие, рисовка, честолюбие (коричневый); в этом возрасте они уже могут грустить, в чем-то раскаиваться, притворяться и подвергаться чужому влиянию (фиолетовый).

Между 7 и 14 годами сочетаются женские и детские черты: обаяние, приветливость, желание очаровывать, романтизм отношений (красно-фиолетовый). В 9—10 лет к этому добавляются иллюзии без претензий, беззаботность, переходящая в безответственность, веселость и желание быть опекаемой (голубой). Между 9 и 12 появляются легкая непринужденность, эгоистичная гордость, отгороженность и состояние «начеку», которые в 13—14 лет переходят в легкую взволнованность, грусть, большую глубину чувств, выражение этих чувств и первую любовь.
На этом рубеже меняется характер (зелено-синий). 15—18 лет: возбудимость, несдержанность, доходящая до бесцеремонности и переходящая в неблагоразумие; коммуникативность и радость переживаний (зеленовато-синий).
17—19 лет: ко всему примешивается струя упрямства, Нигилизма, цинизма (черный). С 18 лет появляется и нарастает новая струя: внимание к своей внешности, потребность создать семью, дом, уют (коричневый).
Наблюдая все это, не перестаешь удивляться: насколько плохо мы знаем длинный и трудный путь, который проделывает каждый с момента рождения до того, когда сможет называться взрослым. Педиатрия, детская психология – и то, и не совсем то.
На дороге Младенчество – Детство – Отрочество – Юность и далее до конца – движение одностороннее, обгон запрещен. Но некоторые хитрят – «жгут свечу с двух сторон», торопятся жить и по соматическому или психическому возрасту обгоняют друг друга. Почти все на этой дороге попадают в одни и те же ямы, цепляются за одни и те же колючие кусты.
В это время ученые спорят, что дает человеку наследственность, а что воспитание. Другие не спорят, но делают вид, что вопрос этот слишком абстрактный или слишком конкретный.
Если не уклоняться от спора, то можно увидеть все фазы борьбы между вероятностно-статистическим и детерминистским подходами. Когда-то утверждали: всё определяет наследственность («яблоко от яблони недалеко падает»), и употребляли выражения «белая косточка», «голубая кровь». Потом принялись с такой же категоричностью отрицать: наследственность тут ни при чем, все определяет среда, дайте нам младенца, и мы сделаем из него человека. Когда стало невозможно игнорировать наследственность, решили примирить два фактора: пусть способности человека определяют и наследственность и воспитание. 80 процентов наследуется и 20 воспитывается. Опять детерминизм – безапелляционность.
Как это подсчитали: 80 и 20? Неужели все способности подчиняются этому правилу?
Теперь мы уже знаем: нет. Даже если числа истинны (а их никто не может пока ни подтвердить, ни опровергнуть), то это соотношение следует понимать как среднее: существуют способности, которые почти полностью наследуются, другие почти полностью воспитываются, й в общем наследуется больше, чем воспитывается.
Неродные дети, воспитанные вместе, обнаруживают 24 процента сходства в развитии интеллекта – это и есть влияние среды (будем считать, что у неродных и воспитанных врозь – ноль). Родные дети, выросшие вместе, обнаруживают 55 процентов сходства, а выросшие врозь – только 47. Родители и дети похожи в интеллектуальном отношении наполовину, а приемные родители и усыновленные дети – только на одну пятую, почти так же, как неродные дети, воспитанные вместе. Таким образом, хотя бы б отношении интеллекта, 80:20 близко к истине. Но тогда интересно знать: в каком возрасте приемные родители усыновили детей и как их воспитывали, ведь это тоже нужно принимать во внимание.
Сейчас также известно, что если родители родили в позднем возрасте, то психический возраст детей легко может пойти впереди истинного. Если родители занимаются активной интеллектуальной деятельностью, то их поздние дети могут быть более умными, чем ранние, при условии, что здесь не вмешаются менее интеллектуально развитые бабушка и дедушка. Но, может быть, поздний возраст – некоторая гарантия менее легкомысленного воспитания?
Таковы первые известные науке факты, говорящие о том, что изучение личности нужно начинать с родителей. Мало того, психиатры уже пробуют (хотя бы теоретически) предсказывать нежелательные в психическом отношении браки, как это делают сейчас врачи в отношении резус-фактора. Кто усомнится в том, что мало желателен брак с алкоголиком? Мы предполагаем, но акушеры знают, какие дети рождаются от подобных браков.
Свой первый психический удар человек получает при рождении.
Женщина средних лет обратилась к врачу с жалобами, что после обильных приемов пищи она всегда видит один и тот же абстрактный сон – космический вихрь превращает ее в точку, и, перед тем, как исчезнуть, она чувствует спазмы в желудке и просыпается в холодном поту. Этот сон сформировался непосредственно после рождения. Ее мать была грубая, полногрудая женщина и кормила ее по принципу: «Ешь, ешь, ешь, ибо это может оказаться твоей последней едой».
Что касается рождения, то этот акт нельзя представить себе иначе, как катастрофический выброс во внешний мир – холод, свет, шум и грубое обращение. Этот момент отчаяния прекращается нежным прикосновением, поглаживанием и укутыванием в теплое одеяльце (животные вместо этого облизывают своих детенышей) – происходит психологическое рождение. Без такой, казалось бы, неприметной процедуры жизнеспособность организма резко снижается и возрастает вероятность летального (смертельного) исхода, что нередко наблюдается у подкидышей.
Сначала младенец видит свет, потом отличает белое от черного, различает формы и начинает чувствовать движение, следя за перемещающимися предметами. Это дает ему возможность сосредоточить внимание на телесных ощущениях и испробовать основные формы связи с внешним миром.
Отсюда начинается «марафон» развития интеллекта. Зачинщиком является мать, потом к ней присоединяется отец, позднее все большую нагрузку отец берет на себя – и воспитание интеллекта заканчивается к 10 годам.
Особенность «марафона» – соблюдение графика, значительно более строгое, чем на железной дороге. Существуют две предельные скорости: минимальная и нормальная; отстав, невозможно нагнать, произвольно увеличив скорость. В этом отставании и заключается разница в умственном развитии детей. Самый медленный темп дает к 10 годам половинный объем умственного развития – минимум для нормального человека. Этот темп обеспечивает самые необходимые навыки общежития, насаждаемые родителями, другими взрослыми и сверстниками – проводниками воспитательского воздействия их родителей.
Мать разговаривает с новорожденным как со взрослым. Но ведь он не понимает! Ничего, научится: сначала освоит мимику и жесты, потом речь, станет сам произносить часто употребляемые слова, бессознательно склонять и спрягать. Как скоро он этого достигнет – менее важно, потому что гениальные в интеллектуальном отношении люди нередко начинают говорить позже своих заурядных сверстников.
Полное исключение ребенка из социальной среды (например, потерялся в лесу, но не погиб, приспособился, помогли звери) приводит к нарушению графика. Чем раньше по возрасту произошла изоляция и чем она была продолжительнее, тем сокрушительнее ее последствия: ребенок становится дебильным или идиотом, и никакая медицина его не сможет спасти,
При нормальном родительском воздействии дитя развивается как дитя: слезы, дрожание губ, высокий и хныкающий голос, кисло-капризная «рожица» («Опять я виноват – так всегда и во всем») и «урчащий» восторг; слова «хочу», «дай», «большой», «самый-самый», мягкость любимого одеяла, теплота материнской щеки; исследовательские игры – кусок мыла в ванне становится пароходом, а потом подводной лодкой; первое нажатие кнопки звонка, первый глоток воды из садового шланга. С 10-месячного возраста появляется компонент взрослого – то, что психологи называют самоактуализацией: сознательный опыт, умение что-то делать («сходить на горшок», раздеться, пользоваться ложкой и вилкой) и гордость от этого умения.
Вступление в детство означает переход от животного к человеческому: вместо действий на основе одной имеющейся догадки – выбор и принятие решения, от пассивного знакомства с окружающим миром к активному поиску впечатлений, выражение потребности не только быть понятым, но и понятым правильно. Этот путь к человеку – самому творческому животному на земле – каждый раз проделывают дети.
Младенчество заканчивается с переходом от черно-белого восприятия мира к цветному: с трех лет распознаются желтый и синий, на четвертом году жизни – красный и зеленый. Видеть – еще не значит распознавать; видят и во младенчестве.
В детской личности устанавливаются новые отношения между компонентами дитя и взрослого. Дитя в детстве: потупленный взор, привычка ковырять в носу (в подростковом возрасте ее заменит привычка грызть ногти), ерзанье, хихиканье; лексикон дополняется словами «не хочу», «не буду», «а мне какое дело». Но компонент взрослого явно укрепился: в багаже опыта есть сведения о том, как празднуется день рождения, как украшается елка, что значит прикоснуться к раскаленной плите и упасть со стеклянной банкой, на всю жизнь сохранится в памяти эпизод с собакой, которая не послушалась взрослых, перебегала улицу и погибла. Много, очень много слов – «почему», «а что, если», «где», «откуда». Правда, взрослый еще слаб и легко «выводится из строя» страхами дитя и указаниями третьего компонента – родителя. Мама говорит: «Нельзя! Не трогай это!» – и ребенок отходит, заплакав, но при случае дотронется рукой до запретного хрустального бокала.
По отношению к своим детям родители ведут себя точно так же, как их родители относились к ним. И дети будут подражать своим родителям сначала в играх, а потом в отношении к собственным детям.
Родитель – это «грозный вид», нахмуренный лоб, поджатые губы, руки на бедрах ели скрещенные на груди, указующий перст, качание головой, вздохи, цоканье языком, поглаживание по головке. Словарь родителя: «нет», «не трогай», «не бери», «ну-ну», «молодец», «умница», множество уменьшительных окончаний и бранные выражения, наспех переделанные для родительского употребления.
Мать говорит забежавшему на кухню сыну: «Нет, сейчас уже время ужинать. Ты ешь слишком много конфет. Испортишь себе зубы. Придется пломбировать (у родителей тоже запломбированные зубы). Если ты съешь сейчас, то не будешь ужинать (мама в это время пробует суп). Иди на улицу и еще поиграй. Ты всегда грязнишь на кухне. Почему ты никогда не убираешь за собой?» В науке межличностных коммуникаций это называется «прочистка мозгов» – подавление личности нелогичным общением. И сын, действительно ошарашенный, выбегает на улицу.

Если ребенку не читали и не рассказывали сказок, не поощряли игры и он жил только в мире взрослых, компонент дитя не разовьется и человек пройдет по жизни, не понимая юмора, слишком серьезный, жесткий и, может быть, жестокий. Неразвитый компонент родителя – это результат отсутствия родительского воспитания, и этим можно объяснять отсутствие совести. Неразвитый взрослый – психопатическая личность, выросшая на почве, удобренной плохими семейными отношениями, недоверием, придирками и реакцией на эти придирки: «Вы сказали, что я плохой – и я буду плохим». Тот, у кого родителя трудно отличить от взрослого, в жизни часто заблуждается. А совмещение компонента дитя с компонентом взрослого приводит к иллюзиям, смешению реального и фантастического, правды и неправды, рационального и иррационального – это свойственно многим творческим личностям.
Еще в конце 2-го и в начале 3-го года у ребенка вырабатывается установка по отношению к родителям и взрослым вообще. «У меня неблагополучно – у вас благополучно». Взрослые – большие, умные, предусмотрительные, аккуратные – всегда и во всем правы. А ребенок маленький, ничего не знает, попадает впросак, ломает, разбивает, рвет, пачкает и во всем оказывается не прав. Чтобы компенсировать эту неполноценность, он с увлечением играет со сверстниками в игру «Мое лучше, чем твое».
Со временем эта установка перейдет в другую: «У меня благополучно – у вас благополучно», когда восторжествуют здравый смысл и нормальное воспитание.
Но воспитание, к сожалению, не всегда бывает нормальным, и тогда развитие грозит уйти в сторону. «У меня неблагополучно – у вас (тоже) неблагополучно» – результат отсутствия внимания и ласки, в которых ребенок всегда нуждается и которые ему нужно дать. Так получается погруженная в себя – аутичная личность, с плохо развитым компонентом взрослого, плохо поддающаяся психотерапии (потому что врач – «тоже неблагополучный» и ему нельзя доверять).
«У меня благополучно – у вас неблагополучно» – результат жестокого обращения, когда после очередной взбучки ребенок «уползает, зализывая свои раны», жалеет себя и выражает свои отношения следующей логикой: «Если я бедный, значит, я хороший, если я бедный из-за вас, значит, у вас что-то неладно». В США каждый час пятеро младенцев получают телесные и психические раны от своих родителей и вполне могут стать психически слабоумными (имбецильными) и социально-преступными.
Воспитание, в котором участвуют мать и отец, их взаимоотношения накладывают глубокий, отпечаток на формирующуюся личность.
Как утверждают статистики, хорошие отношения с родителями в стабильных семьях дают 95-процентную гарантию поведения, которое, по осторожному выражению психологов, «не отклоняется от нормы». Плохие отношения в стабильных семьях понижают эту гарантию до 75, а в нестабильных – до 10 (!) процентов.
Дети в 2,5—3,5 года реагируют на распад семьи плачем, расстройством сна, пугливостью, снижением любознательности и опрятности, они рьяно отдают себя собственным вещам и игрушкам, создавая вымышленный мир, населенный голодными, агрессивными животными. В 5-6 лет больше переживают девочки, проявляя тревожность, раздражительность, неугомонность и агрессивность.