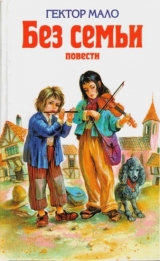
Текст книги "Ромен Кальбри"
Автор книги: Гектор Мало
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Глава VIII
Я заснул весь в слезах и спал под домашним кровом куда менее спокойно, чем накануне среди лугов Доля. Еще до рассвета, как только прилив начал биться о прибрежные скалы, я тихонько выбрался из «рубки».
Вчера, когда я в четыре часа дня пришел домой, морской отлив только начинался, и теперь прилив говорил о том, что скоро наступит день, а я очень боялся, как бы меня не увидел кто-нибудь из соседей.
Строя планы своего путешествия, я не думал, что мне будет так тяжело покидать родной кров; дойдя до терновой изгороди, отделявшей наш дом от ланд, я невольно остановился и обернулся. Сердце мое разрывалось от горя. Петух кричал в нашем курятнике, собаки соседей, разбуженные моими шагами, надрывались от лая. Я слышал, как они гремели цепями, бросаясь в мою сторону. Занималась заря, узкая белая полоска света мерцала над вершинами скалистого берега, и наш домик на этом фоне казался совсем черным.
И мне вспомнилось все мое детство с того времени, как я стал понимать окружающее. Вспомнилось, как мой отец по ночам брал меня на руки, ходил со мной по комнате и, стараясь убаюкать, напевал песенку:
Гравий шуршит по земле,
Тир-лир-лир…
Вспоминалась пойманная мною чайка со сломанным крылом, которая стала ручной и ела из моих рук; вспомнились ночные бури, когда мама не могла спать, боясь за отца, ушедшего в море, и мы молились с ней перед мерцающей восковой свечкой. Я был свидетелем всех ее мучений и тревог, и вот теперь, если я уеду, она снова будет страдать из-за меня. Покинуть ее… да ведь это настоящее преступление!
Маяк погас, и казалось, море светится под еще темным небосводом. В деревенских домах из труб потянулись кверху столбы желтого дыма. Раздался стук сабо по каменистым улицам. Деревня просыпалась.
А я все сидел, скорчившись на склоне среди кустов терновника, в нерешительности и сомнении, несчастный, подавленный и недовольный собой. Жажда приключений, смутная надежда самому выбиться в люди, не прося ни у кого помощи, врожденная любовь к морю, заманчивое будущее – все толкало меня прочь из Пор-Дье. Привычки, детская робость, естественная в моем возрасте, вчерашние испытания, а прежде всего любовь к матери тянули меня обратно к дому.
В церкви зазвонили колокола. Не успели смолкнуть его звуки, как мама открыла дверь и появилась на пороге – она шла на работу. Но где она будет сегодня работать? В нашем поселке или наверху, в предместье, где жили крестьяне, занимавшиеся земледелием на равнине? Если в поселке, то она сейчас спустится вниз к морю; а если в предместье, то поднимется наверх и пройдет как раз мимо того места, где я сижу. Сердце мое сжалось от мучительного беспокойства, я был очень взволнован и не знал, на что решиться. Но судьба захотела, чтобы мама в тот день работала в поселке, и мне не пришлось бороться с искушением броситься ей на шею.
Когда я услышал, как за ней со скрипом захлопнулась калитка, я вскочил, чтобы еще раз посмотреть на нее. Но не увидел ничего, кроме ее белого чепчика, мелькавшего в просветах между ветвями.
Солнце взошло над скалами и теперь хорошо освещало наш домик. Под его лучами мох на соломенной крыше казался чудесным зеленым бархатом, и на нем были разбросаны пучки желтых цветов. Подул легкий ветерок, он принес с собой утреннюю свежесть и запах моря; даже сейчас, рассказывая свою историю, я ощущаю на лице это дуновение и легкий вкус соли на губах.
Но я не хочу слишком долго предаваться воспоминаниям, которыми невольно увлекся.
Я покинул родной дом так же, как покинул Доль, то есть бегом, и бежал до тех пор, пока у меня не перехватило дыхание. Стремительный бег помогает заглушить сердечную боль, но размышлять можно только в спокойном состоянии. А мне было над чем подумать. Я ушел из дому, но ведь это еще не все; добраться до цели – вот в чем главная трудность.
Я уселся возле какого-то плетня. Место было пустынное, и я не боялся с кем-нибудь встретиться. Только вдали на скалистом берегу моря виднелась фигура таможенного сторожа, которая вырисовывалась на ярком фоне восходящего солнца.
После долгих размышлений я решил не идти по большой дороге, как предполагал раньше, а направиться вдоль морского берега. Двухдневный опыт показал мне, что большие дороги мало пригодны для тех, у кого пустой карман. На морском берегу можно наловить устриц или креветок. При мысли об устрицах у меня даже слюнки потекли. Как давно я их не ел! Какое пиршество я себе устрою!
Я поднялся. Сколько же миль до Гавра, если идти берегом? Гораздо больше, должно быть… Но что за беда! Даже если придется идти по песку целый месяц, и то не страшно.
Однако я не решался немедленно сойти вниз, боясь повстречаться с кем-нибудь из жителей Пор-Дье, которые могли бы меня узнать. Только пройдя около четырех лье вдоль скалистого берега, я спустился на песок, чтобы поискать себе чего-нибудь на завтрак.
Устриц я не нашел, пришлось удовольствоваться мидиями, густо облепившими скалы. Утолив немного голод, мне следовало бы продолжить путь. Но я был так счастлив, снова увидев море, что принялся бегать по берегу и рыться в песке. Ведь я мог делать сейчас все что угодно: петь и скакать! Как не похоже все это на мою темницу в Доле! Право, путешествовать гораздо приятнее!
Найдя сосновую доску среди груды камней, я пришел в полный восторг: из нее можно сделать лодку! Обстругав доску ножом, я придал ей форму морского судна. В середине, ближе к носу, я просверлил дыру, воткнув в нее палочку из орехового дерева, и подвязал ее ивовыми прутиками, чтобы она стояла прямо. Крест-накрест я прикрепил к ней вторую палочку, к которой привязал свой платок. Получился великолепный фрегат; я назвал его именем мамы.
Я притащил несколько охапок сухих водорослей и устроил себе постель. Конечно, это был не дворец, но я считал, что тут куда приятнее, чем в болотах Доля. Я был защищен от холода, а главное, огражден от всяких неожиданностей. Под голову взамен подушки я положил большой круглый камень, а вместо ночника передо мной мерцал маяк, и я не чувствовал себя одиноким. Я спал тут очень спокойно, словно лежал под крышей, и всю ночь плавал на своем фрегате по неведомым странам. После кораблекрушения я попал на чудесный остров, где на деревьях, как яблоки на яблоне, висели шестифунтовые хлебы и жареные котлеты. Дикари сделали меня своим королем. Мама тоже очутилась здесь и стала королевой. А когда мы пили очень вкусный и сладкий сидр, наши подданные кричали: «Король пьет! Королева пьет!»
На заре меня разбудил голод. Жестокий голод, сводивший желудок и вызывающий тошноту. Однако мне пришлось дожидаться отлива и только тогда заняться поисками мидий. Но, странное дело, чем больше я их ел, тем острее чувствовал голод. Мой завтрак длился больше двух часов, я даже устал открывать раковины и все же не мог наесться досыта. Я подумал, что кусок хлеба был бы весьма приятным добавлением к мидиям. Но где его достать?
Я все время говорю о хлебе, пище и голоде, и вы, пожалуй, вообразите, что я ужасный обжора. На самом деле у меня был просто хороший аппетит, как у всех детей моего возраста, но я оказался в таких условиях, что вопрос о добывании пищи стал для меня самым существенным. Тот, кто думает, что имеет понятие о голоде по тем приятным ощущениям, какие он испытывает, когда садится за стол, опоздав на час к обеду, не представляет себе, что такое настоящий голод. Меня могут понять лишь люди, которым после долгих месяцев недоедания приходилось оставаться целыми днями с пустым желудком.
Если бы в том месте, где я провел ночь, водились устрицы, я охотно остался бы еще на некоторое время. Мне здесь очень нравилось потому, что с берега было удобно запускать фрегат. Меня никто не беспокоил, поблизости была пещера и маяк, и мне не хотелось с ними расставаться, но голод заставил меня двинуться дальше в надежде найти что-нибудь посытней мидий.

Сняв снасти с фрегата и спрятав парус в карман, я покинул свое гостеприимное убежище. Как полагается настоящему путешественнику, прежде чем уйти, я придумал для него название: «Королевский грот».
Пока я шел вдоль скалистого берега, меня все время терзало желание съесть кусок хлеба, и в конце концов голод сделался просто невыносимым. По пути мне встретилась речонка, которую надо было пройти вброд – вернее, переплыть, потому что вода в ней доходила мне почти до плеч. Пришлось снять с себя одежду и перенести ее на голове. От этой неожиданной холодной ванны ощущение голода стало еще мучительнее. Ноги у меня дрожали, в глазах темнело, голова кружилась…
В таком плачевном состоянии я еле добрался до деревни, которая амфитеатром поднималась над морем. Я решил пройти через нее, так как был уверен, что не встречу там никого из знакомых. Придя на площадь возле церкви, я не мог побороть желания остановиться около булочной. В окне лежали большие румяные ковриги, а из открытой двери струился чудесный аромат муки и сдобных лепешек. Я с восхищением смотрел на это соблазнительное зрелище, сожалея о том, что мои глаза не могут подобно магниту притянуть эти ковриги с витрины прямо мне в рот. Вдруг я услышал на площади позади себя какой-то шум, стук сабо, громкие голоса. Это ребята выходили из школы.
Потому ли, что они меня не знали, потому ли, что я действительно выглядел довольно необычно, но, заметив меня, они тотчас же обступили со всех сторон. И в самом деле, с фрегатом под мышкой, с узелком в руке, в запыленных башмаках, со взъерошенными волосами, торчавшими из-под фуражки, я, наверно, казался им очень забавным. Те, что подошли первыми, подозвали остальных, и скоро я оказался в тесном кругу ребят, которые с любопытством рассматривали меня, словно диковинного зверя.
Особенно заинтересовал их мой фрегат – вернее, кусок дерева, который я величал фрегатом. Они стали переговариваться между собой.
– Жозеф! Как ты думаешь, что у него под мышкой?
– Разве ты не видишь? Доска!
– Нет, это, верно, музыка.
– Дурак, какая музыка! Ведь у него нет сурка.
«Нет сурка»… Они, видимо, принимают меня за савояра [3]3
Савояр – уроженец французской провинции Савойи. Савояры промышляли игрой на шарманке и водили с собой сурков.
[Закрыть]. Гордость моя была уязвлена.
– Это фрегат! – важно заявил я и попытался выйти из моего окружения.
– Фрегат! Вот дурак! Посмотрите на этого моряка! – Меня оглушили их крики. Они хохотали и прыгали вокруг меня.
Я хотел вырваться от них, как вдруг почувствовал, что один мальчишка, самый нахальный из всей банды, тащит у меня фрегат. В то же время другой схватил мою фуражку, и я увидел, как она полетела в воздух.
Моя фуражка! Моя чудесная праздничная фуражка! Я растолкал тех, кто стоял передо мной, поймал фуражку на лету, надвинул на голову и вернулся со сжатыми кулаками, решив как следует отомстить.
Но тут раздался колокольный звон. Мальчишки бросились к паперти, увлекая за собой и меня.
– Крестины, крестины! – кричали они.
Крестные мать и отец выходили из церкви. Едва переступив порог, крестный, очень представительный господин, сунул руку в большой мешок, который слуга нес следом за ним, и бросил собравшимся горсть конфет. Началась свалка. Ребята еще не успели подняться с земли, как крестный бросил вторую горсть. Теперь здесь были не только сладости: по мостовой, звеня, покатились монеты. Одна из них очутилась возле меня, и я кинулся за ней. Пока я ловил ее, крестный кинул новую горсть, и мне удалось схватить монету в десять су. Хотя она и недолго лежала на земле, другие дети успели ее заметить. Обозлившись на то, что она досталась не им, они с громким криком накинулись на меня:
– Он чужой! Не давайте ему!
И старались наступить мне на руку, чтобы отнять монету. Но я крепко держал ее и не разжал руку. По счастью, раздача еще не окончилась. Крестный снова бросил горсть монет, и ребята кинулись за ними…
У меня оказалось целых двенадцать су. Я вошел в булочную и попросил отрезать фунт хлеба. Никакая музыка на свете не казалась мне упоительней хруста румяной корки под ножом булочника! Уписывая за обе щеки купленную краюху белого хлеба, я поспешил выбраться из деревни. Желание отомстить испарилось как дым, мне хотелось одного – ускользнуть от своих врагов.
Я шел около двух часов, пока не добрался до старой будки таможенной охраны, где и решил переночевать.
Я не раз слыхал, что «богачам плохо спится», и теперь испытывал это на себе. Я сделал чудесную постель, собрав несколько охапок сухого клевера, но спал плохо, так как все время думал о том, как мне лучше истратить свои деньги. За фунт хлеба я заплатил три су – значит, от моего богатства у меня оставались еще девять су. Следует ли проесть их в три дня или же купить на них нужное снаряжение, чтобы прокормить себя в продолжение всего остального путешествия? Этот вопрос мучил меня всю ночь. Если бы вчера у меня было в чем сварить улов, я не страдал бы так сильно от голода, а наелся бы вареных крабов или рыбы. А будь у меня хоть самая маленькая сетка, я наловил бы сколько угодно креветок.
Проснувшись утром, я решил в первой же деревне, которая встретилась мне на пути, истратить одно су на покупку спичек, три су – на бечевки, а на остальные деньги купить железную кастрюлю для варки рыбы. Должен, однако, признаться, что я остановился на этом мудром решении не столько из благоразумия, сколько из-за желания иметь бечевку. Для скрепления снастей моего фрегата ивовые прутья были, конечно, мало пригодны и не шли ни в какое сравнение с бечевкой. А если я куплю бечевки на три су, мне вполне хватит и на снасти, и на сачок.
Поэтому прежде всего я купил бечевку, а затем спички. Но с кастрюлей вышло непредвиденное затруднение: самая дешевая стоила пятнадцать су. К счастью, я заметил в углу лавки сильно помятую посудину, брошенную там, вероятно, потому, что ее уже нельзя было выправить. Я спросил, не продается ли она. И лавочница «из любезности», как она сказала, согласилась уступить мне ее за пять су.
В этот день я прошел еще меньше, чем накануне, но, как только нашел подходящее местечко, немедленно занялся изготовлением крючка, обруча и маленькой сетки. Я привык к этой работе с раннего детства и потому легко справился с ней. Затем с аппетитом пообедал креветками, которых наловил своим сачком и сварил в морской воде, поставив кастрюльку на костер, разведенный из сухого валежника.
Но полного счастья никогда не бывает. Я расположился со своей кухней на морском берегу, у подножия скалы, и дым от костра, клубясь, потянулся вверх. Это привлекло внимание таможенного сторожа. Я видел, как он наклонился над краем скалы и стал вглядываться, откуда взялся огонь. Потом он отошел, ничего не сказав. Но вечером, подыскивая себе местечко для ночлега, я заметил, что сторож следит за мною и как будто смотрит на меня с подозрением. Действительно, я выглядел, наверно, очень странно. С фрегатом на спине, с узелком в руке, с кастрюлькой, болтающейся с одного бока, и сачком – с другого, я, должно быть, не внушал к себе никакого доверия. Недаром, когда я проходил по деревне или встречал кого-нибудь из крестьян, все смотрели на меня с изумлением и не останавливали только потому, что я сразу же прибавлял шагу. А вдруг сторож вздумает расспрашивать меня, зачем я здесь и что делаю? Да еще задержит! Я испугался и, чтобы ускользнуть от него, не пошел вдоль берега, а свернул на первую встречную дорогу, ведущую в глубь равнины. Сторож не мог пойти за мной: я прекрасно знал, что он не имеет права покинуть свой пост.
В поле можно было не бояться таможенных сторожей, но зато там не было и хижин для ночлега. Приходилось спать под открытым небом. Как назло, я нигде не видел ни одного дерева, только вдали на алом фоне заката черными точками выделялось несколько стогов сена. Очевидно, мне предстояла такая же ночь, как на болотистых лугах Доля. Однако она оказалась гораздо приятнее. Я нашел в поле забытые вилы и, воткнув их в стог сена, устроил нечто вроде навеса, на который набросал несколько охапок люцерны. Таким образом, у меня получилось душистое гнездышко, где я был хорошо защищен от холода.
Боясь, что меня застигнут косари, я вскочил на ноги, как только предрассветный холод и пение птиц разбудили меня. Мне страшно хотелось спать, ноги ныли от усталости, но я больше всего опасался попасться кому-нибудь на глаза и решил выспаться где-нибудь днем.
Вы, конечно, понимаете, что время еды определял не мой аппетит, а прилив и отлив моря: завтракать или обедать я мог только после того, как море отступало и я имел возможность наудить рыбы. В восемь часов утра отлив еще не начинался; следовательно, мне предстояло поесть не раньше полудня и ограничиться при этом одними крабами, которых можно ловить на песке, как только начнет спадать вода. Чтобы не оказаться впредь в таком грустном положении, я решил запастись провизией на будущее и, покончив с едой, снова принялся ловить креветок. Я наловил их очень много, и как раз того сорта, который особенно ценится в Париже, а кроме того, поймал три чудесные камбалы.
Когда я вернулся к берегу, отыскивая подходящее местечко, чтобы сварить пойманную мною рыбу, я повстречал даму, которая гуляла с двумя девочками и учила их откапывать в песке раковины деревянной лопаткой.
– Ну что, мальчуган, – обратилась она ко мне, – много ты наловил рыбы?
У дамы были красивые седые волосы, приятное лицо и большие добрые глаза. Голос ее звучал ласково. За эти четыре дня ко мне в первый раз обратились с приветливыми словами. Девочки были белокурые и очень хорошенькие. Я ничуть не испугался и не бросился бежать.
– Да, сударыня, – ответил я, остановившись и раскрывая сачок, где с легким шуршанием копошились креветки.
– Не хочешь ли продать свой улов? – спросила дама.
Можете себе представить, как я обрадовался этому предложению! Огромные ковриги заплясали перед моими глазами, и я уже слышал запах поджаренной хлебной корки.
– Сколько тебе заплатить?
– Десять су, – ответил я наугад.
– Десять су? Да одни креветки стоят не меньше сорока. Ты не знаешь цены своему товару. Ты, верно, не рыбак, мой милый?
– Нет, сударыня.
– Если ты удишь рыбу для собственного удовольствия, то я предлагаю тебе в обмен за креветки монету в сорок су и за рыбу столько же. Согласен?
Дама протянула мне две серебряные монеты. Я был так ошеломлен ее даром, что онемел от радости.
– Ну, бери же, – продолжала она, видя мое смущение и желая меня ободрить. – Ты можешь купить на эти деньги все, что тебе понравится.
И она вложила мне в руку четыре франка. Одна из девочек в это время высыпала креветки из моего сачка в свою корзинку, а другая взяла рыбу, нанизанную на веревку.
Четыре франка! Как только мои покупательницы отошли, я в восторге стал прыгать по песку будто сумасшедший. Четыре франка!
В четверти лье от меня виднелись деревенские домики. Я сразу направился гуда, чтобы купить два фунта хлеба. Теперь я не боялся ни жандармов, ни таможенников, ни полевых сторожей. Если я встречу кого-либо из них и они станут меня расспрашивать, я протяну им четыре франка и скажу:
«Разрешите мне пройти. Вы видите, какай я богач!»
Но я не встретил никого – ни жандарма, ни таможенного сторожа, зато не нашел также и булочной. Два раза прошелся я по единственной улице этой деревни: я видел трактир, бакалейную лавку, харчевню, но булочной не было.
Однако мне нужен был хлеб! И, слыша, как звенят монеты у меня в кармане штанов, я не мог от него отказаться. Теперь я уже не был таким робким, как прежде. Хозяйка харчевни стояла на пороге своего дома, и я спросил у нее, где живет булочник.
– У нас булочной нет, – ответила она.
– Тогда, может быть, вы продадите мне фунт хлеба?
– Мы не продаем хлеба, но, если вы голодны, я могу покормить вас обедом.
Через открытую дверь доносился аппетитный запах капусты, и было слышно, как кипел суп в котелке. Я не мог устоять.
– Сколько стоит обед?
– Порция супа, капуста с салом и хлеб – тридцать су, не считая сидра.
Цена была очень высокая. Но запроси она с меня целых четыре франка, я бы все равно согласился. Хозяйка усадила меня за стол в небольшой низкой комнате и принесла краюху хлеба, весившую не меньше трех фунтов.
Эта краюха хлеба меня погубила. Сало было очень жирное, и я, вместо того чтобы есть вилкой, небольшими кусочками, положил его на хлеб и сделал огромные бутерброды, такие толстые и аппетитные! Сначала я съел один бутерброд, затем второй и третий. До чего же было вкусно! Краюха хлеба быстро уменьшалась. Я отрезал четвертый ломоть – огромный, еще больше прежних – и решил, что он будет последним. Но, покончив с ним, я увидел, что у меня остается еще немного сала, и снова отрезал кусок хлеба. От краюхи остался теперь только тоненький ломтик. В конце концов, если мне выпал такой счастливый случай, как же им не воспользоваться!
Я думал, что сижу в комнате один, но вдруг услышал какой-то шорох, тихий разговор и сдержанный смех. Я обернулся и посмотрел на дверь. Там за стеклом, подняв занавеску, стояли хозяйка харчевни, ее муж и работница – они смотрели на меня и смеялись.
Никогда еще я не был так смущен. Они вошли в комнату.
– Ну как, сударь, хорошо ли вы пообедали? – спросила меня хозяйка.
И все снова громко расхохотались.
Мне хотелось поскорей убежать, и я протянул ей монету в сорок су.
– Обычно я беру с человека за обед тридцать су, но с такого обжоры следует взять сорок, – сказала хозяйка и, спрятав монету, не дала мне сдачи.
Я вышел за дверь, но она меня окликнула:
– Смотри, будь осторожен, иди медленно, не торопясь, а то еще лопнешь дорогой!
Выслушав ее совет, я пустился бежать со всех ног, словно за мною гнались, и, только оказавшись на порядочном расстояний, замедлил шаг.
Мне было досадно, что я истратил так много денег на один обед, но зато я здорово подкрепился. Ни разу со дня моего ухода из Доля я не чувствовал себя таким бодрым и сильным.
Я сытно пообедал, в кармане оставалось еще сорок су… Мне казалось, что я могу завоевать весь мир!
Если покупать только хлеб, то моих денег хватит на несколько дней. Я решил покинуть морской берег и идти по тому маршруту, который наметил прежде, то есть через Кальвадос.
Тут я столкнулся с непредвиденным затруднением. Где я нахожусь? На пути мне попалось несколько деревень и два города, но я не знал их названий. На большой дороге стояли столбы, указывающие километры, но я шел по берегу моря, где никаких обозначений не было, а спросить, как называется ближайшая деревня или город, я не решался. Мне казалось, что, пока я шагаю, как человек, твердо знающий, куда он идет, мне ничего не грозит; но, если я начну расспрашивать, как пройти, меня немедленно задержат. Я хорошо представлял себе очертания департамента Ла-Манш и знал, что он вдается клином в море; следовательно, если я не хочу идти по побережью, то должен направиться на восток. Но куда приведет меня дорога, по которой я собираюсь пойти: в Изиньи или в Вир? Если в Изиньи, то я вновь выйду на морской берег, где могу заняться рыбной ловлей. Если же в Вир, то пищи там нет, ибо нет моря, и мне нечем будет пополнить запасы, когда я истрачу мои сорок су.
Вопрос был очень серьезный, и я это прекрасно понимал.
После долгих колебаний я решил идти наобум и пошел прочь от моря по первой встретившейся мне дороге, надеясь вскоре увидеть путевые знаки. Действительно, мне тут же попался столб с надписью: «Кетвиль – три километра». Значит, надо пройти три километра, а там я во всем разберусь.
Придя в Кетвиль, я увидел на стене новую надпись, сделанную белыми буквами на голубом фоне: «Дорога номер 9 департамента Ла-Манш. От Кетвиля до Гальаньера – пять километров». Но я не помнил таких названий на карте и очень встревожился. Где же я? Уж не заблудился ли?
Я прошел через всю деревню и, отойдя от нее на порядочное расстояние, подальше от любопытных глаз, присел у подножия гранитного креста, стоящего на самой верхушке холма у перекрестка четырех дорог. Вокруг расстилалась обширная равнина, местами покрытая лесом; кое-где виднелись каменные колокольни церквей, а вдали белая полоса моря сливалась с горизонтом. Я находился в пути с раннего утра. Солнце припекало все сильней, было очень жарко. Облокотившись на ступеньку, чтобы спокойно обдумать свое положение, я незаметно уснул.
Проснувшись, я почувствовал, что кто-то пристально смотрит на меня, и услышал, как чей-то голос произнес:
– Лежи спокойно, не шевелись!
Конечно, я не послушался, а тотчас же вскочил и стал озираться по сторонам, собираясь поскорее удрать.
В голосе, звучавшем сперва очень мягко, послышалось нетерпение:
– Не двигайся, мальчик! Ты очень подходишь к этому пейзажу. Если ты примешь прежнее положение и полежишь спокойно, я дам тебе десять су.
Я сел. Мужчина, говоривший со мной, по-видимому, не собирался меня арестовывать. Этот высокий молодой человек в мягкой фетровой шляпе и сером бархатном костюме сидел на куче камней и держал на коленях кусок картона. Я понял, что он рисовал мой портрет – вернее, весь ландшафт, крест и мою фигуру, как выразился, подходившую к пейзажу.
– Можешь не закрывать глаза и разговаривать, – сказал он мне, когда я улегся в прежнем положении. – Как называется это местечко?
– Не знаю, сударь.
– Ты разве не здешний? Может быть, ты лудильщик?
Я невольно расхохотался.
– Пожалуйста, не смейся! Если ты не лудильщик, то объясни, зачем у тебя за спиной висит эта кухня?
И сразу же начались расспросы. Однако художник казался мне таким славным малым, что я сразу почувствовал к нему полное доверие. Я рассказал ему все: что я иду в Гавр, в кастрюле варю пойманную рыбу, нахожусь в пути уже целую неделю, а кармане у меня сорок су.
– И ты не боишься говорить, что у тебя с собой такая уйма денег? А вдруг я тебя убью и ограблю? Да ты просто храбрец! Ты что же, не веришь в разбойников?
Я снова расхохотался. Рисуя, он продолжал задавать мне вопросы, и я невольно рассказал ему, как жил до своего путешествия.
– Что ж, мальчуган, тебе есть чем гордиться, ты, право, занятный парень! Сначала, правда, ты сделал большую глупость, но потом сумел вывернуться из беды. Люблю таких молодцов! Хочешь со мной дружить? И знаешь, что я тебе предложу? Я тоже иду в Гавр, но иду не спеша. Возможно, я попаду туда только через месяц – все зависит от того, по каким местам я пойду. Если они мне понравятся, я буду останавливаться и рисовать, а нет – пройду мимо. Давай пойдем вместе. Ты понесешь мой мешок – вон он лежит, – а я буду тебя кормить и заботиться о твоем ночлеге.
На следующий день я рассказал художнику всю мою историю – вы ее уже знаете.
– Ну и негодяй твой дядюшка! – воскликнул он, выслушав мой рассказ. – Хочешь, вернемся в Доль? Ты мне его покажешь, а я нарисую на него карикатуры и расклею на стенах по всему городу. Внизу я подпишу: «Вот Симон Кальбри – он морил голодом своего племянника». Через две недели ему придется бежать из города!.. Нет, ты не хочешь? Ты предпочитаешь с ним не встречаться? Ты добрый мальчик и не собираешься мстить. Может быть, ты и прав. Но в твоей истории есть одно обстоятельство, которое мне не нравится. Ты решил стать моряком – хорошо. По-видимому, это твое призвание – тоже хорошо, и я вовсе не собираюсь спорить с тобой, хотя, по-моему, это дрянное занятие: постоянные опасности, тяжелый труд и ничего больше. Тебя привлекают приключения и подвиги – еще раз хорошо, если тебе это нравится. Ты поступаешь по своей воле, и хотя ты еще молод, но после всего, что ты вытерпел у своего дядюшки, пожалуй, имеешь на это право. Но одного ты не имеешь права делать – это причинять такое горе своей матери. Подумал ли ты, сколько волнений и страха испытала она за эту неделю, с тех пор как дядя сообщил ей о твоем побеге? Она, наверно, думает, что тебя уже нет в живых! Поэтому сейчас же достань из моего дорожного мешка письменные принадлежности и, пока я сделаю набросок этой мельницы, напиши матери обо всем, что ты мне только что рассказал: как и почему ты убежал от дяди и как ты прожил все эти дни. Напиши также, что случай – можешь даже прибавить «счастливый случай» – свел тебя с художником Люсьеном Арделем и что художник этот доведет тебя до Гавра, где сдаст с рук на руки своему другу-судовладельцу, чтобы тот устроил тебя на судно, отправляющееся в безопасное плавание. Ты увидишь, как легко станет у тебя на душе, когда ты напишешь такое письмо.
Люсьен Ардель оказался прав. Хоть я и заливался слезами, пока писал маме письмо, но, окончив его, я почувствовал себя гораздо спокойнее. Словно гора свалилась у меня с плеч.
Несколько дней, проведенных с Люсьеном Арделем, были самыми счастливыми днями за все время моего путешествия.
Мы шли вперед без определенного маршрута, порой надолго останавливаясь перед каким-нибудь деревом или ландшафтом, который художник тут же зарисовывал, а порой двигаясь без передышки весь день. Я нес его дорожный мешок. Он был не тяжелый и надевался на спину, как солдатский ранец. Частенько художник брал его у меня и нес сам, давая мне отдохнуть. На мне лежала обязанность покупать каждое утро провизию: хлеб, крутые яйца, ветчину и наполнять фляжку вином, которое мы разбавляли водой. Завтракали мы обычно на большой дороге в тени какого-нибудь дерева или просто где придется. Вечером ужинали в харчевне. Ел я уже не креветок и крабов, а вкусный горячий суп; спал не на сене, а на матрасе, накрытом чистыми белыми простынями, и раздевался перед сном.
Люсьен Ардель был удивлен тем, что я оказался более развитым, чем обычно бывают крестьянские дети. Те знания, которые я приобрел у господина Биореля, нередко изумляли его. Я знал больше, чем он сам, о жизни деревьев, насекомых и трав, помнил их названия, имел понятие о том мире бесконечно малых существ, о котором знают лишь очень немногие. Мы с ним постоянно болтали. Он был жизнерадостным, приветливым спутником, а его заразительная веселость передавалась и мне. Так шли мы вперед куда глаза глядят и очутились в окрестностях Мортена. Это было не совсем по пути в Гавр, но теперь меня это не тревожило. Я был уверен, что так или иначе попаду в Гавр и отплыву в Бразилию на одном из больших пассажирских пароходов. Не все ли равно, будет ли это днем раньше или днем позже.
Местность близ Мортена справедливо считается одной из самых живописных в Нормандии. Сосновые леса, крутые холмы, высокие скалы, темные ущелья; повсюду пенистые потоки, бегущие под деревьями или обрывающиеся водопадами; наконец, чудесная, свежая, ярко-зеленая растительность, – все это привлекает художников, которые на каждом шагу находят сюжеты для набросков и картин.
Нигде не задерживаясь надолго, мы бродили по окрестностям Мортена, обходя его стороной. Пока Люсьен Ардель рисовал, я ловил форелей или вытаскивал из нор раков для нашего ужина.







