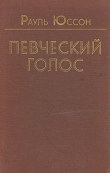Текст книги "Газета День Литературы 159 (2009 11)"
Автор книги: Газета День Литературы
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
Алла Большакова НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Из выступления на заседании Совета Федерации «Сохранение и развитие языковой культуры: нормативно-правовой аспект»
Сегодня на повестке дня остро стоит вопрос о глобальном кризисе культуры в её духовно-нравственном измерении: образование, литература и искусство, гуманитарные науки, религия. В этом смысле ситуация с языковой культурой, будучи отражением мирового кризиса культуры вообще (который, в свою очередь, есть следствие общего экономического кризиса, начавшегося даже не осенью прошлого года, а гораздо раньше), – яркое тому свидетельство.
С особенной силой этот кризис, захвативший буквально все сферы человеческой деятельности, проявился в области самоидентификации личности, её внутреннего отождествления с определённым миром, определёнными идеалами и, соответственно, с установленными в этом мире правилами поведения и общежития – то есть с определённой культурой.
В пределах постсоветского пространства отторжению человека от национальной культуры, от родного языка немало способствовали иммиграционные процессы, девальвация духовно-нравственных ценностей, связанные с изменившейся на рубеже веков социально-экономической ситуацией.
Наше общество поразила, пожалуй, самая страшная болезнь, имя которой социал-дарвинизм, когда доброта почитается за глупость, хитрость и подлость за ум, а в борьбе за место под солнцем побеждает не самый честный и талантливый, а самый беспринципный и наглый. Симптомы этой болезни проявляются буквально во всех сферах нашей жизнедеятельности: и в борьбе политических, экономических, литературных и научных кланов, отстаивающих сугубо корыстные интересы, и в общей деидеологизации общества, если под идеологией понимать не теоретическое оправдание хватательных инстинктов, а систему и иерархию духовно-нравственных общенациональных ценностей и приоритетов. Естественно, не могла она не затронуть и нашей языковой культуры. Мат, перекочевавший из сферы бытового общения на страницы книг и газет, на телевизионные экраны, «невинные» неправильности в ударениях, коверканье русских слов на иноязычный лад, обезьянничество, массовое вытеснение привычных русских слов иноязычной лексикой – всё это признаки оскудения и биологизации мышления и духа нации. Вспоминаются слова Достоевского о том, что русский народ, несмотря на свой видимый звериный образ, в глубине души носит другой образ – образ Христа. К сожалению, пожирающий нас видимый звериный образ всё наглее обнажает свои клыки.
Тем не менее, дискуссия о государственном языке и русской языковой культуре, всколыхнувшая общество, – показатель того, что обществу вовсе не безразлично, что с ним происходит. Сами авторы Закона о государственном языке разводят руками: мол, готовили проект Закона о русском языке как государственном, а получился Закон о государственном языке. Но отдельного «государственного языка» как такового нет и не может быть. Он существует лишь как совокупность определённых стилей национального языка в определённых областях его применения. Вот почему Закону необходимо вернуть прежнее название: ведь все мы пока ещё живем в стране, где количественно преобладает русское население и именно русский язык является гарантом сохранения культурной идентичности государства российского.
Да, демографическая катастрофа, да, смятение в умах и растерянность из-за утраты чётких духовно-нравственных ориентиров. Но всё это, если иметь политическую волю, преодолимо. Преодолимо, если будем помнить главное: защита русского языка начинается с защиты его носителей. Вот цифры, приведённые ректором МГУ Виктором Антоновичем Садовничим. Уже через 10 лет русский язык обгонят французский, хинди и арабский. Через 15 – португальский. А к 2025 году русскоговорящих будет вообще вдвое меньше. Русский мир, русская цивилизация сокращаются, словно шагреневая кожа. Сегодня в наших вузах учится всего лишь 6700 студентов из стран СНГ! Бывшие союзные республики отдают явное предпочтение не нашему, недавно ещё лучшему образованию в мире, а университетам и колледжам стран дальнего зарубежья. Всё это обязывает нас рассматривать Закон о русском языке (позвольте всё же хоть на минуту вернуться к его изначальному названию) и в этой плоскости. Думается, в этой плоскости в первую очередь.
Есть мнение, что в Законе не определены содержание и границы самого понятия «государственный язык». Это так. Лишь определившись, что государственный язык – это литературный язык, применяемый в официально-деловых, а не межличностных отношениях, мы перестанем спорить вокруг да около, перестанем путать его с художественным и собственно литературным языком, который даже в своём усреднённом варианте постоянно обогащается просторечием, жаргоном и даже арго.
Правда, попутно возникает другой вопрос: а уместно ли вообще употребление ненормативной лексики в средствах массовой информации и в художественных произведениях, а если – да, возможно ли регулировать этот процесс без ущемления свободы творчества, свободы слова? Вопрос весьма сложный, и без широкой дискуссии здесь не обойтись.
Закон декларирует право наших граждан на защиту и развитие языковой культуры. Но что сие означает на практике, какие юридические механизмы необходимо выработать, чтобы реализовать это право в реальной, а не выдуманной жизни?
Вот, к примеру, человек матерится в метро. Что, прибежала милиция? Да она сама матерится. Я недавно смотрела фильм, посвящёный стражам порядка. Так эти стражи «порядка» на таком великом и могучем изъяснялись, что хоть уши затыкай. А мы всё удивляемся, почему у нас даже пятилетние дети строят фразы из одних матерных слов. Недавно один известный учёный заявил, что сленг, матерщина ныне стали «признаком буржуазности». Но такая ли «буржуазность» – цель нашего общества?
Никто не призывает законсервировать русский язык, и речь вовсе не о том, что возмущённый человек не может выругаться. Речь о том, что языковое поведение не должно оскорблять общественную мораль, которая, как известно, величина переменчивая. Каково общество – такова и мораль. Но ведь можно сказать и по-другому: какова мораль – таково и общество. И здесь надо начинать с самого начала – с семьи, дошкольного и школьного воспитания, с возращения литературы в сферу образования, с уроков по этикету. Просто фиксацией существующих в реальности изменений академической и вузовской науке не обойтись – она обязана занять позицию, координирующую действительно живые и действительно языкотворческие процессы, ограждая культуру от вульгаризации и разрушения.
В первую очередь сказанное касается весьма спорного 3-го пункта статьи первой Закона о том, что языковые нормы должны утверждаться правительством. Конечно, это глупость. Да, они должны утверждаться правительством, но по представлению общественного Экспертного Совета, состоящего из представителей научных учреждений и вузов, творческих союзов и СМИ, деятелей культуры и науки. Нужны не только учёные-филологи, но и писатели, журналисты, учителя, актёры… И только после того, как они всё обсудят и придут к согласию, и следует выходить на правительство, а правительству – прислушаться к ним.
В противном случае мы будем иметь, что имеем. Я имею в виду и так называемые словари Фурсенко, утверждённые приказом Минобрнауки № 195 от 8 июня с.г. Само название приказа «Об утверждении списка грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного литера– турного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации» говорит о необходимости издания именно нормативных словарей. Но если мы обратимся к словарям, рекомендованным этим приказом, то убедимся, что никакого отношения к словарям нормативным они не имеют. Так, к примеру, в Словаре ударений русского языка Резниченко официальная норма ударения уравнивается с просторечной, устарелой или свойственной определённым социальным слоям.
Нет спору, это прекрасные словари, но соответствуют ли они постановлению Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2006 года № 714, в частности, следующему его определению: «Под нормами современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации понимается совокупность языковых средств и правил их употребления в сферах использования русского языка как государственного языка Российской Федерации»?
Язык – своего рода одежда человека. Государственный язык – это деловой костюм с галстуком. В таком костюме мы идём с договором на официальные переговоры, в МИД, в зарубежное посольство представлять свою страну. Но нам говорят: да ну! Ведь ходят же люди на рыбалку или на пляж в цветастых шортах и в кепке от солнца. Да, ходят. Но пойдём ли мы в таком прикиде с «договором» на официальные переговоры в ООН?
Нам постоянно пытаются внушить: дескать, всё это ерунда, шумиху подняла пресса. Хотят люди говорить «звонит» вместо «звонит» – пусть говорят. Сама жизнь разрешит, какая норма привьётся, а какая – нет. На самом деле этот конкретный случай свидетельствует о серьёзной проблеме. Разрушение культуры начинается с разрушения языка. И когда руководитель государства призывает «углубить перестроечные процессы», это дискредитирует саму идею государственности. Когда чудо нашей лингвистики Виктор Степанович Черномырдин утверж– дает, что «мы сегодня живём так, что нам будут завидовать потомки», поневоле задумаешься: а каково же будущее наших потомков?
Теперь о самом спорном пункте Закона, вызвавшем противодействие почти всех академических институтов, – о так называемом запрете на иноязычные заимствования. Если мы внимательно вчитаемся в этот 6-й пункт статьи первой Закона, то увидим, что запрет введён не на все заимствования, а на иностранных дублёров русских слов.
И это правильно. Нельзя подменять наше живое слово его неадаптированными двойниками, если, конечно, мы сами не хотим оказаться иностранцами в своём отечестве. Бездумные заимствования не только выхолащивают язык – они разъединяют общество, ставят барьеры между его стратами.
Кстати, об «иностранцах». Во Франции людей, злоупотребляющих иноязычной лексикой в средствах массовой информации, в публичных выступ– лениях, в школах или вузах, штрафуют на кругленькую сумму. Французская академия наук регулярно выпускает нормативные лингвистические словари, носящие законодательный характер. Она же постоянно публикует списки замен иноязычных слов исконно французскими словами (или с использованием исконных французских морфем).
Кто-то сравнил язык с зеркалом. Действительно, в языке отражается всё. И русский язык, будучи культурообразующим фактором единства нашего государства, несомненно, нуждается в такой же защите своих границ, как и границы самого государства. Потеряем язык – потеряем Россию. Русская языковая культура – не только хранилище общенациональных архетипов народов и народностей, объединённых общей исторической судьбой, общими целями выработанными веками идеалами, она – продолжение всех нас (и русских, и евреев, и аварцев, и чукчей, и татар) во внешнем мире. Через литературу, переведённую на русский язык, утверждаются наши общие традиции, наша общая точка зрения на происходящее вокруг.
Но, увы, властным структурам, похоже, на это наплевать. Деклараций не счесть, а реальной защиты русского языка как главного средства межнационального общения внутри Российской Федерации и в пределах постсоветского пространства, реальной защиты русской языковой культуры – ноль.
Да о какой её защите может идти речь, если в стране ежегодная смертность русского населения, прошу прощения за канцелярский язык, составляет почти миллион человек?
О какой защите русской языковой культуры речь, если её носители – писатели – живут на нищенские гонорары, а Союз писателей России фактически вышвыривают из его дома на Комсомольском проспекте за неуплату копеечных долгов?!
Вот ведь как получается: мы структурируем долги банкам, корпорациям, прощаем миллионные задолженности в долларовых исчислениях каким-то заокеанским братьям, а нашим русским, татарским, нанайским мастерам слова – нельзя.
О какой защите языковой культуры речь, если вот уже 17 лет в разных инстанциях мурыжится Закон о творческих союзах, если в нарко-гламурных изданиях, выходящих огромными тиражами, поощряется откровенная пошлость, а, к примеру, блистательный роман Веры Галактионовой «5/4 накануне тишины» не может найти издателя по причине отсутствия коммерческого интереса?
О какой защите русской языковой культуры речь, когда газеты, радио, телевидение буквально кричат о рейдерских захватах остатков писательского имущества, а Минюст РФ откровенно поддерживает рейдеров и наши правоохранительные органы, как всегда, доблестно ничего не делают?
Только что писательские организации ряда стран СНГ обратились к главам своих государств с просьбой защитить две крупнейшие писательские организации – Международный Литературный фонд и Международное Сообщество Писательских Союзов, которые пока ещё являются наиболее эффективными механизмами сохранения и укрепления культурных связей в пределах постсоветского пространства. Писатели из стран СНГ понимают, какую роль играют эти организации в сохранении и укреплении межнациональных культурных связей, а наш Верховный суд – нет. Славненько, говорит он, пусть рейдеры продолжают своё черное дело...
Повторю слова поэта Олеси Николаевой, сказанные ею на недавней встрече писателей с Владимиром Владимировичем Путиным: «России необходима новая культурная политика».
России нужна не просто «новая культурная политика» – ей необходим национальный проект по культуре, который бы охватывал и демографические проблемы, и проблемы семьи, дошкольного и школьного воспитания, образования, издания и распространения книг, поддержки библиотек, творческих союзов, художественной литературы и гуманитарных наук, – вот это и будет подлинной защитой нашей языковой культуры!
Цзя Пинва НЕБЕСНЫЙ ПЁС
КОВЫЛЬ
Син! У Син!
Войдя в крепостные ворота, Тяньгоу увидел У Сина, медленной походкой бредущего по улице. Мальчишка не подал виду, хотя наверняка тоже увидел Тяньгоу. Не ответив, он свернул в сторону и скрылся в маленьком переулке. Тяньгоу это всё показалось очень странным и, руководствуясь своим природным любопытством, он тоже свернул в переулок, где увидел У Сина, стоявшего лицом к стене и ковырявшего ногтём извёстку.
– У Син, что на тебя напало такое? Твой дядька тебя зовёт, а ты даже не откликаешься!
Тяньгоу хотел было повернуть У Сина лицом к себе, но мальчик отстранил его руку, сказав:
– Дядя Тяньгоу, не надо меня больше звать, а то я заплачу!
Тяньгоу улыбнулся:
– Дурная твоя голова, ты что всё ещё горюешь, что отец не купил тебе плавок? Смотри-ка сюда, а это что тут у дяди? – В руке у Тяньгоу появилась пара ярко-красных плавок.
Но У Син не проявил никакого интереса и повернулся уходить. Поняв, что произошло что-то серьёзное, Тяньгоу схватил его за плечо и стал спрашивать, что случилось.
– Кому теперь нужны эти плавки? – ответил У Син. – Отец сказал мне, что я должен начать копать колодцы.
Услышав это, Тяньгоу принялся утешать У Сина, коря себя за то, что не успел выполнить поручение хозяйки поговорить с мастером и смягчить его суровый нрав.
– У Син, я пойду поговорю с отцом. Мы с ним вдвоём и без тебя вполне управимся.
– Отец не станет с тобой говорить.
– Об этом ты не беспокойся. Он сейчас дома?
– Он не разрешил мне тебе ничего рассказывать.
У Син, хоть и был ещё совсем ребёнок, но уже унаследовал от своей матери её доброе сердце. Он взглянул на Тяньгоу, и из его глаз полились ручьём слёзы.
– Глаза у тебя на мокром месте, – отругал его Тяньгоу.
– Дядя Тяньгоу, а ты позволишь мне ещё приходить к тебе домой играть с цикадами?
Тяньгоу кивнул и с улыбкой пожурил того за глупые вопросы. У Син же повернулся и побежал прочь, не оборачиваясь, как Тяньгоу ни звал его.
Тяньгоу с озадаченным видом пошёл к дому мастера. К дверям вышла хояйка – и ему стало ещё более не по себе, когда он увидел, что лицо бодисатвы было красным от слёз. Когда он спросил про У Сина, хозяйка глубоко вздохнула и выражение её лица приняло совсем несчастный вид.
– А что правда, что мастер запретил У Сину ходить в школу?
– Они с утра ушли копать колодец в доме Лайшуня.
– Так мастер же говорил, что позовёт меня к Лайшуню копать колодец?
Хозяйка посмотрела на Тяньгоу и спросила:
– Тяньгоу, так ты правда ничего ещё не знаешь?
– А что случилось?
– Он больше тебе никакой не учитель. Сказал, что сам с трудом освоил это ремесло и не хочет, чтобы чужаки теперь таскали еду с его стола. Будет сам зарабатывать все деньги, поэтому и взял с собой У Сина вместо тебя.
– Это правда?
Женщина продолжала:
– Вчера весь день ждала, когда ты придёшь и в то же время не знала, как взглянуть тебе в глаза...
Тяньгоу стоял без слов, не в силах даже взглянуть в глаза своей хозяйке. Он выловил из кармана сигарету и, раскурив её, заметил, что похожая на земляного червя тень от табачного дыма в косых лучах солнца окрасилась в кроваво-красный цвет.
За низкой стеной в соседнем дворе кто-то как раз набирал из колодца воду, и слышался скрипучий звук колодезной лебёдки.
– Ты лучше просто забери эти плавки и не пытайся с ним ни о чём говорить. Ты уже взрослый человек с собственной головой на плечах, и не помрёшь с голоду без своего мастера...
Видя с каким душевным страданием произносила эти слова хозяйка, Тяньгоу с удивлением отметил, что его собственная боль потеряла свою остроту. При мысли о том, какое у его хозяйки было доброе сердце, он умиротворённо улыбнулся и сказал:
– Хозяйка, не переживай. Я понимаю, почему мастер так поступил, и совсем не виню его. В конце концов он провозился со мной целый год, так что теперь настало время мне его оставить. Я только переживаю, что он заставляет У Сина копать колодцы – это, конечно, не дело, ведь У Син ещё совсем мал. И ещё он так мечтал об этих плавках, так что пусть уж остаются ему. А я буду частенько заглядывать к вам и навещать его.
Растроганная хозяйка проводила Тяньгоу до дверей, а выйдя на улицу, не удержалась и проронила слезу. Тут с дерева софоры раздался резкий голубиный клёкот, и женщина опять взглянула на него:
– Чует моё сердце – эта птица не к добру раскричались. Прогнал бы ты её, Тянгоу!
В последний раз следуя её приказу, он камнем согнал голубя с дерева, но тот, вспорхнув, сделал круг над их головами и сбросил порцию помёта, которая как назло угодила Тяньгоу прямо на плечо. Стирая рукой птичий помёт с его рукава, хозяйка говорила: "
– Тебе теперь нужно поискать новое занятие, ведь у настоящего мужчины должно быть своё дело. Работай изо всех сил, зарабатывай деньги, а как скопишь достаточно и присмотришь себе женщину, приходи ко мне – я всё устрою.
Горько улыбнувшись, Тяньгоу пошёл прочь. Боясь, как бы односельчане не заметили его ошарашенного состояния, он, вместо того чтобы вернуться домой, ускорив шаги, направился к выходу из крепости. Взобравшись на склон горы, Тяньгоу устроился в густой заросли ковыля и долго лежал в неподвижности, погрузившись в свои мысли.
Где-то на склоне местные жители собирали на хворост ковыль. Вместе со звуками срезаемой травы до Тяньгоу донеслись и слова их песни.
Ухожу – запираю дверь на замок,
Возвращаюсь – сам развожу огонь.
Ох и тяжела же холостяцкая доля!
Пошарю рукой по кровати,
Натыкаюсь на мышиное гнездо.
Эх, невмоготу мне жизнь одинокого мужика!
Суну руку в кастрюлю,
А там длиннющая змея.
Ну кто полюбит такого бедолагу?
«Вот уж бедолага, действительно, – подумал Тяньгоу о самом себе. – Теперь, когда мастер бросил меня, у меня не осталось заботившейся обо мне хозяйки. Раньше я как-то ещё туда-сюда жил сам по себе, но потом нежданно-негаданно пробудил в этой женщине толику искреннего сочувствия к себе. И как теперь мне жить дальше, когда я всё это потерял?»
По склону холма задул ветер. Кружась, тот пригибал заросли травы к земле, так что они стелились, закрывая собой Тяньгоу. Поначалу, ещё не спутавшись друг с другом, стебли ковыля образовывали строго упорядоченную структуру, напоминавшую сеть, которая, казалось, накрыла собой Тяньгоу и отделила его от неба. Но когда ветер окончательно прижал стебли к земле, его фигура вновь открылась внешнему взгляду. «Всё-таки деньги – это корень всех зол, – думал Тяньгоу. – Пока их нет, мучаешься и предаёшься отчаянью, а когда они появляются, то сам превращаешься в бесчувственного негодяя». От этих мыслей на сердце у него сделалось муторно. Тяньгоу вообще был не из тех, кто склонен страдать бессонницей, раз за разом перебирая в глове грустные мысли. Скорее наоборот – чем тяжелей у него было на сердце, тем больше его тянуло в сон. И Тяньгоу уснул.
Откуда-то издалека донёсся гулкий раскат грома. Дождя, однако, не было. И когда Тяньгоу проснулся, то вдруг услышал этот милый его слуху звук. Оказывается, его ноги, руки, и вся грудь были сплошь покрыты множеством зеленокрылых с красными пузиками цикад. Воспользовавшись их неосмотрительностью, он ловким движением поймал несколько штук и опустил их в свой карман. Тяньгоу постоял немного в неподвижности, и вдруг ощутил, как на него снизошло чувство радостного облегчения. Он широко улыбнулся сам себе – совсем как прежний Тяньгоу.
Вообще Тяньгоу хватало и еды и воды. Единственное, чего ему не доставало, так это денег, чтобы обзавестись женой. И хотя Тяньгоу сроду не читал книг, однако в его собственной жизни случались моменты вполне сравнимые встречающимся в книгах поэтическим описаниям. Так, лёжа однажды за москитным пологом и пуская над собой кольца дыма, Тяньгоу показалось, что барахтавшиеся у верхушки его москитника тучи комаров на самом деле были журавлями-небожителями, и он долго наслаждался их изящным, лёгким парением. В такие минуты он задумывался о самых разных вещах: порой он начинал клясть своего мастера за бессердечие, но чаще всего мысли Тяньгоу крутились вокруг хозяйки, и поэтому его постоянно тянуло наведаться в дом мастера.
У Тяньгоу было одно сокровище, с которым он не расставался ни днём, ни ночью. Это была небольшая плетёная клеточка с цикадами. Каждый раз проходя у дверей их дома, Тяньгоу легонько тряс клеточку, будя заснувших цикад, и кричал:
– У Син! У Син!
И хотя он звал У Сина, выходила к нему сама хозяйка.
– Тяньгоу, у тебя всё цикады на уме?
– А чем ты занимаешься, хозяйка?
Она отвечала:
– Тяньгоу, возиться с цикадами совсем не дело для взрослого мужика. Занялся бы ты чем-нибудь посерьёзней, заработал бы немного денег!
Тяньгоу смущённо улыбался, а про себя думал: «Взрослые мужики может и не возятся с цикадами, но есть женщины, которым эти цикады очень даже нравятся».
– Хозяйка, ну а чем мне заняться?
– Ты же сам мужик, а ещё меня спрашиваешь! Ты ведь до сих пор не скопил ни юаня, да даже если бы и скопил, разве какая-нибудь женщина пошла за такого бездельника как ты? Женщины не любят лентяев, Тяньгоу.
Слова попали в самую точку, и Тяньгоу нечего было на это возразить.
Целых десять дней Тяньгоу не показывался у дома хозяйки. Он валялся без дела у себя дома на земляном кане, напевая популярную в их селении песенку про любовь:
У дверей моего дома перечное дерево
Так и гнётся от спелых плодов.
Пойду нарву себе немного.
Но палкой плодов не достать.
Скинул лапти, босой полез на дерево,
И надо ж –занозил ногу острым шипом.
Зову сестричку –помочь вытащить занозу,
А она, бессердечная, ковыряет мне ногу шилом
Мочи нет, как больно!
Нельзя было утверждать, что Тяньгоу пел эту песенку про хозяйку, но нельзя было утверждать и обратного, ведь Тяньгоу твёрдо решил заняться каким-нибудь серьёзным делом. Он пошёл с поклоном к плотнику, но тот не взял его в ученики, пошёл к гончару, но и тот ему отказал. Ведь у всех ремесленников были свои сыновья и зятья, и они старались передать ремесло кому-нибудь из родных, чтобы оно служило обогащению собственной семьи. Поэтому Тяньгоу ничего не осталось, как собрать свои пожитки и отправиться на заработки в областной центр.
В своём посёлке Тяньгоу считался человеком простым, но бывалым – умел и поговорить и пошутить. Что до города, то тут он чувствовал себя крайне скованно. Улицы в городе казались ему широченными, и Тяньгоу ходил по ним, чуть не прижимаясь спиной к стенам домов. На этих улицах никто не знал его, и он в смущении не смел взглянуть в глаза другим людям. Жена учителя всегда в шутку звала его «белоликим», но здесь вряд ли кто посчитал бы его лицо белым. К тому же в глазах горожан Тяньгоу был абсолютным «дитятей».
Конечно же, источником охвативших его страха и смущения был прежде всего сам Тяньгоу. Он осознавал, что на этом новом месте самым важным для него было научится преодолевать самого себя. Тяньгоу от природы не был философом, тем не менее в этих его мыслях было что-то очень философское.
«Городские женщины словно небожительницы, – думал он. Вечером, когда Тяньгоу лежал на своей кровати, в голове у него роились дневные впечатления. – Одна только хозяйка – реальная женщина». Как только эта дьявольская мысль появилась у него в голове, в сознании Тяньгоу всё встало на свои места и обрело логику. «Небожительницы ведь живут на небе, чтобы люди поклонялсь им и молились на них, а обычные женщины живут на земле. Они как вода, как воздух, как хлеб насущный». Тяньгоу нужна была такая женщина, как жена учителя. Запечатлённый в его душе лик бодисатвы был для него словно луной, освещавшей ему путь везде, куда бы он ни отправился.
На третий день у одного магазина он приметил толпу горожан, наперебой скупавших рубашки. Рубашки были действительно очень дешёвыми, так что ему пришла в голову идея, что если купить оптом целую партию и добавить к цене по два юаня за рубашку, то жители крепости расхватали бы всю партию в мановение ока. Тяньгоу с трудом проложил себе дорогу к прилавку. Однако когда он потянулся рукой к карману, то обнаружил, что денег там уже не было.
Тяньгоу словно обезумел. Он сидел на вокзале и тихо плакал. У него не осталось денег на закупку товара, у него не хватало денег даже на обратный билет, а в животе было так пусто, что стенки желудка, казалось, слиплись друг с другом. Оголодав до отчаянья, Тяньгоу побрёл в ближайший ресторан и начал собирать объедки со столов. Там его обругали и стали было гнать прочь, но когда Тяньгоу рассказал, что с ним случилось, одна из официанток пожалела его.
– И как же ты собираешься возвращаться домой?
– Не знаю.
– Хочешь, можешь помочь нам тут с мытьём посуды. Будешь получать по два юаня в день.
Тяньгоу был настоящий везунчик – второй раз в жизни ему повстречалась такая милосердная женщина-бодисатва. Ему ничего не оставалось как заняться этой временной работой.
В работе Тяньгоу совсем не был лентяем, но поскольку посуду ему приходилось мыть обычной тряпкой, он поинтересовался, почему в столовой не было какой-нибудь жёсткой щётки. На что его знакомая официантка ответила, что хотя в городе можно было найти практически любую вещь, таких щёток тут почему-то не было. Тяньгоу засмеялся от мысли, что хоть в одном город проигрывал его горному селению. На склоне холма за стеной крепости колосились заросли ковыля, и из поколения в поколение местные жители чистили свои кастрюли с помощью собранных в пучок корней ковыля. Но боясь, как бы его не засмеяли, Тяньгоу не стал рассказать об этом другим.
Когда по-вечерам ресторан закрывался и все остальные уходили домой, Тяньгоу обычно устраивался на ночлег на стуле в зале ожидания. Но в тот день перед самым закрытием Тяньгоу купил себе на заработанные деньги бутылку рисовой водки и, напившись в дым, распластался на столе будто размякшая глиняная масса. Среди работников столовой начались возмущённые пересуды о поведении этой неотёсанной деревенщины, поэтому пожалевшей Тяньгоу официантке пришлось одного за другим успокаивать своих коллег. И поскольку подсобному персоналу не разрешалось в одиночку ночевать в ресторане, она задержалась после закрытия, ожидая, пока Тяньгоу очнётся от пьяного сна.
Когда Тяньгоу проснулся, время было уже заполночь. Лежал он на импровизированной кровати, составленной из трёх стульев. А рядом с ним сидела небольшая женщина.
– Хозяйка! – окликнул её Тяньгоу.
– Никак очнулся? Или всё ещё несёшь свои пьяные бредни?
Тут Тяньгоу окончательно пришёл в себя. Он поднялся и сел на одном из стульев, от стыда не смея взглянуть в лицо женщине.
– Ну что, в этот раз действительно проснулся?
– Мне так стыдно...
– Очухался и славно. Отправляйся-ка теперь в зал ожидания, мне ведь тоже пора возвращаться домой.
Официантка закрыла дверь на замок.
Тяньгоу очень тронули мягкость и сочувствие этой маленькой женщины, но в то же время его мучил стыд, отвращениие к самому себе и осознание своей человеческой никудышности.
– Наверное мне будет лучше вернуться завтра домой.
– А денег у тебя хватит?
– Хватит.
– Впредь тебе следует найти себе какое-нибудь достойное занятие. Чего тратить свою жизнь на выпивку? Ну, давай, иди себе с богом.
Тяньгоу, словно какой истукан, всё стоял на месте. Он будто хотел сказать что-то, но не мог вымолвить ни слова. Женщина уже отошла на приличное расстояние, когда Тяньгоу, наконец, крикнул ей:
– Я ещё вернусь!
Она с удивлением оглянулась:
– Вернёшься?
Тяньгоу продолжил:
– Ну, ведь ты говорила, что в городе нечем чистить кастрюли. А у нас в горах растёт ковыль, и из его корней можно делать отличные жёсткие щётки. Я наделаю щёток и буду продавать их в городе.
Лицо женщины просветлело:
– А вот это дело. Тут в городе тьма ресторанов и всем нужны такие щётки. Смотри-ка,Тяньгоу придумал, как заработать деньги!
Сказано-сделано, как только Тяньгоу вернулся в крепость, он тут же отправился в горы за ковылём. Горные травы питали самую душу Тяньгоу. Он мог кубарем кататься в ней, мог даже, скинув одежду, распевать песни, под милый его сердцу стрёкот бесчисленных цикад и кузнечиков, окружавших его со всех сторон.
За свои щётки Тяньгоу и вправду заработал много денег. Горожане понятия не имели, из чего они были сделаны. А когда интересовались, Тяньгоу держал рот на замке. После первой успешной поездки он вновь вернулся в крепость и пошёл в горы выкапывать корни.
В один из дней целая толпа ребятишек побежала в горы за цикадами. С ними был и У Син, ставший теперь маленьким ремесленником.
– Дядя Тяньгоу, ты уже давно не заходил к нам.
– Я был в городе.
– Наверное заработал много денег в городе?
– Да, у меня теперь появилось своё дело.
– И что это за дело?
– Я делаю щётки и продаю их за десять фэней штуку.
– А, дядя Тяньгоу разжился деньгами и совсем забыл про нас!