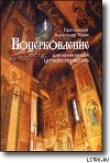Текст книги "Газета День Литературы 156 (2009 8)"
Автор книги: Газета День Литературы
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
Галина РЫМБУ ПОСЛЕ ДОЖДЯ
***
После дождя остаётся только песок,
пахнущий морем, ледяная тоненькая свирель,
языческая тоска
и вода, –
набухающие карточные города,
где номер каждого дома безвестно скрыт,
где под гитару орут в переходе:
«Мама, мы все сошли с ума»,
бледные девушки в сарафанах,
старый фотоаппарат
наводит резкость,
наводит, наводит –
никак.
После дождя на губах умирает соль,
цыгане смеются, отплясывая на пустыре,
городские чертополохи виновато склоняются в ночь,
мосты не выдерживают сияния своих рек.
После дождя ты ещё долго ходишь, как бог,
с выцветшей памятью, взглядом, лучащимся вниз,
и чернильные сумерки сгущаются (кажется – навсегда),
и перо выходит по жилам наружу, – так
после дождя начинается внутренняя война
в каждом выдохе, выходе, сне, лепестке.
И вода, и опять, и опять заживает вода
в наших глупых маленьких карточных городах
на открытых ранах радужных площадей…
***
Не уходи нет таких кто смог бы выдержать это лето
болезненные скрипы в нездешних узких потоках комнат
народившиеся нынче младенцы как самолётики сыплются с окон
роддомов дурдомов и к чёрту опять подступает жижа
к горлу больному простуженному некстати
надо бы петь тебе петь тебе говорить о высоком
говорить так чтоб раскрылся
рассыпался этот твой пасмурный кокон
чтоб остался лежать ты со мной навсегда в переспелых травах
не уходи можно можно когда я одна меня обступают твари
сделаны будто из света а кажется что из плоти
трогают волосы бёдра зовут и зовут в болото
там мол сказочный мир даже можно и не дышать там
а ты подожди ещё день корми меня с рук городскою малиной
слушай ливни дрожащие и белый гром за окошком
люби меня долго пока это можно и можно
я тоже буду а пока что-то очень страшно
люди без лиц катаются на тротуаре
в венках из крапивы слепляются делают новых героев
какого-то зверя большого за домом хоронят хоронят
которые сутки приходят зовут туда «подвывай нам»
не уходи боже боже давай заколотим двери
если хочешь от них будем жить здесь с тобой как в пещере
два чудовища с одинаковыми повадками именами глазами
с горем одним со слезами и чудесами
и пока ты здесь
обнимай меня плакай кусай говори сколько хочешь
новый август. луна сверлит небо взглядом своим волчьим
мы стоим у подъезда ты как истукан и я как немая
изнутри что-то ноет нарастает происходит и вот разрывает
но дай тонкие пальцы твои быстрые губы твои
и ничего не случится
только в завтрашней мгле скорый поезд грохочет, мчится
ДЕТИ В ГОРОДСКИХ КИНОТЕАТРАХ
Дети в городских кинотеатрах,
с бадьями поп-корна и солнцами в рукавах,
громко хохочут и хором расширяют
свои чёрносмородинные зрачки,
болтают ногами как будто бы в тёплой воде,
когда видят огромную белку в чёртовом колесе,
бегущую под игривую музыку, а та льётся прямо из потолка.
Этот заливистый смех в сверкающей темноте
и странно светящиеся маленькие рукава
очень напоминают мне…
Вот сидят. И я с ними. И так глухо, словно в брюхе кита,
и кажется там, за алеющей надписью «exit»,
нет ни мамы, ни папы, ни улицы, ни городов,
ни большого охранника с рыжей тающей бородой.
Дети в кинотеатрах, словно ангелы,
забывшие как надо летать.
Швыркают носом, визжат – да, почти не умеют себя вести,
но когда-нибудь они вырастут и тоже будут снимать
своё кино, и лучше не думать, каким оно может быть.
Их длинные реснички,
майки с бэтманами и капюшонами, апокалиптичный смех,
их маячащие тельца, в которых, словно улитка,
шевелится уходящий день,
и эффект 25-го кадра, поселившийся в каждом втором,
а на заднем ряду тянет пепси юный насмешливый бог,
и чудные добрые звери поют изнутри…
***
В утреннем троллейбусе, где водитель так похож на Пьеро
и белое пшено рассыпано на маячащем полу,
я говорю: "Трансформер моих снов
о тебе слишком изношен,
а мне не хватает изменений в грядущем"
и что-то, мол, помнишь,
у подъезда три года назад
мои глаза?
А ещё запах табака и кино 40-х годов,
где в каждом втором персонаже
обломки эдипова острия,
и шалаш за домом,
где ты каждую ночь птицелов,
и как мы объездили весь город
на раздолбанных твоих жигулях.
Боже мой, сколько тогда нам было лет?
Я почти уже не уверена, что это ты, что это я,
если бы не запах твоих сумерек, твоих коленок,
твоего солнца и, конечно же, сигарет.
Возможно, мы даже могли тогда умереть,
потому как зачем вообще продолжать,
если только один раз бывает под рёбрами джаз,
если всё остальное и так – равнодушная смерть.
И тугая сирень, и светящиеся в пыльной траве большие жуки,
и бомба лета внутри, и почти одинаковое движенье бедра,
и предчувствие остановки, не то чтобы словно конца пути –
очередного расхождения в пустых, как конечная утром,
мирах...
***
И смотрит мудрая звезда над каменистыми морями,
И золотистый челночок несёт нас сквозь просторы лет,
И глухо падает весло, и я упрямо повторяю
Звезде, гребцам, богам, всем нам, что смерти не было и нет.
Вот эра женская опять сменилась эрою бесполой –
Бесполый взгляд, бесполый цвет и вновь – бесполая тоска.
А ночь крепка –
в ней каждый знак собой и древней тайной полон
От неба – вниз и снова – вверх до золотого челнока.
Мы все плывём. Мы все слились в одни значения и лица.
Мы все тела, мы все – слова, а для бессмертья нет конца.
И смотрит мудрая звезда, и челночок наш золотится,
И песнь бесполая легка умалишённого гребца.
«А смерти нет, а смерть – фантом», –
всё громче в темень говорю я,
И затвердевшие моря в надгробном холоде дрожат.
Все в челноке. Слились и спят. Над ними вороны горюют,
И мраморные времена их сон бесполый сторожат.
***
Им, сгребающим сено в стотысячный или больше раз,
им, без дна души – крестьянам из века в век,
до сих пор определяющим по солнцу который час
и знающим всё, чем под этим солнцем может быть человек,
им, погружающим стопы в рыхлые реки земли,
разве объяснишь,
что скоро перестанут существовать города,
что скоро сузится мир до глухой трубы,
до чёрной и скользкой змеи,
что все дороги из деревни ведут теперь в никуда?
Им, видящим медовые сны, по сути,
плевать какой сейчас новый герой,
как выглядит современный робот, человек
и кто теперь больше друг.
Ведь когда умирает корова, причём тут политический строй,
ведь когда затихают травы, причём здесь наука наук?
И таким бессмысленным и пошлым кажется диалог культур,
когда стрекочет трактор под молочным покровом небес,
когда их, полусвятых, белых,
пахнущих тмином деревенских дур,
мужики уволакивают в лес.
А после снова над селом пронзительный, чистый
младенческий крик,
когда слипаются сны и не сосчитать звёзд,
и тихо дышит тайна под крышей избы, и там, внутри,
нет ничего правдивее бабьих слёз.
А бог здесь один, собирающий ложкой медовую мглу,
наполняющий сны, когда вербами пахнет апрель,
знающий – тот истинно мудр, кто с виду и прост, и глуп,
у кого за калиткой полынь, бузина, чистотел
помнят всё, их запах струится – слогом за слог,
и может там, далеко, давно кончились, съели себя города,
но стоит себе тихое забытое всеми село,
и для счастья-то нужно им мало – несколько слов
деревянный дом, колодезная вода
и ощущенье, что так будет всегда...
А жизнь здесь, в сущности, тёплый, как лето, навоз
и вечный двигатель – только скрип
добрых и ладных тележных колёс.
Максим ЕРШОВ ДАВАЙ-ДАВАЙ!
***
Это можно говорить громко.
Это можно напевать тихо.
Никакого нет от слов толка,
всероссийское моё лихо.
Быстро новая растёт поросль –
греет корни ей река Лета.
Мы всё дальше, всё сильней порознь,
наша песенка без нас спета.
Как трёхцветные нежны флаги!
Как двуглавая сильна птица!
Поистёрлись мы в своём шаге,
разучились поднимать лица…
Я бессмысленность свою знаю:
в редкий праздник обелиск важен.
Распустилось наших дней знамя
над судьбою нефтяных скважин.
А свобода, как корабль, – ровно
рассекает бедноты немочь.
Государь, мы все твои кровно!
Только жаль, что нам цена – мелочь.
***
Это заговор сильных. Союз камней.
Их безлик, словно тьма, кумир…
Я не слабый,
но камни – они сильней,
чем сердца и чем струны лир.
Так зачем это я – инвалид идей,
малохольный в толпе кликуш,
всё мечтаю микстурами площадей
заливать глаукомы душ?
Я хочу посмотреть при большом огне
как неправда горит в кострах…
Как дорогу до Родины вам и мне
прорубает животный страх.
БИТВА
Мы не трусы, да противник силён –
водка «Гитлер» и коньяк «Напольён».
А прикончим, не сидим без труда:
бьёмся с пивом «Золотая Орда».
Эта битва до небес глубока!
Не проходит витязь мимо ларька.
В этой битве треснул дедовский щит.
Под столом отцовский город горит.
НЕ НАТО
Мечтой о голливудском рае
висят спагетти на ушах…
В гарем славянку забирает
гипертоничный падишах.
Безмолвствует Россия-сука
из нефтяного далека,
да бог славянский смотрит сухо,
да планка неба – высока…
Над Полем тень войны старинна!
Тревожно мачехе-Руси.
Смотри же, гарна Украина –
в подоле нам не принеси.
ВЕТЕРАН
Он проходит, как исповедь,
с тростью.
И молчит. По саму рукоять
он намерен солдатскою костью
в пасти улиц навеки застрять.
Проститутки хихикнут: «Пернатый!..»
Он молчит. Но становится сер.
А за пазухой бьётся граната,
с белой надписью: «С С С Р !»
У РЕКИ
Разлив «портвейна» кислый бутер
у в дрянь загаженной реки,
– Аллах Россию не забудет! –
на выдох гаркнут мужики.
Подняв на вилочках с тарелок
по нежной дольке балыка,
– Россия в доме престарелых! –
свистят с другого бережка.
Сочтя маржу и плюнув в реку
в порыве кризисной тоски,
– Бери Россию в ипотеку! –
грохочут жерла из Москвы.
И всё…
Последний голос зычный
уже не слышат мужики:
– Она на совести мужичьей! –
поёт русалка из реки…
ДАВАЙ-ДАВАЙ!
Мы тщимся по гламурной наледи
под рукоплеск тлетворных баб.
Наш бог исполнен в форме камеди
и начинён приставкой «клаб».
Мы уничтожим тень сомнения
в своей махновской правоте.
Мы из могилы вынем гения
и бросим в жуткой наготе!
Мы узнаём, что вы там умерли,
вдыхая крематорский дым.
Мы жжём сгустившиеся сумерки
рекламным светом золотым.
И пусть мы слепы, как отчаянье,
неумолимы, как беда,
мы ни секунды не случайны…
Мы воцарились навсегда.
МОЛОХ
В подъезде надпись:
"Жизнь – борьба.
Забег конвейера с людьми".
Я утираю бренд со лба,
ложась у маркета костьми.
Я обезбоженно-нагой –
забывший, кто я в мире есть.
Я с теми, кто большой ногой
задвинут в винодельный пресс.
Я много слышу о правах.
Перегоняемый в мазут,
я белка в чьих-то жерновах –
с надеждой, что они – везут.
Меня имеет балаган…
Собрать пытаясь правды ртуть,
я жду, что сзади по ногам
ударит сильный кто-нибудь…
Страшна людская вертикаль,
да накрест – медиа-дуплет.
Лишь обессмысленная даль
тех песен помнит силуэт,
когда история – за нас,
когда умели – вопреки,
и первомай открытых глаз
имел подобие реки,
когда ещё мы живы все…
РЯБИНА
Рябину рубили. Порезали грозди,
Привили оливы, а выросли гвозди.
Крутили-вертели… Не могут понять:
рябина кривою осталась стоять!
Рубили по новой.
Привили к ней грушу.
Вводили волшебную формулу в душу.
И крутят, и вертят… Пора бы понять –
рябине недолго осталось стоять!
Мерцая веками в порезе глубоком,
с чужими цветами, плодами и соком,
вцепилась рябина остатком корней
и только дыханье осталось у ней…
Рубили. Рубили.
Рябина! Рябина!..
Пустите, пустите родимого сына!
Он враз отрезвеет и может успеть
дыханием корни её отогреть.
ИСТОВО
Истово, боже, как истово
барская стелет гармонь!
Флага, от подвигов чистого,
крепнет трёхцветная бронь.
Лейте побольше игристого –
люди же, люди глядят!
В форму судебного пристава
накрепко врос депутат.
Впрочем, какая там разница –
он ничего не украл.
Кто запоёт, а кто дразнится
возле старинных зеркал.
Лейте же больше игристого,
режьте под камеру торт!..
Кто там три тысячи триста
просит взаймы на аборт?
Дурочка! Парня плечистого
выбери, вона – мордаст.
Истово дай ему, истово, –
он тебе денежку даст.
***
Была б ты женщиной
пропащей,
босой,
как вся Твоя судьба, –
я взял бы и
рукой дрожащей
печати стёр Тебе
со лба.
Потом
упал бы на колени
и, сердце комкая
в груди,
я вместо всех
стихотворений
проговорил Тебе:
– Иди!..
***
Чтоб никто не был лохом
и не корчил лица,
для начала эпоха
вынимает сердца.
И умеет неплохо
набивать в ямы лбов
разноцветную похоть
и жестокость рабов.
***
…Это когда с неба давит просинь.
Это когда я от правды пьян.
Это когда моя мать выносит
в улицу душеньку, взяв баян.
Это когда мне люди – братья.
Это когда я слезы не скрыл.
Это когда мои объятья
шире, чем взмах журавлиных крыл.
Это когда мне в рубашке тесно
и кафедральны кругом поля.
Это когда для протяжной песни
тысячу лет цвела земля.
Это когда я на метр выше.
Это когда я себя сильней.
Это когда в песнопеньях слышу
посвист, набат и храп коней.
Это когда Челубей хохочет,
а за спиной – отец-старик.
Это когда любовь клокочет,
как у немого гортанный крик.
Это когда, нахлебавшись грусти,
нечем спасаться и незачем…
Это когда я настолько русский,
что уважает меня чечен…
Это когда, в грязи по пояс,
тонут упрёки могильных плит.
Это когда мужичья совесть –
сколько б ни гасла – свечой горит…
Это во мне говорит Россия.
"Эй, – говорит, – мужик! Приём!
Есть ли в тебе такие силы,
чтоб устоять на краю времён?"
Евгений ЛЕСИН «... ТЕБЕ НА ЗАКУСКУ»
НОЧЬ ДЛИННЫХ МУЗЕЕВ
Добрый милиционер не пустил на парад геев.
У тебя, мол, и так экстремизмом подпорчено досье.
Иди-ка ты лучше, Лесин, на Ночь длинных музеев.
Вот тебе на закуску коробочка монпансье.
Монпансье – закуска политкорректная, толерантная.
И водку я взял патриотическую «Слава Руси».
Рядом, конечно, шагала баба – злобная, девиантная,
И голосила все время, несмотря на мои уговоры: не голоси.
Бабу, разумеется, можно было ударить бутылкой,
Но жалко, товарищи, бутылку, жалко её до слёз.
Поэтому я просто ковырял голосящую бабу вилкой,
А про себя обдумывал, как обычно, еврейский вопрос.
А Ночь длинных музеев была чудо как хороша.
В центре современного искусства Винзавод мы её завершили.
Правда, трудное испытание ожидало меня, алкаша.
Нас не пускали с водкой, как какого-нибудь Саакашвили.
Но у нас ума-то палата, мы ловко проникли на Винзавод,
Водку спрятав у бабы под юбкой, от ненависти пламенея.
Завидовал нашей мудрости весь окрестный народ:
Не стали смотреть под юбкой у бабы охранники геи.
А потом нас снимали на телевизор, уговаривая раздеться догола.
И поили красным сухим вином из пятилитровой канистры.
Четверо трансвеститов душу мою спалили дотла
Своей любовью к России, может, они были чекисты?
А потом я читал поэму «Эх, раз, ещё раз, кто тут не пидарас?»
Все три слушателя были в восторге абсолютном.
Добродушный олигарх подарил мне раскрашенный унитаз,
Я его где-то потом потерял в угаре беспутном.
А потом я плакал прямо на Садовом кольце,
Потому что закрыли кафе любимое, очень дешёвое.
Зато бабе местный художник слово нарисовал на лице,
И мы продолжили бренное существованье свое алкашовое.
***
Ты будешь тихим деревом возле большой реки,
А ты небольшим деревянным разбитым храмом.
А мне, как обычно, по фигу, совершенно по фигу, мужики,
Только б не Мандельштамом, товарищи, только б не Мандельштамом.
Лучше уж пастернак, сельдерей, петрушка или укроп.
Лучше Семён Кирсанов, последний кабак у заставы.
Лучше глупая муха, угодившая в плохой сироп,
Лучше последний царь самой дурной державы,
Лучше охранник в зоне для душевнобольных ментов,
Лучше ведро с помоями, кошка на раскалённой крыше,
Лучше Симон Петлюра, Бабель, Ильф и Петров,
Лучше, бегущие с корабля крысы, певцы и мыши,
Лучше угрюмый поц, да хоть кубанские казаки,
Да хоть менеджер по блевотине или актёр рекламы.
Лучше, конечно, деревом у тихой большой реки,
Но главное: лишь бы не Мандельштамом,
Товарищи, только б не Мандельштамом.
***
Тане Лаврухиной,
алкоголику, с любовью
Если ты провокатор и антисемит,
Член Компартии Палестины.
Если ты гламурный и злой бандит,
По ночам ворующий апельсины,
Если ты взорвал Новгородский Кремль
В целях торговли со сверхдержавами.
Если ты используешь «Детский крем»
Для анальных забав с шалавами.
Если ты на заборе не слово «х..»
Написал, а «Единая Россия».
Если лапа у тебя есть наверху,
А мошонка у тебя некрасивая.
Если ты в синагоге шепчешь тайком
Гимн Компартии Палестины.
И с головой понурой идёшь в Ленком
Плюешь на зрителей мохнатые спины.
Если ты украл у меня сто рублей,
А вернул 500, но всё равно – сволочь.
И список не стал читать кораблей,
И любимый твой транспорт – не «скорая помощь».
Если ты дверь открываешь лбом,
И иронично смотришь на мою бородку,
Пей, товарищ, тогда виски со льдом,
А я, товарищ, буду – тёплую водку.
***
В.Б.
Что угодно, лишь бы не стенка.
Не надо правды, давайте плотского.
Пили водку с Владимиром Бондаренко.
Любимую водку Иосифа Бродского.
Водка называется «Горькие капли»,
Алкаши её любят шведские.
На дворе май месяц, а вы озябли.
Бросьте глупости свои детские.
А вы опять ничего не знаете.
И плюетесь только возле колодца.
Зачем вы опять дурака заставляете
Богу молиться. Бог обойдётся.
Запятая как повод самоубиться?
Двоеточие как баранье стадо?
Не заставляйте дурака молиться
Никого заставлять не надо.
ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ
«Ты где? Ты где?» –
несётся из мобильника
Вопрос неразрешимый и вполне
Он погубить способен собутыльника.
Ну, где второй?
Напомните же мне.
Вы помните, вы всё, конечно, помните.
Вас не скрутил ещё алкоголизм.
Один носок печально
в ванной комнате
Висит и не внушает оптимизм.
А где другой?
Загадка мироздания
И Кантора терзала и Фреге.
Подорваны давно все основания.
А где второй?
Да где-то на ноге.
Сергей МЕДВЕДЕВ БЛИЗОСТЬ К НУЛЮ
Что такое неопределённость?..
Лучше помолчу, а то совру.
Хуже может быть лишь обнулённость
нашего значения в миру.
Страшно в нулевой среде до жути!
Жить бы стало лучше, веселей,
Ежели бы сумма нашей сути сильно отличалась от нулей.
А она, свинья, к нулю стремится,
словом, исчезающе мала.
И уже невидима граница области отсутствия числа.
Прежде было как? Вот вам десятки,
вот вам сотни, тысячи, нули…
То-то раньше было всё в порядке,
мы росли, как овощи на грядке…
Как мы замечательно росли!
А теперь меняются повадки,
и кругом – сплошные недостатки…
И опять хорошее – вдали!
Оглянись, дружок, и сам увидишь,
как мы влипли, сукины сыны:
Если не иврит кругом, так идиш,
либо пентаграммы cатаны.
Запахи засад на каждой миле,
сотня бед на каждую версту…
Нас давно и чётко обнулили,
выдав суть не ту за сущность ту.
И она во все пролезла щели, и во все проникла уголки.
Выжить мы, естественно, сумели,
но зато живём без всякой цели,
Видимые с неба еле-еле: даже наши пакости мелки.
Так и существуешь в виде дряни,
сам себе твердя: не плачь, не ной!
Пусть пока не ноль, пока на грани –
эдакий гибрид коня и лани,
Веря только в дьявола и money…
стать бы, хоть бы раз, величиной!
Ну, к примеру, чем-нибудь в квадрате,
функцией надежд и славных дел,
И, напрасно времени не тратя,
как-то отодвинуть свой предел,
И от беспричинности сгорая,
выйти в мир естественных причин
И уйти из проклятого края бесконечно малых величин.
Анатолий БАЙБОРОДИН ГОСПОДИ, ПРОСТИ...
РАССКАЗ
Памяти Василия Шукшина
В белёсом предночном небе, над вороньим крылом меркнущей берёзовой гривы запалилась желтоватая робкая звезда, и корявый пойменный лес, с половодья опутанный тиной и сивой травой, молитвенно притих, млело и бездумно глядя в наплывающую ночь. Когда прибрежный ивняк и черёмушник дремотно смеживал темнеющие веки, Лёня Русак уже избродил полреки, скользя на замшелых зелёных валунах, продираясь сквозь тальник и смородишник; обудил все чаровные омуты, ревучие перекаты и не узрел даже гальяньего хвоста. Злой, голодный как собака, с матерками навьючил дородный рюкзачище, под которым, жилистый, но малорослый, утаился с головой, потом осерчало поскрёб пегую бороду и сплюнул в бедовую речку, где туманными зорями отплескалась, отыграла его юность, где теперь не осталось и завалящего хариузка, не говоря уж ленках; даже лягухи отквакали. Мёртвая речка…
В своё время по ней, горемычной, сплавляли лес, и от закаменелых топляков на дне уже сбился деревянный пол. А потом химический завод навадился сливать в омут фиолетовые помои, и рыба, что в вершине реки метала икру по весне, а летом вольно паслась, ушла в Байкал и больше не возвращалась.
С дохлого угла волочились тучи, и хотя солнце давно уж село, небо, добела раскалённое за день, ещё пыхало жаром. Чуть живой, мокрый от пота, так изъеденный комарами и мошкой, что на опухшем, волдыристом лице по-тунгуски светились лишь злые щели, Лёня Русак доплёлся, наконец, до ветхой, без окон и дверей, безбожно исписанной, изрезанной зимовейки. Пол, некогда сколоченный из листвяничных плах домовитым рыбаком ли, сенокосчиком, лихие шатуны выдрали и спалили в кострах, что разводили прямо в зимовье. Чудом уцелели нары и столешня, изрезанная бродяжьми, уркаганьими письменами: вроде, «нет счастья в жизни» или: «не забуду мать родную». Возле стылого пепелища валялись консервные банки, бутылки, рваные пакеты и полуистлевшее от сырости, дозелена заплесневелое тряпьё.
Разведя подле зимовейки вялый костерок, наспех, без обычной услады почаевал, затем потрусил на щелястые нары сухой ковыль и, забравшись в спальник, начал разбирать гулевые писаницы про то, что здесь ели, пили, веселились Таня, Саня, а дальше – не то любовь, не то собачья сбеглишь. Тёплым илом стал обволакивать душный и липкий сон. Но меж сном и явью, лёжа напротив незавешенного оконного проёма, он ещё глядел соловыми глазами на темнеющий ивняк, на серебристую речную течь, и в память без всякого зова и мана полезла речная нежить. Откреститься бы, да вот бединушка, не обрёл ещё такой благой привычки.
Вьюжными зимними вечерами Лёня Русак до одури начитался бывальщин про нежить домовую, речную, таёжную, в которую не верил и сызмала, не давал веры и теперь, когда уж борода закуржавела покровским инеем. Но сами бывальщины про окаянных и лукавых любил, грешным делом, послушать, почитать – так сладостно обмирало сердце от жути таинственных чар.
В его дедовском селе темноверные старухи, испуганно косясь влево, а затем, троекратно сплёвывая через плечо – там анчутка беспятый караулит, и крестясь направо – там Ангелы-архангелы спасают, вкрадчиво шепелявили: дескать, Божьи слуги, Ангелы, Архангелы, Херувимы и Серафимы, спихнули падших ангелов с небёс, и градом посыпалась клятая нежить наземь. Которые бухнулись и нырнули в речные омуты и гнилые озёрные заводи, стали водяными, которые свалились в буреломные таёжные распадки – лешими, скользнувшие по сажаным трубам в избы да бани – доможилами и баннушками, а уж в калтусах и зыбунах увязли шишиморы болотные. Припарились к водяным да шишиморам зелёногривые, жгучеокие русалки – деревенские девки, либо утопшие, либо уличённые в блуде, клятые отцами, матерями и дедовским миром. Водяные искусительные девы, нежно выпесненные южными славянскими поэтами, сроду не волновали нищий дух Лёни Русака, заземлённый, не парящий в занебесье, но и не прогнивший суевериями, и по своей насмешливой простоте он гадал: и каким же макаром омутная чаровница может соблазнить лопоухого деревенского паренька, ежели у неё и ног-то нету, сплошной хвост?!
И, судачили старики, будто нечисть та, незримо обитая подле живого люда, обросла их свычками, и добрыми и худыми; мало того, домовые, водяные, лесные шиши стали по-хозяйски приглядывать за ладом в избах и дворах, в лесах, на озёрах и реках, до тряского озноба и родимчика пугая шалых мужиков и лядащих баб.
«Суеверия… сказки… бес путает… Православному и думать-то грех про окаянную силу…» – прикинул Лёня Русак и, несвычный жить молитвенно, не открестившись от беспятых, стал засыпать. Ночь выстоялась тёплая-тёплая и глухая – похоже, перед дождем, и меж туч сияла мертвенно-белая луна.
За полночь Лёня, вроде, очнулся от сна… а может, ещё барахтался в бредовых видениях… хотел, было перевернуться на другой бок, но вдруг приметил в пустую оконную глазницу, что на берегу реки, облитой стылым сиянием, юрко мельтешат торопливые тени. Он, кажется, сел на нарах, оцепенело глядя в сияющую оконницу, – оторопь взяла… И приблазнились…
***
Вначале послышался знобящий душу, многоголосый и заунывный плач или вой, потом привиделось: в реке, на заросших зеленоватой тиной, кряжистых топляках голосили водяные с подкоряжными, омутными девами – упились заводскими помоями, нанюхались вонючих дымов, тяжко опадающих в речную течь. На обличку смутные духи зрелись людьми – без рогов и хвостов, в скудной травяной одёве, – и всё же это тоскливо гуляла нежить.
Анчутка серый маял гармонь и вопил, роняя на меха ковылистый чуб, изредка оглядывая бражников синеватыми, но опустевшими, пьяно размытыми глазами:
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб тебя не видя умереть…
– Серый, вжарь повеселей, чтоб ни печали, ни покоя! – щёлкнув пальцами, велел плечистый и корявый водяной мужик.
Серый тиснул жалобно проворчавшие бардовые меха, но тут же развалил их с рявканьем, метнув пальцы по ладам и басам, и взыграл «комаринский мужик».
– Дай жару, Яшка, чтоб чертям стало тошно!
И Яшка, распластавший рубаху до пупа, забухал косопятыми кирзачами в деревянный пол; плясал «камаринского», плясал молча, с жутким и злобным старанием, но изломанно, куражливо, как пляшет тоскующий русский мужик без Бога и царя в голове. Глаза его плакали, текли хмелью – видать, ныла, скулила горемышная душа – и на отмашистых скулах катались набрякшие мстительные желваки.
Мы не с радости гуляем,
Не с веселья водку пьем,
Все продали и пропили,
Завтра по миру пойдём…
– прохрипел Яшка и так притопнул по деревянному речному дну, что с окаменевших и позеленевших топляков вздыбился ил, и помутилась река. Сидящая и лежащая нежить – заторканная лесом, избитая, изволоченная, полуживая и пьяная, – остервенело выла, хохотала, и текли их сорные слёзы в Байкал, пенясь и бурля.
– Давай, Яшка, давай! – хлопая в ладони, взвизгнула водяная шалава, наспех обряженная мшистой придонной травой.
– Сама давай! – матюгнулся Яшка. – Тебе, Милка, сподручнее.
– А что! – Милка тут же вылетела в круг и, яро колотя в скользкие топляки, потряхивая тощим выменем, сипло вывела:
Развалили всё хозяйство,
Научились воровать.
А я девчоночка бедовая,
Пошла любовью торговать.
– Девчоночка… Любо-овью торговать, – зло скривился Яшка. – Молчала б лучше в тряпочку… полодырая.
Отголосив в ответ матерную тараторку, дева пала на облезлый, костянисто посвечивающий листвяк, и к ней тут же прилип вынырнувший из улова, наглый мужичок – его так и звали в глаза и заглазно: Гошка Наглый. Облапил, тыкаясь мокрыми губами в шею.
– Пошли, Милка, примем, – лыбясь тонкими, змеистыми губами, помигивая белыми рыбьими глазами, ловко и заманисто щёлкнул в кадык, мышью снующий по узкому горлу. – Я под корягой закурковал от этих алкашей… А ежли хочешь, можно уколоться… и упасть на дно колодца.
– Отвяжись ты от меня, а! – Милка брезгливо отпихнула Гошку Наглого. – Надоел ты мне, Жора, хуже горькой редьки, – она с презрением покосилась на своего бывшего дружка. – Глаза б мои не тебя не глядели.
– У-тю-тю, каки-ие мы холёсые… – игриво протянул Гошка Наглый и захохотал.
– О, Господи, как мне надоела жись наша клятая… – Милка заплакала, утопив пальцы в тёмно-зелёные, сыро взблёскивающие лохмы, яростно сжав их в горстях, словно хотела выдрать с корнем.
У берега реки, на высоком, обгорелом пне, словно на чёрном троне, восседал сам Хозяин – чернокрылый, студёноглазый, с клювистым носом, зловеще нависающим над провалившимся старческим ртом, – и, отмахивая рукой, молча и усмешливо правил, словно дёргал нежить, будто тряпичных кукол, за ссученные из сивого конского хвоста, незримые жилки. Когда Милка вопила и острые плечи её ходили ходуном, Хозяин, хохотал, и хохот его, зловещий, леденистый, мрачно кружил над пойменным лугом.
***
Долго ли, коротко ли, но выползла пьяная нежить из воды на седые под луной, прибрежные травы, поближе к Хозяину, и тут пошла петь и плясать, да так отчаянно и лихо, что Хозяин опять повеселел, и смех его, похожий на громовые раскаты, покатился по-над речкой, отдаваясь гулким эхом. Прибилась к водяным, гораздая потешиться, и шатия из ближних лесов и болот. И такой взнялся шалый гомон, что звёзды испуганно и озноблено задрожали, осыпаясь наземь, как палый лист.
Лишь самый дремучий водовик, трухлявый, укрытый бурой придонной травой, перепоясанный ссученным камышом, вроде бы, ждущий, что Он его простит, одиноко и отрешённо торчал на чёрной коряжине и узловатыми, тряскими пальцами перебирал осиновые чётки. Сидел, свесив заморковевший нос, сронив отяжелевшую голову, увенчанную зелёной кугой, и печальными, потухшими глазами синё и слезливо глядел, как светится росой луговая овсяница, как задумчиво белеет под луной свежесмётанный зарод сена, как возле деревенской поскотины лошадь бренчит медным боталом, как на выбитом, закаменелом облыске пляшет его внук Гошка Наглый. Скачет беспятый, потряхивает зелёными кудерьками и, охлопывая себя по замшелой груди и кривым ногам, ревёт лихоматом:
Пропадите лес и горы,
Мы на кочке проживём!
Опа, опа, Америка, Европа!..
– Милка! Греби сюда. Споём на пару! – крикнул он водяную деву.
И Милка – клятая в миру гулёна, в начале лета утопшая в реке, – запела, взбрыкивая ногами и задирая травяную юбчонку выше срама, при этом так дико замотала головой, отчего волосы, будто водоросли, стоймя стоящие на голове, падали и закрывали опухшее, синеватое лицо.
Не грусти, мой дорогой,
Что мы теперь голодные.
Были мы рабы в Советах,
А теперь слабодные! И-их!
Серый, что терзал гармонь, утишив меха, мутно вгляделся в деву, и вдруг, маятно закатывая глаза, не запел даже – взвыл:
… И после смерти мне
не обрести покой,
Я душу дьяволу
отдал за ночь с тобой…
Хозяин раскатисто хохотал – вторило с каменистых отрогов испуганное эхо. А лешаки приплясывали возле девы водяной на суковатых ногах, подмигивали, отчего она пела ещё отчаянней, с подвизгом. А тут ещё из дачного посёлка вдруг обвалом загремела свирепая музыка, словно кто-то, одуревши с горя, молотил без передыху в цинковую шайку.
Ты иди по жизни смело,
И кому какое дело,
Кто тебе в постели нужен
Секшен революшен…
Завертели анчутки хвостатыми задами, словно им в травяные порты сунули огненной крапивы; а шишиморы болотные, свесив на лица жёлтые космы, прожигая ночь ненасытно горящими, синими глазами, закрутили хоровод и затянули жутко и мертвяще:
Пароход плывёт,
Прямо к пристани.
Будем рыбу кормить
Коммунистами. И-их!
И всё также наособицу, жутко и в слезах плясал Яшка, а подле него крутили хвостами и, точно в припадке, трясли нечёсаными патлами два молоденьких зелёных лешака. Потные американские майки, утыканные звёздами, липли к спинам.