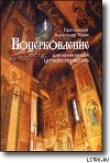Текст книги "Газета День Литературы 156 (2009 8)"
Автор книги: Газета День Литературы
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Владимир БОНДАРЕНКО ПОЭЗИЯ ХХ ВЕКА
И опять обзор поэзии, рейтинг 50 ведущих поэтов ХХ века, опубликованный в предыдущем номере, вызвал в первые же дни после выхода газеты более ста откликов в интернете. Рад, значит, всё-таки читают ещё стихи. И то, что спорят, тоже замечательно. Если честно, то я ещё до публикации первого списка поэтов ХХ века составил примерный альтернативный список, в ожидании, что те же имена в основном предложат и читатели. Либеральные читатели меня не подвели, так же, как и простые любители поэзии. Весь ряд имён, от Окуджавы до Рождественского, от Галича до Ходасевича был назван. Даже с явным перебором. Я согласен с выбором Ходасевича, Адамовича, Сосноры, Окуджавы, но не хочу и не могу считать ведущими поэтами ХХ века предложенных читателями Маргариту Алигер, Льва Ошанина, Веру Инбер, Анатолия Мариенгофа и других поэтов откровенно третьего ряда. И дело не в национальности этих поэтов. Писал когда-то отнюдь не крутой патриот Андрей Вознесенский: «Как нам ошанины мешали встретиться…» Вот и мне неохота с ними встречаться в списке лучших русских поэтов ХХ века. Удивили мои родные патриоты. Обратил внимание на то, что большинство «крутых патриотов», изгаляясь над либеральными поэтами из моего списка, сами не предложили ни одного мало-мальски значимого русского поэта. Я же специально для них оставил за бортом первого списка и Анатолия Передреева, и Алексея Прасолова, и Бориса Примерова, и Владимира Цыбина, и Валентина Сорокина и даже Егора Исаева. Никого не назвали. Увы, думаю, не включил бы я в список, к примеру, Юрия Кузнецова и Татьяну Глушкову, Станислава Куняева и Глеба Горбовского, и их бы никто из патриотов не предложил. Жаль, но поле боя на пространстве литературы патриоты сами оставляют либералам. Приходится мне в альтернативном списке уже от себя вновь предлагать с десяток ярких поэтических имён, не вошедших в первый список. Не знают русскую национальную поэзию – своих национальных поэтов – наши «крутые патриоты». Поразительно, но они предпочитают выискивать и прославлять ненавистных им инородцев, но не своих родных соплеменников. К примеру, вот с издевкой прислал свой список некто Анатолий Александрович: «Как вам такой список из 40 (ещё 10 придумайте сами) – саша чёрный, мандельштам, пастернак, ходасевич, эренбург, безыменский, голодный, светлов, багрицкий, сельвинский, парнок, довид кнут, маршак, самойлов, слуцкий, коган, уткин, всеволод багрицкий, бергольц, алигер, инбер, рейн, сапгир, найман, высоцкий, галич, бродский, рубинштейн, иртеньев (игорь моисеевич), ошанин, винокуров, ваншенкин, межиров, кушнер, танич, мориц, лосев (лившиц), парщиков (рейдерман), кублановский и примкнувший к ним евтушенкер…» Славно потрудился, добавим тогда уж по его просьбе ещё десяток: Гандлевский, Бурлюк, Шершеневич, Алтаузен, Бунимович, Коржавин, Левитанский, Козловский, Салимон, Лившиц… Что из этого следует? Из них значимых крупных русских поэтов – примерно 15, и никуда от этого не денешься. И потом, надо ли так легко отдавать чужой культуре и Ходасевича, и Высоцкого, и Кублановского? Надо ли забывать об осознанном отторжении от еврейства в себе в пользу русскости и русской культуры и Пастернака, и Мандельштама, и Бродского? Но самое главное – где же ваш список, Анатолий Александрович, любимых русских поэтов? Не знаете и не желаете знать. Этакая теория осознанного бескультурья, мол, нам, русским, культура и поэзия ни к чему. Пожалуй, их мнение наиболее чётко выразил некто «читатель». Не знает он большинство поэтов и не хочет знать, а тот, кто, подобно мне, предлагает свою трактовку, – просто выпендривается, «вот смотрите, какой я умный и осведомлённый…» К тому же при своей необразованности, они даже не догадываются, что некий «Даниель Хармс» вовсе не из еврейских эмигрантов («И кто такой Даниель Хармс? Почему я о нём ничего не знаю? Наверное, ещё один эмигрант», – пишет Анатолий Александрович, признаваясь в своей полной поэтической безграмотности), а предельно русский по всем корням Даниил Иванович Ювачев, кстати, как и все его собратья по ОБЕРИУ, от Заболоцкого до Введенского и донского казака Николая Олейникова. Такая чисто русская группировка позднего авангарда. Их приёмами потом воспользовался Самуил Маршак, заклеймив своих конкурентов как лютых антисоветчиков. Такой же чисто русской была группировка, сложившаяся в Петергофе вокруг художника Владимира Стерлигова. На всякий случай хочу сказать нашим «крутым патриотам», что практически все лидеры русского авангарда ХХ века – наши братья-славяне: Василий Кандинский, Павел Филонов, Владимир Татлин, Владимир Маяковский, Велимир Хлебников и другие. Даже Казимир Северинович Малевич – чистый поляк, а Всеволод Мейерхольд – из русских немцев. Разве что еврейский почвенник Марк Шагал преуспел в ярко-красочном воспевании своей витебской местечковости. «Крутые патриоты» вообще очень легко отдают во всём пальму первенства инородцам, мол, поработили русский народ. Но не для них я пишу, а для тех моих сородичей, кто или хочет знать (хотя бы для информации), или хочет уяснить для себя иерархию русской литературы ХХ века, не обязательно во всем соглашаясь со мной. Пожалуй, только Вольга в противовес евтушенкам поставил Марину Струкову. Я тоже, как и Вольга, ценю поэзию Струковой, но Вольга, давайте оставим её поэзию ХХI веку, не будем тянуть её в ушедший ХХ век.
Также оставляю я ХХI веку и большинство названных читателями молодых, активно работающих сегодня поэтов. Впрочем, не только совсем молодых. Если целый ряд ныне живущих поэтов ярко и интересно проработал уже целое десятилетие в ХХI веке, можно ли их назвать поэтами века минувшего? Среди них и Виктор Лапшин, и Александр Харчиков, и Нина Краснова, и даже мною, мягко говоря, неуважаемый Дмитрий Быков. Способный литератор, абсолютно лишённый того или иного национального начала, ни русского, ни еврейского. Еврей Иосиф Бродский гораздо более русский, чем евреистый Быков. Русский Дмитрий Пригов гораздо больший еврей, чем подсмеивающийся над евреями Быков. Такой уж уродился в эпоху Ельцина и всей такой же вненациональной братии. Как говорят о таких в народе: ни Богу свечка, ни чёрту кочерга. За что уж его ценит Захар Прилепин, не знаю? Но таких, как Быков, в современной новой литературе предостаточно. Перечёркивающих в себе любое национальное начало. Лучше уж Дина Рубина или Олжас Сулейменов.
Думаю, не будем спешить и с рок-поэтами, дадим устояться отношению к их поэзии. Хотя тоже интересный ряд: Илья Кормильцев, Егор Летов, Янка Дягилева… Разве что СашБаш – Александр Башлачёв, как явный первоначинатель нашей рок-поэзии да и просто яркий поэт, будет представительствовать в веке ХХ.
Увы, много и недостаточно внимательных читателей. Называют имена Велимира Хлебникова, Владимира Высоцкого и других, не заметив их имена при чтении. Не обратили внимание и на то, что писателей, отмеченных уже в рейтинге прозаиков, я не стал повторять, за исключением оговорённых мною. Тем более что вослед за поэтами я дам рейтинг ведущих русских критиков ХХ века, и далее выпущу этот свой обзор ведущих писателей ХХ века книгой. Мои объяснения не удовлетворили иных читателей. К примеру, MUTalberg пишет: «Хороший список. А где Бунин и Набоков, или я проглядел?» Да, проглядел в предыдущем списке прозаиков. Ещё один читатель mitin@hermitage.ru добавляет с упрёком: «Да с Буниным Вы... даже неудобно как-то…» Заклинатель змей и Алёха предлагают добавить Варлама Шаламова, но согласитесь, что всё это – прежде всего наши великие прозаики. Не будем их делить на части. Оставим в прозе.
Несколько человек обратили внимание на эмиграцию Дмитрия Кленовского. Как он мог в 1942 году оказаться в Германии? Хочу заверить, предателем родины он не был. Во-первых, увы, к 1942 году в Германии оказалось несколько миллионов русских военнопленных, из них больше миллиона погибло, многие вернулись после войны в Советский Союз, но многие и остались. Этих многих тоже было – миллионы. И далеко не все из них были власовцы. Неужто, миллионы ПРЕДАТЕЛЕЙ РОДИНЫ? Тогда объясните, почему у русских столько предателей? Ни у какой другой страны столько предателей не воевало против своего народа? Да и в первую мировую никаких «власовцев» у нас не было. Откуда же взялся миллион русских, служивших в разного рода «власовских соединениях»? Хотя, должен признать, что и из власовцев вышло немало писателей, художников и музыкантов. Тот же Олег Красовский, редактор журнала «Вече», Борис Филиппов – известный историк литературы и прозаик, Борис Башилов – ныне любимый автор «Нашего современника», Леонид Ржевский и другие.
Но Дмитрий Кленовский не был ни военнопленным, ни власовцем, что видно уже по возрасту (Род. в 1893 году.) Во-вторых, был и другой поток – особенно с территории Украины, когда эшелонами на работу в Германию отправляли насильно сотни тысяч рабочих и специалистов. Если бы немцам подвернулись Галя или ледоруб, вполне могли бы тоже загреметь в трудовые немецкие лагеря. В случае отказа загремели бы уже в другие лагеря – смерти… Многие из этих сотен тысяч, отправленных в Германию на работу, тоже после войны остались за границей, разлетелись по всему свету. Так оказался в эмиграции и Дмитрий Кленовский. Галя наивно предлагает, мол, Кленовскому надо было уехать в Ташкент, а не в Германию. Интересно, как же он мог из оккупированной немцами Украины переехать в Ташкент? Кстати, Галя, проживающая в Канаде, могла бы поговорить с уцелевшими эмигрантами второй волны. Им пришлось гораздо хуже, чем ей при переезде в Канаду. Впрочем, в своих поездках по русской диаспоре за рубежом я уже не раз сталкивался с таким явлением и в США, и в Австралии, и даже в Израиле. Вдруг сытые мигранты из России от тоски превращаются в суперсоветских патриотов. И нас учат, как любить Россию…
Либеральный еженедельник «Open Space.ru» 31.07.2009 в статье о поэзии «Варварство – эллинизированное, мир – пластмассовый, действие – прямое» даёт аншлаг – «Взрослые Гандлевский и Медведев, детский Сатуновский и недетский Бондаренко; поэзия на BBC, а поэт – в тюрьме», и далее пишет: «Активизировалось на этой неделе и консервативное крыло. Во-первых, можно было бы упомянуть известный текст В.Топорова о В.Гандельсмане, но комментирование публичных доносов не входит в задачу этой колонки. Владимир Бондаренко в газете „Завтра“ представил свой вариант рейтинга „50 русских поэтов XX века“. Список начинается Случевским, заканчивается Губановым, а внутри Е.Евтушенко соседствует с С.Куняевым, П.Васильев с О.Мандельштамом, Д.Самойлов с Т.Глушковой. Список показательный, такой мог бы выйти из-под пера умеренно консервативного советского критика брежневской эпохи, если бы ему чуть ослабили идеологические вожжи. Впрочем, В.Бондаренко и есть такой критик. Он, однако, выглядит образцом умеренности и компетентности на фоне А.Ермаковой, опубликовавшей в „ЛГ“ рецензию на книгу „Солнце без объяснений. По следам XIV и XV Российских фестивалей верлибра: Сборник стихотворений“…»
Не знаешь, обижаться или гордиться. Впрочем, если идти от истинных установок критики ХХ века, в том числе и советской, то я согласен с обозначением себя как «умеренно консервативного советского критика», ибо критика ХХ века, в том числе и советская, воспринимала литературу, как и в античные времена, не просто как развлечение или забаву, а как прямое воздействие на душу человека и на всё общество в целом. Сегодня господствует совсем иной взгляд на литературу. Сами же либералы признаются в крахе постсоветского либерального искусства. Поэт Максим Амелин указывает на пластмассовость современного ему искусства: «Вещь недолго и нетрудно изготовить по определённым шаблонам, но, в то же время, она недолговечна в употреблении и совершенно взаимозаменяема. Одна пластмассовая ложка вполне заменима другой пластмассовой ложкой. Вот такая у меня концепция. Поэтому такое бесконечное количество поэтов, каждый сезон приносит новых гениев, и потом их напрочь забывают через сезон». Поэт Александр Кабанов ещё более откровенен: «Нужно изначально понять, что писать стихи – это удовольствие телесного уровня. Как только ты это понимаешь, ловишь этот кайф…»
Я думаю, что все критики моего поколения и старше, от Топорова до Чупринина, от Аннинского до Лобанова, от Курбатова до Латыниной – такие же «советские критики брежневского времени», кто поконсервативней, кто полиберальней, и не считают поэзию телесным наслаждением или же пластмассовой ложкой. А что касается моей консервативности, то она и заключается в том, что как консерватор, как охранитель прошлого я не могу отказаться при составлении своего рейтинга даже от чуждых мне поэтов типа Евтушенко (читайте мою статью «Оральный пафос Евтушенко») или Багрицкого. Консерватор не сбрасывает никого из заслуживающих поэтов минувших дней с корабля современности. А либерал, забыв спокойно и о Павле Васильеве, и о Юрии Кузнецове, составит весь список из бесконечного повторения своих «четвёрок» от Пастернака до Мандельштама, постепенно снижая качественный уровень до Веры Инбер и Ильи Эренбурга. Когда-то Владимир Маяковский любил посмеиваться, читая вслух пародию одного из консерваторов: «Дико воет Эренбург, Повторяет Инбер дичь его. Ни Москва, ни Петербург Не заменят им Бердичева». И ещё. Похоже, что Виктор Топоров так же, как Ефим Лямпорт или Изя Шамир, прочно вписаны в чёрный ряд «консерваторов». С чем и поздравляю своих коллег.
Интересно, а либералы из «Open Space.ru», возмутившись моим сопоставлением разных имён, поинтересовались, как Осип Мандельштам относился к Павлу Васильеву, а Давид Самойлов к Татьяне Глушковой. Ведь, это всё – тоже «советские поэты», и отношение к поэзии друг друга у них никак не определялось по пятому пункту или по идеологической направленности.
Думаю, что и альтернативный список поэтов, составленный, в основном, из интернетных сообщений читателей на форуме «Завтра» и добавлений читателей Живого Журнала, не всеобъемлющ. Много на Руси поэтов, хороших и разных. Даже из читательского списка половина осталась за бортом, никак не влезали в указанное число. Тут уже я сам вычёркивал лишних, исходя из собственных критериев. Меня и судите. Читайте альтернативный список поэтов ХХ века в следующем номере.
Андрей РУДАЛЁВ МИССИОНЕР ДУХА
"В области духа христианство –
самая великая революция"
Фёдор Абрамов
О религии мы рассуждаем, как о чём-то прошедшем через третьи руки. Православие для многих из нас стало чем-то чужим, забытым, чудом сохранившимся реликтом из прошлого, мы часто не ощущаем живой, сердцем бьющейся взаимосвязи между нашим прошлым и настоящим. Мы живём одним моментом и то, что грозит разорвать, порушить его границы, мы пытаемся перечеркнуть.
Перечеркнуть, забыть то многовековое прошлое, составляющее нашу гордость и славу, забыть ту тысячелетнюю могучую культуру – наследницу великих культур древности и опирающуюся на Православие. Хотим мы этого или не хотим, но именно эта традиция и является, по сути, нашим всем, из неё складывается то понятие, которое именуется духовностью. И неважно, делает ли писатель сознательную установку, или же он просто талантливый художник, но эта традиция, эта культурная память, несущая в себе огромный духовно-нравственный потенциал, систему ценностей, подспудно прорастёт в его текстах. Главное, чтобы художник был искренним, правдивым человеком. Именно такой пример и являл собой Фёдор Абрамов – писатель, подходивший к христианству чрезвычайно осторожно, открывающий его, в первую очередь, через народную нравственность. Исследуя душу, к примеру, простого крестьянина, он ясно осознал: сколько бы ни выкорчевывали, ни отнимали у человека веру, она – жива. В ней, в её неописуемой красоте и необыкновенной чистоте – залог возрождения нации и каждого отдельного человека.
Чрезвычайно важным является открытие в конце 90-х для широкого круга читателя неоконченного произведения Абрамова – «Чистой книги», которое самим автором расценивалось главным делом всей его творческой биографии.
Первое и, пожалуй, самое главное, о чём напоминает нам Фёдор Абрамов – это его свидетельство, что вера жива, она везде, она воздух, пропитанный тысячелетней историей, её невозможно выкорчевать, ведь даже разобранный по кирпичикам монастырь, церковь получает новую жизнь: из её останков складывают деревенскую избу (роман «Дом»). Так и вера, святость переходит и вживается в быт людей, уходит на подсознательный уровень и становится той естественной религией, коей было язычество для наших предков.
Крепко сидит в народном сознании Евангельская этика. Она воспринималась неким преданием, переходящим из поколения в поколение; завещанная родителями – живая, неотрывная от обыденной жизни (Федосью учила «родная мать: добрым словом да смирением обезоруживать ругателей и лиходеев»). Здесь в душе человека и хранилась эта вера, будто сокровище в заветном сундучке, именно в ней была перенесена через лихую годину и отсюда заново воссияет миру. Что очень важно, писатель говорит о стремлении человека навстречу Церкви, но и о необходимости движения Церкви навстречу человеку. Ведь люди будто бурей огромной разрушительной силы были вырваны с корнем, оглушены, их сознание было задавлено. Задача Церкви приживить их обратно, врастить заново в почву. Как раз в том, что Церковь не всегда шла навстречу человеку, не всегда должным образом вслушивалась в его проблемы, замечала его нужды, Фёдор Абрамов видит причину того, что человек отошёл от неё и с головой окунулся в омут различных теорий, обещающих ему скорые жизненные блага.
В «Чистой книге» писатель говорит о двоякой роли Церкви: «прогрессивная (Русь объединили) и отрицательная: научила русского человека умирать, но не научила жить (воин, но не личность)».
Эта двойственность отражается во многом. Существует Марьюшка, монастырь с его суровой аскезой и, с другой стороны, сельский священник Аникий, проповедующий красоту и радость жизни. Отсюда и нет общей точки зрения по вопросу о ценности земного человеческого существования. Жизнь – высшее благо, высшая ценность, дар Господень, и в тоже время – некий временный полустанок между двумя крайними координатами: смертью и вечной жизнью. В связи с этим тело человеческое может восприниматься как сосуд греха, темница души, и одновременно – храм. Быть может именно поэтому, застряв между двумя «или-или», религия окончательно и не реализовала свою миссию. Потребовался марксизм, чтобы сделать крен в другую сторону, чтобы утвердить и попытаться реализовать так долго чаемое Царство Божие на земле. Утвердить за счёт отрицания всё тех же крайних координат. После чего остаётся только человек перед лицом другого человека, с лицом перекошенным яростью и злобой, готовым на всё, чтобы уничтожить смерть и в месте с ней вечную жизнь. Так Царство Божие превращается в поле брани, на котором гибнут в ужасных муках сотни, тысячи, миллионы.
Абрамов вслед за Достоевским показывает тот необычайный вред, который причиняет подмена живой, настоящей жизни какой-либо искусственно созданной идеей. Ей будто «золотому тельцу», языческому идолу люди приносят себя, своих родственников, знакомых, весь мир в жертву. Гунечка – младший сын в семье Порохиных: «Сама доброта. Монастырь, церковное любил. Молитвенник семьи. Пост соблюдал. Готовил себя в монахи. Любил божественное… Мир, лад вносил». И что же, чем он кончил?
«Началась революция. И всем сердцем прилепился к революции. На земле царство Божие установить! Бог – любовь. Справедливость. Братство. Не было человека, которому бы так были близки идеалы революции: свобода равенство, братство. Гунечка записался добровольцем. 18 лет. Убит в первом же бою». Вот только праведный отрок Артемий Веркольский, поражённый молнией, почитаем за святого, а Гунечка, которого многие пророчили в святые, так и не стал им.
Писатель делает акцент на том, что у коммунизма и христианства примерно одни и те же корни: «Русскую почву усердно, столетиями засевали семенами христианства. А семена христианства так ли уж отличаются от семян марксизма? Нет, их нравственная основа одна и та же. Только марксизм обещает урожай скорый, в этой жизни, а христианство – за её пределами. И как же исстрадавшимся, измучившимся россиянам было не соблазниться, не принять в своё чрево семена, обещающие рай на этой земле?» (цит. по Крутикова-Абрамова Л. Фёдор Абрамов и христианство. Нева, №10, 1997, с. 174).
Как считает Абрамов, «величайшее преступление марксизма-ленинизма перед русским народом и всем человечеством, что он убил в людях веру в Бога». Да и сам человек «выпал из стройной системы Маркса» и не просто выпал, но оказался не у дел. Христианское же учение, к которому всю свою жизнь достаточно осознанно подступал Фёдор Абрамов, свидетельствует о человеке как о вершине творения. Он есть главное доказательство единения миров. Развивая этот тезис, один из Учителей Церкви преподобный Максим Исповедник подходил к необычайно важному утверждению, что «сущие, согласно единообразующей связи, принадлежат скорее друг другу, нежели самим себе». Именно стремлением к этой принадлежности друг другу, отсутствием своекорыстных помыслов отличаются многие абрамовские герои. Они попытались разрешить извечную проблему примирения интересов «я – мы», личного, интимного и общего.
Примером такого единения может служить личность и служение сельского священника Аникия. Когда он проводит службу, у него «всё сверкает, всё сияет. Любовь от всего. Травы цветут тут зимой. Ангельская доброта, ангельский голосок у Аникия... Великое очищение». Очищение происходит при обретении синтеза земного и небесного, человеческого и Божеского. Аникий – «божий барашек», «ангел, спустившийся на землю», живое воплощение христологического догмата о двух природах во Христе, где одна ни в коем случае не умаляет другую.
Мир изменяется, преображается только с обретением единства мирского и церковного. Достигнув тридцатилетнего возраста, Христос восходит на труднейший путь общественного служения. В этом ему последуют все христианские подвижники уже более двух тысячелетий.
Следует отметить, что Церковь Абрамовым понимается не просто как архитектурное сооружение, а – некое духовное целое, «духовный костёр», в котором происходит горение, взаимовозвышение людей: «Церковь. Многолюдье. Если верующие – духовный костёр. И в этом костре выгорают все мерзости. Взаимодействие верующих людей».
Для Руси вообще характерно многочисленность святых мирян, здесь монастырь вовсе не является монополистом святости, которая шагнула далеко за его стены. Об этом свидетельствовал ещё Георгий Федотов в своем труде «Святые Древней Руси». Можно сказать, что вся Русь находится под покровом Церкви, в «духовном костре» которой выгорает вся скверна, но как только страна отворачивается от Церкви, сонмы демонов обступают её.
Однако такие персоналии, наподобие Аникия, скорее исключение, чем правило. Он практически диссидент, многим кажется просто чудаковатым, и при этом своим примером он показывает, что Церковь – это не есть территория только лишь святых, небожителей, но сообщество живых людей с их слабостями, недостатками, текущими каждодневными проблемами. Самоотстраняясь от мира, пренебрегая миссио– нерской деятельностью, Церковь сама себя определяет в резервацию. Уже в конце 20 века диакон Андрей Кураев в интервью газете «Настоящее время» (М., 1998, №9) говорит о недуге, поразившем церковную жизнь, в которой «распространено убеждение, что служение Богу – это только богослужение, что церковная жизнь тождественна жизни литургической. Нередко священник, который пробует выйти к людям за храмовую ограду, идёт в школу, в университет, в газеты, в больницы, начинает восприниматься как „обновленец“ и „протестант“».
Фёдор Абрамов считал, что высшее предназначение Церкви состоит в объединительной функции, в том, что она ни в коем случае не уводит человека от жизни, а, наоборот, подготавливает к ней: «Всё удивительно жизнерадостно. В общем, храм настраивал не на отказ от жизни, а наоборот. Он заражал жизнью. Любите жизнь! Она и есть рай настоящий – вот какой смысл, кажется, вкладывал художник в росписи. Ваш край суровый. Но жизнь хороша. Да, удивительно радостные службы были в этом храме». Лучшего сопоставления, пожалуй, и не найти: суровая северная природа, всеми силами протестующая против самого факта существования человека и храм, как торжество жизни – частичка рая в посю– стороннем мире. Храм соединяет небо и землю, холод и тепло, север и юг.
Русский Север, что отечественная культура, хрупкий, с необычайно тонким плодородным слоем. Если и занесёт какое живое семя ветром, то, едва пустив корни, оно может быть погублено следующим порывом. Единственный оплот – храм, нечто основательное: «Да, суровый север. И вдруг райские кущи. Выходить не хочется из храма». Именно он не только аккумулировал в себе, но и оберегал, сохранял отечественную культуру. Обогащал её необычайной, буквально райской красотой, а также людьми, ведь «в характере северянина, как нигде в России, сочетаются эти взаимоисключающие начала. С одной стороны – размах, широта, стремление к просторам, к воле. А с другой стороны – тихость, смирение, особое ощущение братства, соборности, артельности…»
Именно этот человек и составляет самое большое наше богатство, с которым ничто другое не сравнится: «Страшные обстоятельства жизни, но какие люди! Темно, а светло. Потому что люди, человеческие характеры – здешнее солнце. Нет долго солнца – от людей свет. В людях спрессовано солнце, тепло. Доброта. И она греет».
Человек – микрокосмос, всё в нём собрано, всё соединено, весь мир. Оттого то у него с этим миром чёткая непорушенная взаимосвязь. И именно здесь на Севере понимаешь всю значимость человека, всё его величие. Величие человека духовного, человека «внутреннего», тяга к которому подспудно, порой на интуитивном уровне присутствует у многих писателей. Так, например, Анна Ахматова в одном из своих ранних стихотворений «Молюсь оконному лучу» говорит о страдании как отправной точке коренного изменения, преображения, просветления человека, а через него и всего мира. Способность внутреннего духовного воз– рождения, большой потенциал преображения, пародией чему, к сожалению, являются частые шатания от иконы к топору, отмечает в качестве основной особенности русского национального характера и Абрамов.
России нужна Церковь, а Церкви Россия. Церковь должна секуляризироваться, войти в мир, как в первые века христианства миссионерская деятельность её должна быть поставлена во главу угла. Секуляризироваться, пойти навстречу миру, чтобы таким образом максимально приблизить его к себе, ввести в своё лоно. Церковь, уподобившись Христу – Богочеловеку, сама обмирщвляется, из Ветхозаветной становится Новозаветной. Проповедником этой новой секуляризации Церкви и является абрамовский Аникий.
«Секулярное» можно формулировать не как отстранение от религиозного, а процесс его влияния на мир, присутствие, вхождение религиозного в мир. Обмирщение в данном ключе должно восприниматься, по аналогии с Богояв– лением, вочеловечиванием Божественной Ипостаси Троицы за изменение мира под влиянием религиозного. Весь этот процесс мыслится обоюдонаправленным: с одной стороны, происходит обмирщение Церкви, а с другой – воцерковление мира, для которого Церковь есть некий ориентир, цель самосовершенствования, саморазвития мира, движитель его истории. Отношения «мир – Церковь» строятся по принципу свободы, свободного выбора. Церковь вовсе не «прокрустово ложе», под которое всё подгоняется. Несмотря на свою кажущуюся статичность, она создаёт огромный потенциал для развития.
Церковь может представляться идеалом нравственного общественного устройства. С точки зрения христианина всё в мире особым образом организовано, взаимосвязано, соединено. Всякая дифференциация явлений, всякое деление на индивидуальности возможно лишь только во внешнем созерцательно-чувственном плане. Органы чувств не в состоянии уловить все внутренние скрепы явлений, которые раскрываются через нравственную философию – «умное зрение». С этих позиций та же Церковь становится образом Бога, образом мира как чувственного, так и невидимого, символом человека и изображением души (см. трактат преп. Максима Исповедника «Мистагогия»). Только «умное зрение» даёт представление о мире как системе зеркал, где всё отражается во всём. Так, например, частный грех отдельно взятого человека может стать прямой причиной кровопролитной войны, унесшей жизни десятков тысяч.
Христианское учение утверждает мысль о том, что каждый в ответе за всё и всех. Нет чужого несчастья, чужого горя, чужого преступления. И любое исправление возможно только через очищение, возвращение вспять через источник искажения к первоначальному истоку – чистому незамутнённому образу. Абрамов сравнивает человека с кораблём, который «обрастает ракушками, водорослями, тиной. И ему надо время от времени очищаться. Самое надёжное и самое действенное очищение – религия, искусство, простое человеческое слово».
В «Чистой книге» мы видим два разнонаправленных течения времени: поддерживающее событийный ряд повествования – реально-историческое время и ориентированное на духовно-нравственные ценности, максимально приближенное к сакральной хронологии. Одно ведёт в революцию, к смерти, другое – открывает человеку самого себя и приводит его к Богу. Отсюда следует совершенно закономерный вывод: «Истоки жизни сами по себе чистые. И земля, и лес, и реки – всё хорошо. Чистый человек, который помогает жизни, природе. Не красота, а чистота спасёт мир. Красота бывает страшной, опасной, а чистота всегда благодетельна, всегда красива. К чистоте надо вернуться». В этой сакральной хронологии движение происходит по кругу. Всё движется вспять, будто следуя желанию самого автора «воскресить прошлое»: блаженная старушка Махонька становится старухой-ребёнком, взрослые мужи на поле брани в её глазах видятся детьми…
Суть замысла «Чистой книги», как впрочем и всего творчества Ф.Абрамова: показать движение заблудшего человечества к Богу. Абрамовский мир держится на праведниках, на вере в человека, причём понятие «праведной жизни» трактуется очень широко, нет единого общепринятого рецепта: её границы простираются от подвига Аввакума до Артемия Веркольского, от образа Богоматери до Марии Магдалины. Все они вместе представляют бесконечный мартиролог: умирание в страданиях и воскресение, соединение в единый телесно-духовный организм. Все они части одного большого Дома – Храма, построить или хотя бы принять участие в реконструкции которого – их земная миссия, удел. Это особенно актуально в наше время, когда уже нет самого автора, нет многих его героев, коренным образом изменилась общественно-политическая атмосфера, неузнаваемым стал сам лик страны. Однако, тот самый вечно живой «инстинкт» веры возвращает нас по тропе перелётных птиц к прошлому, к извлечению уроков из него, к выявлению того, что мы потеряли, в очередной раз забыли или сломали, как неблагодарные дети.