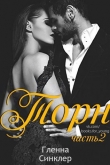Текст книги "Газета День Литературы # 108 (2005 8)"
Автор книги: Газета День Литературы
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
Лев Игошев ПОПЫТКА ПОДВЕСТИ ЧЕРТУ. Еще раз по поводу Гарри Поттера
НЕ БУДУ ПОДРОБНО ПОВТОРЯТЬ ИЗВЕСТНОЕ: волну «поттеромании», пронесшуюся по миру и не миновавшую и нас. Как всегда в таких случаях, не обошлось без крайностей. Отдельные наши «батюшки» довольно-таки энергично выступили против сего «бесовского совращения» (эту бы энергию да в государственных целях!). О. диакон А. Кураев более или менее взвешенно доказывал, что нет смысла неистовствовать из-за сказочек нового типа. Всё это, конечно, было лишь слабым отражением мировых бурь. Некоторые католические священники даже устроили для сей книги аутодафе, сиречь торжественно сожгли её, что побудило заведомых либералов к неистовой истерике в самом классически-либеральном – то есть наиболее тошнотворном – духе. Словом, всё прошло своим чередом…
По моему мнению, основные выводы по этой книге так и остались за рамками рассмотрения. Подчас создавалось впечатление, что уважаемые оппоненты говорят не то что на разных языках, но и о разных предметах. Увы, некоторая недосказанность сопутствовала едва ли не всем говорившим и писавшим на сию тему. Люди часто выплёскивали своё отношение, не пытаясь даже подумать, почему оно такое, хватались за готовые (и безмерно стёртые) ярлыки только затем, чтобы как-то оправдать свои эмоции… Особенно странно было ощущать то, что это происходит в России – стране, где литература имеет традиционно большое значение и где есть неплохая критическая школа. Впрочем, об этом должен быть отдельный разговор.
Коль скоро вся эта вереница современных сказок взбудоражила многих (и, кстати, показала, что сегодня не только в России литература может быть влиятельна), необходимо разобраться, в чём же тут проблема. Почему, как, откуда пришло такое отторжение в общем-то талантливого произведения? Почему люди так забеспокоились по поводу сказочек, которые, по большому счёту, рассчитаны только на самого раннего подростка?
Прежде всего надо сказать, что подросток, как тип, уже давно является центром моды в современном мире. Вся наша массовая музыкальная, извините за выражение, культура ориентирована на него – на его истеричность (вспомните, как ведут себя эти «звёзды» на сцене – да и в жизни), на его эмоциональность – а точнее, «гормональность» (то, что в русской традиции принято выражать поговоркой «моча в голову ударила»; в ней хорошо показан и сам характер этих гормонов) – словом, на все издержки бурного пубертата. (Гораздо лучше моего ускоренного изложения это показано в книге Э. Лимонова «Убийство часового».) Поэтому неудивительно, что люди, привыкшие потреблять подростковость – и в общем-то не находящие для себя другого типа искусства (ибо его НЕТ на рынке), кинулись и на эту вещь. Но сам этот процесс и показал данную проблему – показал слишком ярко и отчётливо. Кроме того, к этому присоединилось и нечто иное.
Когда я читал изящные, точные, литературно хорошо отделанные сочинения А. Кураева, у меня возникало двойственное чувство. С одной стороны, да, так всё оно и есть. Сказка есть сказка. Эта сказка отнюдь не худшая. В наших народных сказках есть тоже персонажи далеко не от Писания – и не всегда только злые (хотя явно общающиеся с миром духов). Но нелепо же ожидать, что образ Бабы-Яги совратит кого-то в сатанизм! А между тем (и здесь приходится соглашаться с о. диаконом) в книгах о Поттере в доходчивой форме преподано многое из общечеловеческой морали. Преподано хорошо. Непонятно одно: почему же было такое «накидывание» на эти несчастные фэнтези?
Логичный, чёткий, аккуратно прописанный текст о. диакона напоминал мне массу сочинений лучших семинаристов XIX века – века, когда прямо из-под семинарской кафедры люди бежали в самое оголтелое безбожие (как, например, Чернышевский). Конечно, причин тому много. Но всё же – почему именно оттуда?
Такой текст и на такую тему и показывает, по-моему, одну из причин былой катастрофы – и нынешних скромных успехов Православия. В семинарии учили (и учат) крайне, предельно рационалистическому подходу. Семинаристы писали и пишут о духах – от третьей ипостаси Божества до духов злобы поднебесной. Но всё это – логические упражнения, формальные конструкции, более или менее хорошо сцепленные друг с другом, нечто такое, что сегодня компьютер за долю секунды налепит в количестве страшном. А вот другого – именно ЧУТКОСТИ к духам, к веяниям, к тому, что слышится «сквозь», «в тонком сне», «в дусе хлада тонка», как пророку, «сквозь мутное стекло», как Апостолу Павлу, – этого-то и не было там – и нет.
А без этого, без чуяния веяний, без интуиции, без «духов», самая лучшая логика – это только скальпель. «Всё им разрежу» – шумит отважный «семинар». Да, пожалуй. Только всё-то зачем? «Всё рассужу». Да на это жизни не хватит. Да и зачем – всё? Сидеть и философствовать, как миллион метафизиков до того: камень есть по сути камень, кирпич есть кирпич, «верёвка – вервие простое»? Дальше-то что? Такой подход и пригоден только для «кирпичей» – для «материи» в самом примитивном её понимании. И если кто-то со стороны придёт и скажет, что вот – «Бога нет», то таким мыслителям, пожалуй, даже и легче станет (по-видимому, это и было в XIX веке). С Дарвиным, конечно, «по логике» разбираться проще…
И странно, в высшей степени странно, что ТАКОЙ подход до сих пор применяется в обучении служителей ХРИСТИАНСТВА – религии, как говорил Элиаде, авраамической, религии Откровения. Сам же Кураев писал в других текстах: если Бог не сойдёт – человек до Него не достанет. Не анализ, не строительство Вавилонской башни (хотя, да, и это всё нужно или может быть нужно – но не в первую очередь) – но слышание того, что веет – а в идеале Того, кто навевает. Или того, кто куда как похуже – но пытается навеять свои отбросы… Тут, конечно, нужен дальнейший анализ и отбрасывание негодного. Но только ДАЛЬНЕЙШИЙ анализ. Анализ же в первую очередь может привести к «вавилонскому эффекту» – он мне про Фому, а я ему про Ерёму. Что, судя по всему, и получилось в дискуссии о Поттере.
А уж по отношению к литературному тексту, как вещи не формально-логической, вещи, где первую роль играют именно навевания, впечатления самые разные – вплоть до аллитерации тех или иных гласных – эта чуткость должна быть приоритетна. «Я СЛЫШУ в этом тексте нечто» – вот с чего должен начинаться анализ. Сперва «слышу», «чую» – и потом анализирую, что, почему, как на меня навеяло – и кто это навевает – Тот, кто наверху – или кто похуже. А если ничего не веет – нечего и резать, нечего скальпель тупить. Тогда одно из двух: либо здесь всё глухо – и не стоит на эту мертвечину и силы тратить, либо нет чуткости – ну, тогда нечего за это дело браться. Раз слон на ухо наступил – нечего в консерваторию идти.
Так вот, во всей этой «поттеровине», помимо всех политкорректных выводов, помимо провозглашения прописей типа «верность прекрасна, а измена дурна», помимо вполне положительного облика главного героя, а равно и сопутствующих ему лиц, помимо, помимо, помимо… слишком явно чувствуется дух, хорошо знакомый тем, кто изучал английскую литературу определённого типа. Это – садомазохистское влечение к Ужасу, Мраку, Крови. Именно так – с больших букв.
Слишком мрачен сам тон легенд. Слишком чудовищны все эти призрачные химеры – этого явно многовато даже для типичного подросткового эпатажа. Слишком огромен Волан-де-Морт – сиречь Воля к Смерти – ни больше ни меньше. Слишком безоглядно жестока жизнь – если это так можно назвать – в этом несомненно притягательном призрачном мире. Именно совмещение жестокости и притягательности, собственно, и пугает – своим явным «садо-мазо».
Но повторю: это – не новость. Для англосаксов это издавна притягательно (правда, особенно это расцвело в пуританское и постпуританское время – но это тема особого материала). И готический «роман ужасов», который родился во время Просвещения (кто бы мог подумать!) – в XVIII веке, и, конечно же, в Англии (и в котором, кстати, тоже чертовщины немеряно). И пресловутый Франкенштейн, родившийся опять-таки – где? – правильно, в Англии же. И фольклорные (то есть почвенные, запомним!) рассказики Диккенса, пронизанные сумасшедше-загробным ужасом, равного которому, пожалуй, трудно сыскать во всей мировой литературе. (Интересно, кто-нибудь читал все эти красоты с попыткой приворожить ненавидящую женщину, с амулетом из кожи повешенного, заговорённым в жутком ритуале, с сумасшествием и убийством? Даже гоголевские «ужастики» куда как светлее.) Запомним, что это писал писатель-гуманист, любивший кстати и некстати пролить слезинку по поводу бедных, несчастных, обездоленных. И детективы, появившиеся тоже в англосаксонской среде – и в которых всегда полно и Ужаса, и Мрака, и Крови – и которые ВМЕСТЕ С ТЕМ (!) захватывают и ВЛЕКУТ (!) читателя к этому. А тут ещё и это… повторение готического романа для подростков…
Да пусть бы эта миссис Ролинг вписала в тексты своих творений хоть все библейские и евангельские заповеди, хоть все советы Св. Отцов – что толку? Это же ХУДОЖЕСТВЕННОЕ произведение! Что она ни напиши – сам дух, рвущийся отовсюду – вплоть до расстановки слов в строке – будет говорить именно об Ужасе, Мраке, Крови. И ещё – о том, как они страшно, необоримо, неотразимо притягательны.
Да, мы, взрослые люди, знаем, как с этим быть – книгу под стол, и все дела. Это же так, вымысел, fiction. А подросток?
Вопрос, который ставится и этими книгами, и всяким «толкиенутием», и прочим, прочим, прочим в том же духе, не столь прост. И должен он звучать так: не слишком ли специфична та часть англосаксонской культуры, которая теперь, в связи с глобализацией, без мыла лезет всюду? Не производит ли она разрушительного действия на души иных людей, не зацикленных на всякой дикости? И не должны ли мы оберегать себя от проникновения сего «духа», какими бы моральными прописями он себя ни прикрывал?
И речь здесь должна идти не только – и даже не столько о Поттере. К сожалению, и из-за последствий Великой Отечественной войны, и из-за жуткой идеологизации советского периода, и из-за мракобесности и нетерпимости личностей, называющих себя то «либералами» (тоже мне свободолюбцы!), то «демократами» (интересно, КАКОЙ такой «демос» – то бишь народ – они представляют?), у нас до сих пор неразвита тема соотношения различных национальных культур. Попробуй сейчас скажи, что то, что в одной культуре есть хорошо или, в крайнем случае, терпимо, для других может быть и разрушением – сразу получишь клеймо «фашиста» (по анекдотической логике – обвинять тебя будут реально в НАЦИЗМЕ, а клеймить – ФАШИСТОМ! Эти господа не понимают разницы между данными далеко не одинаковыми понятиями). Поэтому до сих пор и остаётся неисследованным данная разность культур.
Разумеется, это ни в коем случае не следует понимать так, что какую-то культуру надо объявлять «зловредной» с соответствующими оргвыводами. Здесь именно должна идти речь НЕ о какой-либо культуре как САМОЙ ПО СЕБЕ, но о культуре, уже воспринятой через призму ДРУГОЙ культуры и, в силу этого, как бы переделанной. Здесь было бы уместно такое сравнение: есть же бинарные боеприпасы. Два вещества лежат рядом – и каждое из них само по себе ничуть не опасно. Но вот они соединились – и в итоге получилось нечто или взрывоопасное, или отравляющее. Боюсь, что слишком часто нечто подобное получается при навязывании англо-саксонской протестантщины. И боюсь, что это относится не только к миру сказочек для подростков или около того, а ещё и при заимствовании у англо-американского мира всяких политико-экономических концепций – например, рыночности или вроде того…
Вот потому я, при том, что сам отнюдь не католик да и не очень люблю католиков, понимаю чувства того мексиканского падре, который взял эту талантливую – да, талантливую! – книгу мадам Ролинг – да и кинул её торжественно на площади в пылающий костёр, со всем фанатизмом и всей торжественностью времён былых. Оно, конечно, не метод – так бороться, да ещё и бороться с талантливой, в общем, вещью. Но натиск этой дикой и злобной англо-саксо-протестантщины сам по себе неистов и разрушителен – и потому вызывает неадекватные ответы.
Надо бы задуматься над ответами адекватными…
Руслана Ляшева ГДЕ ЖЕ НАШ ПАСКАЛЬ?
Книга Бориса Тарасова «Мыслящий тростник». Жизнь и творчество Паскаля в восприятии русских философов и писателей" (М., Языки славянской культуры, 2004) интересна в нескольких аспектах. Французский мыслитель теперь у нас издается. Возможно, наиболее полно Блез Паскаль представлен в «Собрании сочинений»: «Мысли», «Письма к провинциалу», «Трактаты» (Киев, 1997). Этот трехтомник из серии «Единая история единой Европы» (издательство «Port-Royal») разошелся на Украине и в России. В XVIII и в XIX веках его в русском обществе читали просто на французском.
И не только читали. Усваивали идеи, затем развивали их в своем творчестве. Кто именно? Как именно? Ответить на этот вопрос взялся доктор филологических наук, профессор Литературного института Борис Тарасов, что и осуществил обстоятельно в 600-страничной монографии, в приложении к которой опубликован главный труд Паскаля – «Мысли». Получился большой и нарядный «фолиант» с «Троицей» Андрея Рублева и портретом Паскаля на лицевой обложке и скромным (по размерам) портретом автора на второй. Серия «Studia philologica») пополнилась красочным изданием (по оформлению) – классическим и жгуче злободневным (по содержанию). В первой из трех глав представлена творческая биография французского математика и философа XVII века, во второй и третьей главах исследуется влияние Паскаля на русскую философию и литературу.
У Тарасова в серии «Молодой гвардии» – «ЖЗЛ» – уже выходила книга о Паскале, но такая работа могла появиться лишь теперь. Ведь русская религиозная философия перестала быть запретной, тексты наших замечательных мыслителей – Василия Розанова, Павла Флоренского и других – не пылятся в спецхране за семью печатями. Все почти издано. Подоспело время разговора об этом, особенно с молодым читателем.
В первой же главе, на страницах творческой биографии Паскаля непроизвольно отмечаешь «перекличку» с его идеями то стихов Державина, то прозы Льва Толстого. Вот автор сообщает о последних годах жизни мыслителя: «Бичуя в себе „испорченную природу“, Паскаль учится смирению и простоте: не держать в памяти обид, спокойно вопринимать справедливые замечания на свой счет, становиться равнодушным ко всем мирским страстям и тщеславным устремлениям». На ум, конечно, приходит Лев Толстой – его образ жизни и характер персонажа в повести «Отец Сергий». И действительно, в третьей главе мелькнувшее сходство обстоятельно анализируется. Целый раздел «Л.Н.Толстой и Паскаль» посвящен совпадению и различию мировоззрений двух гигантов человеческого духа.
Надо полагать. этой книге предшествовала огромная работа, но актуальность проблем охваченных исследованием сфер – будь то философия, религия, литература или наука – поддерживали энтузиазм автора и помогли ему с ней блестяще справиться. Впрочем, это вовсе не означает полного согласия, с некоторыми концепциями можно и поспорить. Алексея Хомякова, например, надо бы «тянуть» не от Паскаля, а от немецкого романтизма и Шеллинга, пробудившего у русского славянофила интерес к верованиям древних народов и вкус к типологическому обобщению материала культуры. Конечно, мимо Паскаля Хомяков не прошел, но историческую «Семираиду» он принялся писать после непосредственного общения с Шеллингом в Германии. Хорошо, что книга Тарасова побуждает к спору; я считаю это ее достоинством, хотя проблема истоков учения славянофильства – частная, применительно к такой обширной монографии. Это лишь один аспект.
Есть и другой, тот, который, честно говоря, и сподвигнул на рецензию. Центральное место в новой работе Бориса Тарасова занимает прекрасный комментарий полемики Паскаля с иезуитами. Я сняла с полки «Письма к провинциалу» и чередовала чтение писем с их толкованием у Тарасова. Дискуссия иезуитов и монастыря Пор-Рояль всколыхнула Францию в середине XVII века. Людовик XIV был за иезуитов, а благочестивых католиков-монахов (яисенитов) поддерживал первый ум Франции Блез Паскаль. Полиция сбилась с ног, разыскивая анонимного автора и типографии, где нелегально печатались письма, моментально расходившиеся не только по городам Франции, но и по всей Европе; и безуспешно; никаких следов не оставалось, а дискуссия все набирала и набирала обороты, ниспровергая дутый авторитет иезуитов.
Паскаль, показывает автор книги, оказался в «центре „переворачивания“ средневековой картины мира, когда теоцентризм уступал место антропоцентризму». Такой «антропологический поворот» породил атеизм у советских людей и лицемерную религиозность у монахов-иезуитов; сочинитель писем опровергал первых и воевал со вторыми; иезуиты были опаснее, они клеветой и ложью ослабляли истину и превращали христианство в пустую демагогию.
Меня просто поразило сходство полемики между Паскалем и иезуитами с ситуацией в нашей литературной критике, с той, конечно, разницей, что у Паскаля – блестящая ирония, четкие формулировки, безупречно расставленные идеологические акценты и т.д., а в литературной критике у нас все смутно, размыто и, как говорится в народе, конь не валялся.
Не слишком ли я загибаю? Нет, ничуть! Смутность в критике отчасти вызвана размежеванием потсперестроечной литературы на два лагеря – либеральный и патриотический, которые не только не ведут между собой полемики, но шарахаются друг от друга, как от зачумленных. Какие уж тут формулировки и акценты! И все же главная причина болотистого состояния критики в другом, в самой исторической ситуации страны. Паскаль жил в «поворотную» эпоху, а мы сейчас пребываем в «попятной» эпохе, т.е. повернувшей Россию вспять, к капитализму.
На слуху лозунги и толки о демократии, о рыночной экономике, о приобщении к цивилизованному миру, а на деле то, что в 1917 году многие отняли у немногих, в 1991-м наоборот «немногие» – другие, конечно, отняли у многих и поделили между собой. Что в результате? Любопытное признание сделал Егор Яковлев: «А сегодня мне бывает стыдно перед самим собой. Когда мы все бегали и кричали: „Перестройка необратима!“ или, наоборот: „Перестройка обратима!“ – некоторые спокойно сколачивали себе капитал» («Новая газета», 2005, №29).
К числу «некоторых» принадлежат Борис Березовский и Абрам Абрамович. Первый в Лондоне подал в суд на второго за шантаж и продажу «Сибнефти» за бесценок, за 1,5 млрд.долларов, при цене 15 млрд.долларов. Информация мелькнула в июле в прессе, журналисты (в частности, «Советской России») резонно обобщили, что Березовский купил «Сибнефть» у государства, заплатив меньше 1 млрд.долларов, то есть в 165 раз дешевле настоящей ее стоимости. Вот как «сколачивали» капиталы. Отчет Счетной палаты о приватизации так и остался лежать под сукном; видимо, много в нем аналогичных фактов. Прав Егор Яковлев. Пока он бегал и кричал о перестройке и демократических ценностях, олигархи добрались до других ценностей – до государственной собственности, растащив которую, оставили народ нищим.
Как Паскаль осмыслил бы нашу ситуацию и какой выход подсказал? Такой главы в книге Тарасова нет, но можно пофантазировать.
«Человек, – сказал как-то Виктор Астафьев, – такая бездна» («ЛГ», 2002, №35). По иному видел Паскаль: дескать, человек пребывает на грани двух бездн – бездны бесконечности и бездны небытия. «Все возникает из небытия и уносится в бесконечность... Это чудо постижимо лишь его Творцу. И больше никому», – сказал он и спохватился, возвысил человека: «Через пространство вселенная меня обнимает и поглощает, как точку; через мысль я ее обнимаю и понимаю».
С космической бесконечностью человек худо-бедно может совладать, труднее «мыслящему тростнику» приноровиться к двойственной натуре человека – он ангел и животное одновременно. Попробуй, не превратись в животное при таком раскладе! Значит, кто-то должен ему постоянно напоминать про его вторую, ангельскую и духовную ипостась. Возможно, именно литературный критик и должен делать эту «грязную» работу, расчищать авгиевы конюшни рыночной эпохи и не позволять прозаикам и поэтам отлынивать от дела под благовидным предлогом постмодернизма или неореализма? И вообще, где наш Паскаль? Ему пора объявиться. Константин Паскаль – хороший поэт. Но где Паскаль-публицист?