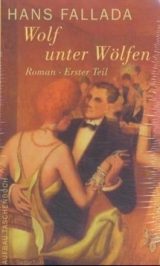
Текст книги "Волк среди волков"
Автор книги: Ганс Фаллада
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 68 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]
Наверху сидел Вольфганг, внизу хлопотала у плиты незнакомая девушка.
Он равнодушно и тупо смотрел в светлое высокое окно, сквозь завесу виноградных листьев, на залитый солнцем сад. Впрочем, в окно была вделана решетка. «Потому что, – думал он рассеянно, – как прячут за решетку преступление, так укрывается за нее и богатство. Только там оно чувствует себя в безопасности – за решетками банков, стальными стенками сейфов, за узорной кованой оградой, которая – та же решетка, за железными жалюзи и сигнальною аппаратурой своих вилл. Странное сходство… впрочем, вовсе не странное, но я так устал…»
Он зевнул. Девушка тотчас отвела глаза от плиты и посмотрела на него. Она кивнула ему, тихо улыбнувшись, с подчеркнутой серьезностью. Значит, еще одна девушка, и тоже миловидная… ах, девушек сколько угодно, и всюду кивки, сочувствие!.. «Но что, скажите на милость, что мне делать? Не могу же я сидеть тут у вас… Чего я, собственно, жду? Ведь не Лизбет же, в самом деле, что она может мне сказать? „Молись и работай. – Кто рано встает, тот богато живет. – Работа и труд как на крыльях несут. – Работа красит гражданина, работа услаждает жизнь“. И конечно, „Работа никого не унижает“ и „Кто работает, не даром ест свой хлеб“, а посему „Возделывай свой виноградник, работай и не падай духом“.
„Ах, – снова подумал Вольфганг и улыбнулся слабой улыбкой, как будто ему чуть-чуть противно, – сколько люди насочиняли поговорок, сами себя уговаривая, что они должны работать и что работа эта что-то хорошее. А между тем все они с превеликим удовольствием сидели бы тут, как я, ничего не делая, и ждали бы сами не зная чего, как я не знаю, чего жду. Только вечером за игорным столом, когда шарик жужжит и стучит и должен вот-вот упасть в лунку, тут я знаю, чего жду. Но когда он потом падает в лунку, все равно в желанную или другую, тогда я уже опять не знаю, чего жду“.
Он смотрит прямо вперед, у него совсем не плохая голова, нет, в ней копошатся мысли. Но он бездельник и лентяй, он ничего не хочет додумать до конца. Почему?.. Таков я есть и таким останусь. Вольфганг Пагель – for ever! [навсегда (англ.)] Он безрассудно спустил последние пожитки, свои и Петрины, только ради того, чтобы поехать к Цекке и занять у него денег. Но, добравшись до Цекке, он так же безрассудно, из задора, разрушил всякую надежду на деньги. А потом, все так же безрассудно, пошел за первой встречной и теперь сидит здесь, безвольный листок на темной, мелкой, стоячей воде, воплощение всех безвольных листков. Расхлябанный, не лишенный данных, не лишенный доброты и довольно милый, – но правильно о нем сказала старая Минна: надо, чтобы опять пришла нянька, взяла за руку и сказала ему, что он должен делать. В самом деле, пять с лишним лет он все тот же портупей-юнкер в отставке.
Лизбет, верно, разнесла по всему дому весть о его приходе.
На кухню входит полная женщина, не дама – женщина. Она бросает быстрый, почти смущенный взгляд на Вольфа и громко говорит, остановившись у плиты:
– Звонил только что барин. Мы обедаем ровно в половине четвертого.
– Хорошо! – говорит девушка у плиты, и женщина уходит, не преминув еще раз бросить на Вольфганга внимательный взгляд.
„Глазеют, остолопы! Надо смываться!“
Снова открывается дверь, и входит лакей в ливрее, доподлинный лакей. Он не нуждается, как та толстуха, в каком-то предлоге, он наискосок пересекает кухню, поднимается на две ступеньки и подходит к сидящему за столом Вольфгангу. Лакей уже пожилой человек, но лицо у него румяное, приветливое.
Без тени смущения он протягивает Вольфгангу руку и говорит:
– Меня зовут Гофман.
– Пагель, – говорит Вольфганг после короткого колебания.
– Очень душно сегодня, – приветливо говорит лакей тихим, но очень четким, обработанным голосом. – Не прикажете принести вам чего-нибудь прохладительного – бутылку пива?
Вольфганг секунду раздумывает, потом:
– Нельзя ли попросить стакан воды?
– Пиво расслабляет, – соглашается тот. И приносит стакан воды. Стакан стоит на тарелке, и в воде плавает даже кусочек льда, все как полагается.
– Ох, вот это приятно, – говорит Вольфганг и жадно пьет.
– Не торопитесь, – говорит лакей все с тою же приветливой важностью. Всей воды вы у нас не выпьете… Льда тоже хватит, – добавил он, помолчав, и в углах его глаз заиграли морщинки. Однако приносит еще стакан.
– Очень признателен, – говорит Вольфганг.
– Фройляйн Лизбет сейчас занята, – говорит лакей. – Но она скоро придет.
– Да, – говорит медленно Вольфганг. И встряхнувшись: – Я, пожалуй, пойду, я уже отдохнул.
– Фройляйн Лизбет, – продолжает приветливо лакей, – очень хорошая девушка, хорошая и работящая.
– Конечно, – вежливо соглашается Вольфганг. Лишь мысль о последних своих деньгах в кармане фройляйн Лизбет еще удерживает его здесь. Эти две-три еще недавно презираемые им бумажки позволят ему быстро вернуться на Александерплац.
– Хороших девушек много, – подтверждает он.
– Нет, – говорит решительно лакей. – Извините, если я вам возражу: хорошие девушки того сорта, какой я разумею, встречаются не часто.
– Да? – спрашивает Вольфганг.
– Да. Добро надо делать не только ради того, что это тебе приятно, а из любви к добру. – Он еще раз посмотрел на Вольфганга, но уже не так приветливо, как раньше. („Чучело гороховое“, – думает Вольфганг.)
Лакей говорит, как бы ставя точку:
– Подождите, теперь уже недолго.
Он уходит из кухни так же тихо, так же степенно, как вошел. Вольфгангу кажется, что у лакея сложилось о нем неблагоприятное суждение, хоть он, Пагель, почти ничего ему не сказал.
Нужно посторониться: девушка, возившаяся у плиты, подходит со скатертью, потом с подносом и начинает накрывать на стол.
– Не беспокойтесь, сидите, – говорит она. – Вы не мешаете.
У нее тоже приятный голос. „Люди в этом доме хорошо говорят, подумалось Вольфгангу. – Очень чисто, очень четко“.
– Это ваш прибор, – говорит девушка гостю, который, ни о чем не думая, воззрился на бумажную салфетку. – Вы сегодня обедаете у нас.
Вольфганг делает бездумное, но отклоняющее движение. В нем просыпается беспокойство. Дом стоит совсем неподалеку от палаццо фон Цекке, и все же очень от него далеко. Но зачем же с ним разговаривают как с больным, нет, как с человеком, который в припадке безумия сделал что-то дурное и с которым говорят пока что бережно, чтоб не разбудить его слишком неожиданно.
Девушка сказала:
– Вы же не захотите огорчить Лизбет. – И, помолчав, добавила: – Барыня разрешила.
Она накрывает, позвякивает ножами и вилками – чуть-чуть, ее руки делают все проворно и бесшумно. Вольфганг сидит неподвижно, это, должно быть, какое-то оцепенение – от жары, конечно. „Как будто пришел с улицы нищий и ему с разрешения хозяев подают обед. Мама приказала бы Минне намазать маслом ломоть-другой хлеба, на кухню нищие не допускались. В лучшем случае подавалась через дверь тарелка супа, которую надо было выхлебать, сидя на лестнице.
Здесь, в Далеме, больше утонченности, но для нищего разница невелика: за дверьми ли он или на кухне, нищий остается нищим, и днесь, и присно, и навеки. Аминь!“
Он ненавидит себя за то, что не уходит. Не нужно ему никакого обеда, что ему обед? Он может пойти обедать к матери; Минна рассказывала, что там для него всегда ставится прибор. Ему не то что стыдно, но нечего разговаривать с ним как с больным, которого нужно щадить, он не болен! Только эти проклятые деньги! Почему он не выхватил у нее из рук свои жалкие бумажки? Он сейчас сидел бы уже в поезде метро…
Он нервно вынул сигарету, приготовился уже закурить, но девушка сказала:
– Пожалуйста, если можете потерпеть, не сейчас. Как только я отошлю кушанья. Барин так чувствителен к запахам…
Дверь раскрывается, и входит девочка, господская дочка лет десяти двенадцати, светлая, радостная, легкая. Она, конечно, ничего не знает о злом, сером, чадном городе где-то там! Ей хочется посмотреть на нищего, по-видимому, в Далеме нищий и впрямь редкое явление!
– Папа едет, Трудхен, – говорит она девушке у плиты. – Через четверть часа можно подавать… Что на обед, Трудхен?
– Пришла по кастрюлям нюхать! – смеется девушка и снимает крышку. Поднимается пар, девочка деловито потягивает носом. Говорит:
– Ох, зеленый горошек, только и всего. Нет, правда, Трудхен, скажи!
– Суп, мясо и зеленый горошек, – говорит Трудхен, состроив постную мину.
– А потом? – настойчиво спрашивает девочка.
– А потом – суп с котом! – смеется нараспев девушка у плиты.
„Есть еще на свете и это, – думает Вольфганг с улыбкой и отчаяньем. Выходит, что есть еще. Мне только не приходилось этого видеть в моей конуре на Георгенкирхштрассе, вот я и позабыл. Но есть еще, как прежде, настоящие дети, невинность, неиспорченная, неведающая невинность. Еще важно спросить, что дадут на сладкое, когда сотни тысяч не спрашивают даже о хлебе насущном. Повальные грабежи в Глейвице и Бреславле, голодные бунты во Франкфурте-на-Майне, в Нейруппине, Эйслебене и Драмбурге…“
Он смотрит на ребенка, смотрит, не приемля. „Надувательство, – думает он, – искусственная невинность, боязливо охраняемая невинность, так же вот, как они вставляют решетки в окна. Но жизнь идет – что останется через два-три года от этой невинности?“
– С добрым утром! – говорит ему девочка. Она его только сейчас заметила, потому, может быть, что он отодвинул стул, чтобы встать и уйти. Он берет протянутую ему руку. У девочки темные глаза под ясным красивым лбом, она серьезно смотрит на него.
– Вы тот господин, который пришел с нашей Лизбет? – спрашивает она с сочувствием.
– Да, – говорит он и пробует улыбнуться в ответ на эту чрезмерную серьезность. – Сколько тебе лет?
– Одиннадцать, – говорит она вежливо. – И у вашей жены нет ничего, кроме пальто?
– Правильно, – говорит он и все еще пробует улыбнуться и принять легкий тон. Но проклятая это штука – услышать о своих делах в изложении постороннего, да еще ребенка! – И она ничего не ела и, верно, ничего не получит, ни даже мяса с макаронами.
Девочка, однако, и не заметила, что он хотел ее уколоть!
– У мамы так много вещей, – говорит она задумчиво. – Большую часть она даже не надевает.
– Правильно, все как полагается, – повторил он и сам себе показался жалок в своем дешевом молодечестве. – Такова жизнь. Ты это еще не проходила в школе? Нет?
Он все ничтожней, все мельче, особенно перед этими серьезными глазами, которые смотрят на него, смотрят почти печально.
– Я не хожу в школу, – говорит девочка с подчеркнутой, немного тщеславной серьезностью. – Ведь я слепая. – Опять тот же взгляд в упор, потом: – Папа тоже слепой. Но папа раньше видел. А я никогда не видела.
Она стоит перед ним, и у него, так неожиданно наказанного за свою дешевую насмешку, у него все усиливается чувство, будто девочка смотрит на него. Нет, не глазами, но, может быть, ясным лбом, смело изогнутыми, немного бледными губами. Точно слепой ребенок видит его лучше, чем зрячая Петра. Девочка рассказывает:
– Мама видит, но она говорит, что лучше бы и ей стать слепой, а то она не знает, как у нас на душе, у меня и у папы. Но мы ей этого не позволяем.
– Нет, – соглашается Вольфганг. – Вы этого, разумеется, не хотите.
– Фройляйн, и Лизбет, и Трудхен, и господин Гофман тоже рассказывают нам, что они видят. Но когда рассказывает мама, это совсем другое.
– Потому что это мама, да? – спрашивает осторожно Вольфганг.
– Да, – говорит девочка. – Папа и я, мы оба мамины дети. Папа тоже.
Он молчит, но девочка и не ждет ответа, вещи, о которых она говорит, представляются ей, должно быть, чем-то само собой понятным, да и что тут скажешь?
– У вашей жены есть еще мама? – спрашивает она. – Или у нее никого нет?
Вольфганг стоит с жалкой улыбкой на губах.
– Нет, у нее нет никого, – говорит он решительно. И думает: „Уйти! Скорее уйти!“ В своем безлюбии, в своей половинчатости он получил нокаут от ребенка.
– Папа непременно даст вам денег, – объявила девочка. – А мама хочет сегодня после обеда поехать к вашей жене. Где это?
– Георгенкирхштрассе семнадцать, – говорит он. – На втором дворе, говорит он. – У госпожи Туман, – говорит он.
„Только бы ей помогли! – вскипает в нем. – Ей надо помочь! И она заслуживает помощи!“
Он ускользает, твой мир, в котором ты несся, бедный, опутанный, опутывая других. Вдруг, когда ты почувствовал, что она от тебя освобождается, ты замечаешь, как она тебе дорога. Ты изгнан во мрак, вдали еще мерцает свет, но гаснет и он. Ты один… Можешь ли ты вернуться назад, и вернешься ли, ты не знаешь! Были у нас хорошие часы, но они ушли в песок. Изредка еще привкус на губах, летучий, сладкий – и мимо! И прочь! Бедная Петра!.. Он в самом деле нищий, потому что теперь, когда близится поворот, быть может помощь, он чувствует, что помощь ему не поможет, потому что он пустой, выжженный и пустой. Мимо! Мимо!
– Ну, я пойду, – сказал он на всю кухню. Он подал руку девочке, кивнул головой, спросил: – Ты запомнила адрес? – и вышел. Вышел в зной, в тесный, беснующийся, неугомонный город, чтобы снова вступить в борьбу за хлеб и деньги – ради чего, ради кого?
Этого он не знал все еще, долго еще не знал.
6. МЕЙЕРУ ДОВЕРЯЮТ ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО
Замком называли в Нейлоэ дом старого барина. Ротмистр фон Праквиц жил на добрых полкилометра в стороне, уже среди полей, вне усадьбы, в небольшой вилле. Шесть комнат в современном духе, неряшливая, успевшая обветшать постройка первых времен инфляции. Замок, из которого старый барин нипочем не согласился бы выехать, уже ради того, чтобы оставаться вблизи своих милых сосен и присматривать, кстати, за зятем, – замок представлял собой, правда, всего лишь желтый ящик, но комнат было в нем втрое больше, чем у молодых, и был здесь как-никак настоящий парадный подъезд и большая комната со сплошными стеклянными дверьми прямо в сад, именуемая „залой“, был и парк.
Мейер-губан прошел мимо замка. Ему там нечего было искать, да он сегодня ничего и не искал, раз что старая барыня изволит гневаться. Дальше, в неудобно близком соседстве – слишком уж на виду – стоял флигель для служащих, где помещалась контора и его, Мейера, комната (все прочее по установленной ротмистром системе экономии пустовало, но ведь ротмистр был великий человек).
Желая спросить у барышни, что ей сказал по телефону отец, Мейер прошел сперва к себе, вымыл руки и лицо. Потом он, не скупясь, вылил на грудь одеколон „Русская юфть“, несомненно, самый правильный запах для деревни. Как гласила реклама: „крепкий, мужественный, благородный“.
Потом он посмотрел на себя в зеркало. Давно миновало то время, когда Мейер свой маленький рост, оттопыренные губы, приплюснутый нос, выпученные глаза воспринимал как позорный недостаток. Успех у женщин убедил его, что дело не в красоте. Наоборот: несколько особенная наружность даже привлекала, девушек тянуло на нее, как диких коз на солончак.
Понятно, с Виолетой будет потруднее, чем с какой-нибудь Амандой Бакс или Зофи Ковалевской. Но Мейер-губан твердо держится мнения, опять-таки расходясь со своим работодателем, господином ротмистром, что маленькая Вайо, хоть ей всего пятнадцать лет, изрядная курва! Эти взгляды, эта молодая, нарочито выставляемая грудь, эта манера говорить – наглая, а через секунду ангельски-невинная, – все это было отлично знакомо такому, как он, опытному стрелку. Да и что удивляться: рассказывают, господин фон Тешов в свое время выставил любовника из спальни ее матери, тогда еще незамужней, при помощи кнута, которого после отведала и его супруга. Может, сплетничают люди, но мир велик, и в нем все возможно. Яблочко от яблони недалеко падает. Что бы ни думал, глядясь в зеркало, – коротышка Мейер, управляющий имением, было бы слишком сильно назвать его за эти мысли интриганом или подлым обольстителем. То не были планы, то было бахвальство молодости, тщеславие, сладострастные мечты. Он, как молодой пес, обладал огромным аппетитом, дать ему волю, он съел бы все, а Виолета была и впрямь лакомый кусок!
Но в точности так, как бывает у молодого пса, его страх по меньшей мере не уступал его аппетиту – только бы не отведать плетки! Так нагло и бесцеремонно, как с Амандой, он никогда не повел бы себя с Вайо, за которой стоял скорый на расправу отец. Если в мечтах Мейер легко все улаживал вплоть до побега и тайного венчания, то возвращение к тестю его страшило. Он даже и не пытался придумать, как с ним заговорит, когда вернется домой, все переговоры предоставлялись молодой жене. Лично с нею страх и почтение были не обязательны: стоит разок переспать с женщиной, и она становится не лучше того, с кем спала, и даже ее дворянское благородство (чепуховина, хоть и внушающая почему-то почтение и страх) сразу сотрется с нее, как лак с фабричной мебели: обыкновенная сосна и только.
Мейер-губан глядит, ухмыляясь, в зеркало. „Ты все-таки молодчина!“ означает его ухмылка, и как бы в подтверждение такой самооценки он вспоминает, что сегодня утром „лейтенант“ говорил с ним совсем в ином, более товарищеском тоне, чем со старым подлипалой Книбушем.
Мейер делает ручкой своему отражению, приветливо ему кивает: „Счастливого пути, любимец счастья!“ – и отправляется к Виолете фон Праквиц.
В конторе прибирает фрау Гартиг, жена кучера, баба еще в соку; она бы тоже не прочь, но женщины, когда им больше двадцати пяти, для Мейера стары. Добрая Гартиг – ей двадцать семь, и у нее чуть не восемь детей сегодня крепко сжала губы. Глаза злобно сверкают, лоб наморщен. Мейера это не волнует, но только он хотел пройти мимо, как с письменного стола упала с грохотом массивная настольная лампа, и зеленый абажур разбился вдребезги.
Как тут Мейеру не остановиться, не поговорить.
– Ну-ну, – ухмыльнулся он. – Когда бьется стекло, это к счастью, кому же посчастливится, вам или мне? – И так как она только глядит на него молча, но сверкая злобно глазами: – Что с вами? Томитесь перед грозой? Стало что-то подозрительно душно.
И он машинально смотрит на барометр, который с полудня медленно, но неуклонно падает.
– Со мной вы оставьте ваши глупости! – говорит Гартиг пронзительно и злобно. – Думаете, я долго еще буду выносить тут за вами дерьмо? – И она запускает руку в карман передника, раскрывает ее – на ладони три шпильки для волос. (В 1923 году стрижка „бубикопф“ не покорила еще деревню.) – Это лежало в вашей кровати! – почти визжит Гартиг. – Гад! Свинья! Я здесь больше убирать не буду, а покажу это барыне!
– Которой, фрау Гартиг? – смеется Мейер. – Старая и так знает и уже за меня молится, а молодую этим не удивишь, она только посмеется.
Он смотрит на нее надменно, насмешливо.
– Подлая баба! – визжит Гартиг. – Могла бы, кажется, посмотреть в кровати, перед тем как вытряхаться. Так нет же, я еще должна убирать тут за ней, я – за птичницей! Стыда у ней нет, у скотины!
– Верно, верно, фрау Гартиг, именно так! – говорит серьезно Мейер-коротышка. И опять ухмыляется: – А у вашего младшенького волосики рыжие, да? Совсем как у здешнего скотника. Что же, он будет кучером, как отец, или же скотником, как незаконный папаша?
С этими словами Мейер удаляется, сдавленно хихикая, очень довольный собой, в то время как фрау Гартиг, еще злая, но уже наполовину укрощенная, разглядывает три шпильки на своей ладони. „Он, сукин сын, хоть и сволочь, но с перчиком; даром, что недоросток!“
Она еще раз взглянула на шпильки, встряхнула их на ладони, так что они звякнули, и решительно воткнула в прическу.
„Я еще тебя заполучу, – думает она. – Не вечно же Аманде верховодить!“
Она убирает осколки разбитого абажура, очень довольная, потому что твердо уверена, что они принесут счастье ей.
Мейер тоже думает об осколках и о счастье, которое они должны тут же на месте принести ему. В наилучшем расположении духа он подходит к вилле ротмистра. Сперва он высматривает в саду, потому что охотней поговорил бы с Вайо в таком месте, где ее мать их не услышит, но в саду ее нет. Это нетрудно установить, так как сад, хоть и не мал, просматривается с одного взгляда весь насквозь: творение барыни, созданное по ее капризу среди чистого поля два года тому назад и уже засыхающее.
Ничто не могло бы лучше отобразить положение вещей в Нейлоэ и различие между владельцем и арендатором, чем сопоставление тешовского парка с садом Праквица: там – столетние высокие деревья, в расцвете сил, густолиственные, в соку, здесь – два-три десятка голых палок с редкими, уже пожелтевшими листиками. Там – широкие лужайки под темно-зеленым газоном, здесь – скудная трава, жесткая, желтая, в безнадежной борьбе с постоянно ее вытесняющими хвощами, пыреем, кукушкиными слезками. Там довольно большой пруд с лодками и лебедями, здесь – так называемый бассейн, выложенный, правда, золенгофенским плитняком, но наполненный какой-то зеленой жижей. Там – непрерывный рост из века в век; здесь нечто едва народившееся и уже отмирающее… Но все-таки ротмистр – великий человек.
Управляющий Мейер уже приготовился нажать звонок, когда его откуда-то окликнули. На плоской крыше, пристроенной к дому кухни (самый обыкновенный толь), стоит шезлонг и большой садовый зонт, к стенке кухни прислонена лестница. Сверху зовут:
– Господин Мейер!
Мейер вытянулся в струнку:
– Что прикажете?
Недовольный голос сверху:
– Зачем вы пришли? Мама совсем раскисла от жары, хочет спать, не вздумайте ее беспокоить!
– Я только хотел спросить, барышня… Господин фон Тешов сказал мне, что господин ротмистр звонил по телефону… – Немного раздраженно: – Я насчет коляски… Посылать мне сегодня вечером на станцию или нет?
– Да не кричите вы так! – кричит голос сверху. – Я вам не батрачка! Маме нужен покой, я же вам сказала!
Мейер огорченно смотрит вверх на плоскую крышу. Очень уж высоко, а он стоит внизу: он совсем не видит той, которую в мечтах обольстил и увез венчаться, только кусок шезлонга и кусок побольше от зонта. Собравшись с духом, он пробует шепотом так громко, как только может:
– Посылать мне коляску… сегодня вечером… на станцию?..
Пауза. Тишина. Ожидание. Потом сверху:
– Вы что-то сказали? Насчет станции? „На вокзал так на вокзал!“
– Хи-хи-хи! – Мейер подобострастно смеется над этим ходким выражением. Потом повторяет свой вопрос немного громче.
– Кричать нельзя! – тотчас осадили его.
Он стоит, он, конечно, превосходно знает, что девчонка над ним потешается. Ведь он только папин управляющий. Он обязан делать что ему прикажут. Обязан стоять и ждать, пока барышня отдыхает. Ладно, погоди, голубушка, в один прекрасный день тебе самой придется стоять и ждать – не кого иного, как меня!
Но, по-видимому, он прождал уже достаточно долго, потому что она кличет сверху (кстати сказать, удивительно громко для такой внимательной дочки):
– Господин Мейер! Вы замолчали? Вы еще здесь?
– Здесь, барышня, к вашим услугам.
– А я уж думала, вы растаяли на солнце. Помады вы на голову не пожалели. Знаю, знаю, для кого вы так стараетесь!
(И до нее уже дошло! Ну, да оно невредно – разжигает у девчонки аппетит!)
– Господин Мейер!
– К вашим услугам, барышня!
– Когда вы достаточно простоите внизу, вы, может быть, заметите, что там есть лестница, и объясните мне здесь наверху, что вам, собственно, нужно.
– К вашим услугам, барышня! – повторяет Мейер и взбегает по лестнице наверх.
„К вашим услугам, барышня“, – никогда не повредит, это льстит ей, ничего мне не стоит, подчеркивает расстояние и позволяет все. Можно заглядывать в декольте и в то же время с полным почтением говорить „к вашим услугам, барышня“; можно даже говорить это и одновременно целовать… „К вашим услугам, барышня!“ – звучит по-рыцарски, по-кавалерски, молодцевато, как у офицеров в Остаде», – думает Мейер-губан.
Он стоит в ногах ее шезлонга и послушно, но с наглым прищуром смотрит на свою молодую госпожу, которая лежит перед ним в купальном костюме, очень коротком. Виолета фон Праквиц в свои пятнадцать лет уже довольно полна, пожалуй, даже слишком полна для этого возраста: тяжелая грудь, мясистые бедра, крутой зад. У нее мягкое тело, слишком белая кожа анемичной девочки-подростка и к этому большие, немного навыкате, как у матери, глаза. Они у нее голубые, бледно-голубые, сонно-голубые. Свои голые руки она закинула кверху, милое, невинное дитя, чуть выпятила грудь… Вид совсем недурной – красива, стерва, и… черт побери, какое тело! Так и просится, чтоб его обняли.
Сонно и как будто похотливо она всматривается из-под опущенных, почти сомкнутых век в лицо управляющего.
– Ну, что вы так смотрите? – вызывающе спрашивает она. – На общем пляже я тоже хожу в таком виде. Не валяйте дурака. – Она изучает его лицо. Потом: – Да, увидела бы мама нас тут вдвоем…
Он борется с собой. Солнце жжет сумасбродно жарко, слепит глаза, вот она опять растянулась. Он делает шаг…
– Я… Вайо, о Вайо…
– Ой-вай, ай-ай-ай! – смеется она. – Нет, нет, господин Мейер, вы лучше станьте опять там, около лестницы. – И вдруг, как светская дама: – Вы смешны! Вы, верно, что-то себе вообразили? Но стоит мне крикнуть, мама тут же подойдет к окну!
И как только он послушно отошел:
– Сегодня посылать на станцию не нужно. Может быть, завтра утром, к первому поезду. Папа будет звонить еще раз.
Превосходно все понимает, стерва! Хочет только порисоваться, подразнить! Но подожди, ты у меня будешь ручной!
– А почему вы не приказываете свозить хлеб? – спрашивает молодая девушка, та, которую он похитит, с которой тайно обвенчается.
– Потому что сперва нужно вязать снопы и скирдовать. (В довольно сварливом тоне.)
– Если разразится гроза и все намокнет, папа вам закатит большой скандал.
– Если никакой грозы не будет, а я распоряжусь свозить, он тоже закатит мне скандал.
– Но гроза будет.
– Этого знать наперед нельзя.
– А я знаю.
– Значит, вам угодно, барышня, чтоб я приказал свозить?
– Ничего мне не угодно! – Она раскатисто смеется, ее сильная грудь, стянутая купальником, почти прыгает. – Чтобы вы потом, если папа рассердится, свалили вину на меня? Нет уж, наглупили, – так расхлебывайте сами!
Она смотрит на него с благосклонным превосходством. Ну и нагла же она, эта пятнадцатилетняя девчонка!.. А почему нагла? Потому что она случайно урожденная фон Праквиц, наследница Нейлоэ – вот и позволяет себе что хочет!
– Так я могу идти, барышня? – спрашивает Мейер-губан.
– Да. Ступайте, хлопочите по хозяйству. – Она повернулась на бок, еще раз насмешливо оглядела его. Он уже уходит.
– Эй, господин Мейер! – зовет она.
– К вашим услугам, барышня! – Ничего не поделаешь, он иначе не может.
– Что там, навоз вывозят, что ли?
– Нет, барышня…
– Почему же от вас так странно пахнет?
Он не сразу сообразил, что она намекает на его одеколон. Сообразив же, он без слов, красный от ярости, делает крутой поворот и скатывается поскорей по лестнице.
«Ох, стерва! С такой стервой нечего церемониться! Красные совершенно правы: к стенке всю их наглую свору! Аристократы! Будь они трижды прокляты! Наглость, бесстыднейшая наглость… Ничего в них нет, одно чванство…»
Он спустился с лестницы, повернулся, чтобы уйти, его короткие ноги яростно попирают землю. И тут снова раздается голос сверху, голос с неба, голос барышни, «милостивой госпожи»:
– Господин Мейер!
Мейер вздрогнул. Он кипит злобой, но все же иначе не может, – кипит злобой и отзывается:
– К вашим услугам, барышня!
Сверху очень немилостиво:
– Я уже который раз вам говорю, не смейте так кричать! Мама спит! – И нетерпеливо: – Подымитесь опять наверх!
Мейер взлетает по лестнице, и внутри у него все клокочет от ярости. «Вот еще, прыгай как ей тут вздумается, вверх-вниз, что твоя лягушка! Ну, погоди, как добьюсь своего, я тебя непременно брошу – с ребенком на руках и без гроша денег…»
И все-таки снова руки по швам:
– Что прикажете, барышня?..
Виолета не думает больше о том, чтобы выставлять перед ним напоказ свое тело, она мнется, но решение уже приняла. Она только не знает, как ему объявить. И наконец выкладывает самым невинным тоном:
– Мне нужно отправить письмо, господин Мейер.
– К вашим услугам, барышня.
Письмо, непонятно откуда взявшись, вдруг оказалось у нее в руке, продолговатый блекло-голубой конверт; насколько можно было разглядеть с того места, где стоял Мейер, надписи не было…
– Вы идете сегодня вечером в деревню?..
Он ошеломлен и растерян. Она сказала это просто так или ей что-нибудь известно? Но нет, быть не может!
– Не знаю, возможно. Если вам желательно, барышня, пойду непременно!
– Вас спросят, нет ли письма. Передайте ему из рук в руки.
– Кто спросит? Я не понимаю…
Она вдруг рассердилась, вскипела:
– Вам и не нужно ничего понимать. Делайте то, что вам говорят. Вас спросят про письмо, и вы его отдадите. Это же так просто!
– К вашим услугам, барышня, – говорит он. Но сейчас это прозвучало как-то тускло, он слишком занят своими мыслями.
– Так, – сказала она. – Вот и все, господин Мейер.
Ему отдают конверт. Еще не верится, но вот оно, письмо, у него в руках, оружие против нее! «Подожди, цыпочка! Теперь ты меня не проведешь!»
Он весь подобрался:
– Будет исполнено в наилучшем виде, барышня! – И опять слезает вниз по лестнице.
– Я думаю! – вызывающе звучит вдогонку ее голос. – Не то я расскажу дедушке и папе, кто подпалил лес.
Голос смолкает. Мейер застыл на середине лестницы, чтоб не упустить ни слова.
«Так! Вот оно что! Понятно! Ну-ну! „Кто подпалил“, – сказала она. В самую точку. Браво! Для пятнадцати лет просто великолепно. Из тебя кое-что выйдет! Нет, можешь даже оставаться такой, как есть!»
– Да и господин лейтенант тоже шутить не любит, – добавляет голос… И коротышка Мейер слышит, как она там наверху поворачивается на бок своим полным ленивым телом. Шезлонг покряхтывает. Фройляйн Виолета фон Праквиц нежится там наверху, а управляющий Мейер должен тут внизу возвращаться на работу. Правильно – так и должно быть!
Но Мейер, коротышка Мейер, Мейер-губан не спешит на работу. Очень медленно, погруженный в мысли, он семенит по дорожке сада к своей конуре. Письмо лежит в боковом кармане его холщовой тужурки, и он прижал руку к гладкой поверхности конверта, чтобы все время чувствовать его. Он должен чувствовать, что письмо действительно у него, что оно существует. Письмо, которое он сейчас прочтет. Она сказала очень немного, эта маленькая, прожженная дрянь, но для него она сказала достаточно. Вполне достаточно! Она, стало быть, знает лейтенанта, этого загадочного, немного обтрепанного, но весьма заносчивого господина, который созывает ночные собрания у старосты и перед которым лесничий Книбуш стоит навытяжку. И сегодня между двенадцатью и тремя она, очевидно, виделась с господином лейтенантом, иначе откуда бы ей знать про пожар.
Но, выходит, господин лейтенант кивнул так по-товарищески управляющему поместьем Мейеру вовсе не по той причине, что о Губане он более высокого мнения, чем о старом хрыче Книбуше, а потому, что уже тогда знал: Мейер намечен в передатчики тайных писем! Он отлично обо всем осведомлен, господин лейтенант, здесь, в Нейлоэ! Длительные тайные сношения!








